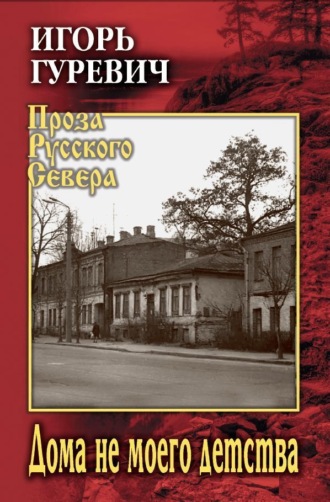
Игорь Гуревич
Дома не моего детства
Владлена, однако, пришла к назначенному часу – и всё у них закрутилось-завертелось, будто на самой расчудесной карусели. И случилось так, что Семён сам не заметил, как влюбился в эту случайную бабу, по уши влюбился и вместо разовой премии себе выписал судьбе долговую расписку на всю оставшуюся жизнь…
5
Владлена шла по улице имени Воровского, которую все продолжали называть Крещатик и никак иначе. Кто был тот Воровский, она толком не знала. Это нынешняя мода такая – улицы именами советских деятелей и героев называть. Например, бывшая Фундуклеевская, по которой она выходила на главный проспект Киева, нынче носит имя Ленина. Но с этим хоть всё понятно: Ленин – это Ленин, вождь мирового пролетариата, прародитель Страны Советов.
Когда Колька вступал в пионеры, в доме чуть не каждый день звучало это имя. Правда, звучало как-то ущербно, будто подмена: вместо Ленин – Ильич. Владлене это казалось оскорбительным. Она смутно помнила из давних, полных неведения и потому счастливых детских лет, как по соседству с их семьей, в полуразвалившейся мазанке жил вечно пьяный бобыль Степан Ильич. Так его никто по имени и не звал, а так, запросто, будто собачку подманивали: «Эй, Ильич! Подь сюда, подсоби, я тебе за то первача в стакан плесну». И тот подбегал с трясущимися руками, приплясывая на ходу. Разве что хвостом не вилял, поскольку не имел этого самого хвоста. А имел бы… эх! Владкин дед так и говорил: «Ильич и есть Ильич: кличка пёсья. Пустой мужик, бесполезный. Только жалко… как брошенную собаку».
Так что когда сын поминал Ильича, Владлена непроизвольно вздрагивала, будто слышала сигнал из детства. Но никуда не денешься: сын есть сын – приходилось соответствовать. Особенно весь мозг Владлене он вынес, когда заучивал торжественное обещание перед вступлением в пионеры. Колька запоминать всякие тексты был не мастак. Даже стишок в четыре строчки мог учить не один день, а как только в школе к доске вызывали, забывал напрочь. То ли дело Ривкин Буська: с лёту всё схватывал и тут же мог повторить слово в слово, и не только с листа, но и с чужого голоса. Колька же нет: ему надо было повторить сто, а то и тысячу раз. Да ещё чтобы кто-то при этом следил по написанному и поправлял или напоминал, когда Колька замирал надолго, мучительно закатывая глаза, словно в надежде обнаружить подсказку где-то в недрах черепной коробки. В результате бесконечных мучений пионерскую клятву наизусть выучила Владлена – ночью разбуди, могла отбарабанить без запинки, – а Колька ни в какую.
– Я, юный пионер СССР… – бубнила, не заглядывая в бумажку, Владлена.
– Я юный пионер… – бессмысленно повторял Колька.
– …перед лицом товарищей торжественно обещаю…
– …перед лицом товарищей торжественно обещаю, – покорно повторял сын.
– что…
– Что-что? – вскидывался Колька, не понимая.
– Не задавай вопросы! – не выдерживала Владлена. – Просто скажи: «что».
– Зачем? – не унимался будущий пионер.
– Господи, дай мне сил! – как положено в подобных сложных обстоятельствах, взывала мать к главному воспитателю и создателю всего и вся.
– При чём здесь Бог?! Мамка, ты сдурела?! У меня теперь в голове вообще всё перемешается. А если я с перепугу это ещё и ляпну на торжественной линейке, меня ж не только в пионеры не примут, меня вообще из школы выгонят!
В ответ у Владлены чуть не сорвалось с ещё большей страстью: «О Господи!» – и щепоть сама потянулась ко лбу, чтобы перекреститься, но вовремя осеклась и только прорычала, как раненая тигрица:
– Хватить балаболить! Повторяй: «…что буду твёрдо стоять за дело рабочего класса…»
И так длилось каждый божий день в течение двух недель. В конце концов с грехом пополам Колька выучил клятву и мог, хоть спотыкаясь, умолкая в самых неподходящих местах, но всё же произнести полностью четыре магические строки, которые Владлена про себя называла «пионерской молитвой» и каждый раз прикусывала язык, боясь это ляпнуть при Кольке. Хотя как ещё назовешь этот текст, если не молитва: тут и обещания не грешить, и призыв к «высшим силам». Только заместо Христа у пионеров Ильич. Но по сути какая разница?
«Буду честно и неуклонно выполнять заветы Ильича – Законы юных пионеров» – концовка у Кольки получалась на ура, без запинки, прямо от зубов отскакивала. Мальчик словно радовался: наконец-то отговорил! На этих словах глаза у него загорались каким-то невозможным, яростным светом. «Словно архангел!» – любовалась мать сыном и зажимала рот ладонью, чтобы скрыть улыбку радости: того гляди заметит, поганец, решит, что мать насмехается. Но глаза её выдавали – наливались слезой. А Колька на самом деле с каждым звуком последних «аккордов» клятвы переставал что-то замечать вокруг себя и чувствовал, как набухают мышцы на руках, напрягаются ноги, распрямляется спина. Имя Ильича он уже не говорил, а выкрикивал мальчишечьим фальцетом. И, произнеся последний звук, не давая себе передышки, делал то, ради чего затевался весь этот ритуал.
– К борьбе за дело Коммунистической партии будь готов! – скороговоркой, захлёбываясь словами, словно от лица незримо присутствующей пионервожатой, приказывал сам себе Колька. После этого замирал на секунду, вытягивался в струнку, хотя, казалось, куда ещё больше, набирал полную грудь воздуха, вздёргивал поперёк лба правую руку в пионерском салюте и орал на всю мощь: «Всегда готов!» В это мгновение его словно не было ни в их небольшой комнатёнке, ни в Киеве, ни вообще на грешной земле. Так что Владлена, стоя рядом, успевала трижды мелко-мелко осенить сына крестным знамением.
Как-то, заглянув в церковь на окраине Киева – к тому времени большую часть их снесли или переделали под «общественные нужды», предварительно убрав купола да кресты, – она спросила у приходского священника про «пионерскую молитву». Особенно не давал ей покоя этот истошный крик: «Всегда готов!» Священник был человек, по всему видать, образованный. На её вопрос он улыбнулся и успокоил:
– Это всё Божье дело, душа моя. Ещё в Евангелии от Матфея сказано «vos estote parati» – «вы будьте готовы». На что христиане в той же Англии отвечали: «Semper paratus» – «Всегда готов»… – И добавил: – А что там про партию, так это, может, даже и к лучшему… Когда-то, в годы моего детства, это был девиз русских скаутов…
На этих словах батюшка осёкся, словно испугавшись чего-то, и не стал дальше ничего пояснять, а быстро перекрестил Владлену, как-то неловко сунул ей руку для поцелуя и ускользнул в ризницу.
Владлена не всё поняла из сказанного священником, но главное усвоила про Евангелие и Божий призыв. «Значит, дело хорошее», – решила про себя и стала с ещё большей одержимостью учить «пионерскую молитву» на пару с сыном…
6
Хотя было ещё довольно рано – гастроном, в котором работала Владлена, открывался в восемь, а на работу надо было приходить за час до открытия, – по Крещатику уже вовсю весело позванивали, скрежетали новенькие трамваи «тяни-толкаи». Добегал такой железный вагончик до конечной, вагоновожатый переходил назад, в другую кабину, и трамвай отправлялся в обратный путь.
В небе сияло июльское солнышко. Пахло зреющими каштанами. Улица, только что умытая поливалками, дышала свежестью, высыхая на глазах.
У больших стеклянных дверей центрального «Сорабкопа» маячил Семён. Владлена издалека заметила его, но продолжала идти как шла – лёгким, быстрым шагом, помахивая ридикюлем, как девчонка. Не удержалась и метров за сто до гастронома ускорила шаг, а там и вовсе перешла на бег.
«Вот же трясогузка! Подставляется», – сердито подумал Семён и тут же поймал себя на мысли о том, что на самом деле ему нравилось, с какой непосредственностью, с какой горячностью, даже отчаяньем кинулась Владлена в омут их любовного приключения. История длилась вот уже скоро как полгода и удивительным образом не только не надоедала Семёну, а даже наоборот, ещё больше увлекала. Он стал замечать в себе проявления некой не свойственной ему, чекисту со стажем, слабости. Стоило не встречаться с Владленой неделю, как он начинал испытывать беспокойство, настроение портилось, всё и все вокруг раздражали. Он срывался на жену и даже на детей.
Семён умел судить о себе и своих поступках здраво, что называется, со стороны. Ко всему прочему, он любил читать и с удовольствием, с упоением, доходящим порой до какого-то неистовства, набрасывался на книги, в которых находил для себя новые и полезные сведения. За книгой он порой мог просидеть далеко за полночь, чтобы потом ни свет ни заря вскочить невыспавшимся, с воспалёнными глазами, но с чувством радостного возбуждения от переполняющей его новой увлекательной информации. Чтение действовало на него как морфий: чем больше он читал, тем больше хотелось. Жена Сонька ни черта в этом не понимала и считала полной блажью.
Попытка приобщить её к чтению завершилась ничем. Семён поначалу доходчиво и ласково объяснял пользу от книг, но, увидев в глазах супруги тупое безразличие, стал сердиться, а потом «дошёл до точки кипения» – одно из выражений противной Сонькиной сестры. Та вечно науськивала Соньку против него – мстила таким образом Семёну за то, что он делал свою работу, не желая никак понять, что если не будет её, как она же выражалась, «шмонать» Семён, то это сделают его коллеги по цеху – и тогда пиши пропало: закроют дуру и сошлют лес валить лет так на десять, а то и больше. И это в лучшем случае. В худшем, понятно, просто к стенке. После таких дел быстро установят все родственные связи и выведут на чистую воду и сестру младшую, и его, раз уж по воле судьбы он прилепился к этой семейке. И не помогут никакие оправдания и никакие старые заслуги: конец карьере, конец службе. И это опять же в лучшем случае. Времена сейчас неспокойные – враги народа повсюду, так что, не ровён час, попадёшь под горячую руку да за компанию. И тогда ничего не попишешь: лес рубят – щепки летят.
И с этим чтением, бес его дери, Генька тоже подкузьмила. Соня, не выдержав натиска Семёна, расплакалась (это была её любимая «пьеса» – реветь по всякому поводу) и закрылась в коммунальном туалете. Он плюнул и не стал больше приставать с книгами. А на следующий день, когда после неудачного допроса – упёртый подследственный попался, половину зубов потерял, а стоял на своём: «Я не я, и хата не моя», – Семён, усталый и раздосадованный, вернулся домой, его встретил кагал в полном составе: благоверная и её сестрица. Генька ему даже рта не дала открыть: вышла посерёд комнаты, руки в боки – чистая босячка – и устроила выволочку. Мол, ещё раз будешь Соньку доставать со своими глупостями книжными да руки прикладывать, пойду и заяву напишу начальству твоему: пусть проверят, что ты тут за шмутс[24] по ночам читаешь.
Семён тогда махнул рукой и оставил Соню в покое: пусть дурой живёт, ещё из-за этого себе нервы портить. Да и кто знает эту Гинду – шальная и вправду может на него настучать: не сама напишет, потому как безграмотная, так кого-нибудь приобщит. Ей что, у неё пол-Киева в клиентах ходит. Сонька – та побоится, а этой море по колено. Про неё даже собственная мать говорила: «Шланг[25] и фэрд[26] в одной кастрюле»…
То, что с ним происходило в отношениях с Владленой, было очень похоже на эту его страсть к чтению: чем чаще они встречались, тем больше он её хотел. А она ничего от него не требовала. Про то, чтобы он ушёл к ней жить насовсем, даже не заговаривала. И этим своим поведением ещё больше привязывала к себе Семёна. В конце концов он пришёл к выводу, что у него психологическая зависимость от Ладушки, как с первой ночи он привык называть Владлену. Кстати, про эту самую зависимость он узнал из тех же книг и усвоил, что она будет похуже любого наркотика. В общем, всё про себя понял чекист Семён Милькин и, будучи человеком осторожным и глубоко преданным делу партии и трудового народа, решил заканчивать с тем, что стало основательно мешать служению этому самому делу. Вчера сия умная мысль полностью оформилась в его голове, а сегодня с раннего утра он намеревался объявить окончательный вердикт Владлене: адью, мон амур!
Но когда он увидел, как она, светлая, радостная, вся прозрачная в лучах утреннего солнца, бежит, нет, летит к нему навстречу, никого не стесняясь, не прячась, будто впервые влюбившаяся девчонка, слова, приготовленные им для короткого прощания, комом застряли в горле. И когда она с ходу повисла на нём, крепко обхватив руками шею, он только и смог, что придержать её за талию и прошептать на ушко: «Ну что ты прямо как девочка. Нельзя же так, люди смотрят…» Ответ Владлены был банален и очевиден: «Ну и пускай себе смотрят…»
Глава 6
Дом на Подоле. 24 июля 1936 года (5 ава 5696)
1
Июльский летний день едва пробивался в небольшое окошко, освещая Гинду Черняховскую. Она сидела посреди комнаты на низенькой скамеечке, широко расставив ноги, в застиранном длинном цветастом фартуке и общипывала тушку курицы. Гинда была настолько увлечена работой, что не замечала ни жаркого июльского солнца, в кои веки заглянувшего к ним в подвал, ни бисеринок пота, блестевших в ранних морщинах смуглого обветренного лица. Женщина, числящаяся по всем документам домохозяйкой, ловко выдёргивала остатки куриных перьев, прижимая их большим пальцем к широкому лезвию ножа, и что-то тихо напевая на идиш.
– Геня, что ты там бормочешь, мейделе?[27] – подала голос из своего угла Ханна.
Гинда ничего не ответила, только отмахнулась от матери, и продолжила нашёптывать себе под нос: «Вемен цу немен ун нит фаршемен?»[28]
Всего час назад курица была живой, среди пяти таких же несчастных подруг, приготовленных на заклание. Вокруг шумел Бессарабский рынок. Хотя на Подоле был свой вполне приличный базар, Гинда Черняховская, в забытом напрочь девичестве носившая фамилию Праздник, предпочитала закупаться на Бессарабке, которая считалась самой дорогой в Киеве. «Я не такая богатая, чтобы покупать что попало», – говорила она. На базар Гинда ходила не так чтобы редко – картошка, зелень, молоко девочкам. Но мясо брала по исключительным случаям. Случаи эти не имели никакого отношения к праздникам: религиозные Гинда не признавала – скорее соблюдала, раз так положено, а советские воспринимала по красным цифрам в отрывном календаре – цифры она понимала и считала более чем хорошо, даже в уме.
«Седьмое – это что?» – спросит, бывало, словно увидит впервые. «Мама! – возмущается смышлёная старшая дочь Этя, круглая отличница и пионерка. – Это же “красный день календаря – день Седьмого ноября”!» – «Ша! Шейне то́хтер[29], что ты так кричишь, как резаная? Я без тебя вижу, что красный, как кровь с куриного горла. Праздник какой?» Этя чуть не плачет, но сдерживается: с мамой много спорить было нельзя, та могла и шлепнуть тем, что было под рукой. Чаще под рукой у мамы была какая-нибудь тряпка – прихватка или, того хуже, половая. Тряпкой она лупила ловко – быстро и хлёстко, при этом умудрялась достать по лицу. Было не столько больно, сколько обидно.
«Это день Великой социалистической Октябрьской революции», – как на уроке отвечает дочь. – «Ой-вей! И не говорите! – всплёскивает руками Гинда. – А что так длинно? Скажи просто “революции”. Я же не совсем дура». – «Геня, прекрати издеваться над ребёнок!» – подаёт голос с топчана старая Ханна. «Мама, что вы всякий раз! Кто ж издевается? Просто хочу, чтобы Этечка всё знала, чтобы у неё была возможность показать свою память». – «Геня, прекрати! Она без твоей помощи замечательно учится. Вон одни пятёрки и благодарности. А ты её только расстраиваешь своей глупостью».
Гинде нравится, что говорит мать про Этю. Она вытирает руки о фартук, подходит к Эте, гладит её по голове и целует в лоб. Потом направляется к комоду, достаёт из верхнего ящика стопку благодарностей, написанных каллиграфическим почерком, и просит дочь прочесть, что там написано. Девочка отнекивается для виду – пионеры не любят хвастаться. Однако в конце концов сдаётся под материнским натиском и не без удовольствия читает вслух благодарности ученице киевской школы Эте Черняховской. Гинда присаживается на табурет и, закрыв глаза, слушает, утвердительно кивая головой и даже иногда поднимая указательный палец в особо значимых местах. Когда читка завершается, Гинда подводит итог: «Молодец, майн либе то́хтер[30]! Надо чтобы и Элка так училась. Чтобы вы обе были умными. Чтобы жили лучше, чем мать необразованная». Гинда шлёпает себя ладонями по коленям и со словами: «Надо делом заниматься» – поднимается и идёт дальше хлопотать по хозяйству или уходит добывать деньги на хлеб насущный, ведь Мойша опять ничего толком не принёс, потому что больше половины месяца проболел.
Этот маленький концерт повторялся в семье Черняховских всего каких-то три-четыре раза в году. Больше праздничных выходных в стране не было. И если с Первым мая Гинда ещё как-то свыклась, Новый год воспринимала как само собой разумеющееся и без календаря, тем более что выходным днём он не был, то красный день 22 января[31] её приводил в изумление и возмущение одновременно. Изумлял этот день потому, что, сколько Этя ей ни объясняла, Гинда никак не могла взять в толк: «Кому нужно это Кровавое воскресенье и, если столько народу царь поубивал, зачем его отмечать, да ещё выходным делать?» А возмущала эта красная дата по причине присутствия дома мужа, которого в этот день надо было кормить по полной – с утра и до вечера. А Мойша, хитрец этакий, уж раз выходной, не отказывал себе в удовольствии пропустить стопочку-другую или, того лучше, товарища пригласить в их сырой и нищий полуподвал: в одиночку ведь отмечать не с руки. В общем, тот ещё «красный день» – одни расходы.
Зато 18 декабря Гинда знала без всяких «красных» отметок и выходных. День рождения Сталина. В этот день она обязательно готовила что-нибудь вкусненькое на вечер из того, что бог послал, и не отказывалась от наливочки. Спрашивать, с чего такое рвение, никому ни в семье, ни среди соседей в голову не приходило. Как-то однажды, сев за накрытый стол, на котором стояли картошка в мундирах прямо в чугунке и добытая по случаю селёдочка, приправленная уксусом, взбрызнутая подсолнечным маслицем и присыпанная кружочками искристо-белого лука, Гинда налила себе и Ханне по рюмочке, кивнула мужу, чтобы не отставал, и сказала: «Он всё видит. Нам зачтётся». Мойша, успевший до её слов поднести к губам стопку с водкой, даже поперхнулся. Гинда сердито зыркнула на мужа. Тот, смущаясь, успокоил её: «Геня, ша! Видит так видит: за Сталина, чтоб ему было хорошо» – и одним глотком выпил.
2
Гинда сидит на низенькой скамеечке посреди комнаты, широко расставив ноги. На ней длинный застиранный фартук, голова повязана белым платочком узлом на затылке. Гинда общипывает перья с тушки свежеубиенной курицы. Миска с куриным горлом и головой стоит на столе. Гинда собирается фаршировать шейку манкой с перемолотой куриной печёнкой. Это целая история: стащить кожу с куриного горла, набить фаршем и зашить с двух сторон, чтобы не вывалилось. Набивать надо в меру, иначе вместо рулета будет расползшаяся тухэс[32]. Гинда умеет готовить и красиво, и пальчики оближешь!
Но шейка – это потом. Надо опалить и разделать курицу. Пока Этя где-то с соседскими мальчишками бегает. Пока Ицик, у которого сегодня то ли отгул, то ли выходной, на пару с Верой пошёл в кино, прихватив с собой маленькую Эллу. Пока муж с работы не пришёл. Перья она потом вымоет, высушит, добавит к другим припасённым и набьёт подушку – лишним не будет.
В дверь постучали.
– Заходи уже! – крикнула Гинда.
В комнату вошла младшая сестра Соня, с порога сморщила нос:
– Здравствуй, Геня! Хоть бы окно открыла: курицей сырой всё провоняло и кровью.
Гинда поднесла тушку к самому носу:
– Ничего не пахнет. А что ты у нас такая чистоплюйка?
– При чём здесь это? Можно ж на улице.
Гинда хмыкнула:
– Ну да! Чтобы тут же твоему Сене передали: Геня курицу купила – можно приходить с обыском. Или уже передали и заместо него ты пришла?
– Гинда! – крикнула из своего угла Ханна. – Это ж твоя сестра!
– Что вы говорите, мама! А что эта сестра не вспоминает за это, когда ейный Сеня, келев[33], каждый раз шмонать нас наведывается?
– Мама! – призвала к матери Соня, опасаясь проходить в комнату, где Гинда, не меняя позы, продолжала ловко орудовать ножом и пальцами, избавляя от перьев куриную тушку. – Мама! Я сейчас уйду.
– Соня, прекрати уже! – приструнила младшую дочь Ханна. – Ты за этим сюда пришла, чтобы с Геней разбираться? Проходи, рассказывай. Нам твой Сеня неинтересен. Нам ты интересна и дочки твои. Как они, кстати?
Косясь на сестру, которая, не обращая на неё внимания, продолжала делать своё дело, Соня прошла и присела к столу.
– Девочки хорошо. Мира к школе уже готовится. Сеня с ней по вечерам букварь читает. Учиться она очень хочет, прямо мечтает. Говорит: «Мама, когда я уже в школу пойду?»
– Ай, умничка! – умилялась Ханна.
– А Верочка в садик пошла. Хорошо ходит, ей нравится.
– Ай, умничка!
– Сеня, когда есть время, сам её с садика забирает.
– Ай, умничка Сеня! – вставила слово Гинда. – Меньше б ко мне заходил, больше б времени оставалось на детей.
Соня сдержалась и промолчала: понимала, сейчас сестра окончательно пар выпустит, успокоится и можно будет поговорить. Минуты две в комнате стояла тишина.
– Окно чего не откроешь? – повторила Соня свой вопрос.
– Жара с асфальта, откроешь – вообще задохнёмся, – ответила успокоившаяся Гинда и добавила: – Крылышки тебе куриные дать на суп?
Соня начала было отвечать:
– Спасибо, Геня, у меня есть. Сеня… – и осеклась. Зачем понапрасну сестру дразнить?
– Ну тогда ладно, – сказала Гинда, поднимаясь и распрямляя затёкшую спину. Свернула перья в холщовую тряпку, тушку куриную положила в миску к голове и шее. – Потом опалю, когда уйдёшь. Компот свежий будешь, из яблок?
– Буду.
– И я с вами, – подала голос Ханна.
Потом сидели втроем за столом, беседовали за жизнь.
– А что это у тебя живот подрос? – спросила Гинда.
Соня залилась краской:
– С чего ты взяла?
– У нас тут слепая только мама, – усмехнулась Гинда. – Сколько уже?
– Четвёртый месяц.
– Хорошо-то как! – заулыбалась Ханна.
– Чего хорошего, мама? – Гинда опять стала закипать. – Скажите ещё: «Ай, Сеня-умничка!» Они, конечно, хорошо живут, но куда ей третьего с её Сеней? Он же тот ещё лэмэх[34] и болтун.
– С чего ты взяла? – расстроилась Соня. Сестра, какой бы она сварливой ни казалась, любила её, можно сказать, вырастила, в жизнь вывела. И если уж Геня говорила что-то о людях, то это были не пустые слова – значит, она что-то знает.
– Значит, знаю, – не стала вдаваться в подробности Гинда. – Одно тебе скажу: болтает он много и про свои дела, и про начальство. А нынче времена непростые.
– Да откуда ты знаешь?! – не выдержала Соня. В глазах у неё заблестели слезы. – Ты даже газет не читаешь.
– А зачем мне их читать? – удивилась Гинда. – Вон ты читаешь, а всё равно ни черта не понимаешь. Ладно, не расстраивайся, Сонечка, если что случится не так, не оставим, поможем, – притянула сестру к себе вместе со стулом, обняла. Сильная была Геня, даром что маленькая, крепкая была. Ханна говорила: «Стожильная».
Ханна встала со стула и, касаясь края стола, подошла к дочерям, положила правую ладонь младшей на живот, подержала полминуты, потом удовлетворённо кивнула и сказала:
– Дочка будет.
– Ой! – вскрикнула Соня. – Сеня меня убьёт. Он сына хотел.
– За сыном пусть в приют идёт, – сказала Гинда.
– Зачем мне чужой? – всхлипнула Соня.
– Соня, ты дура, – беззлобно сказала Гинда – У тебя вот третий ребёнок будет, а ты всё ещё бестолковая. Пошутила я. Никуда твой Сеня не денется: на что старался, то и получил. У меня вон тоже две девочки. Девочки – это хорошо. Когда мальчиков много рождается, тогда война случается.
– Ты откуда знаешь?
– Люди говорят. Люди – это тебе не газета. Так зачем всё-таки пришла?
Соня ничего не ответила, прошла к дверям, сняла с гвоздя ридикюль, который там оставила, когда входила. Из ридикюля достала какой-то бумажный свёрток и подала его Гинде.
– Что это? – удивилась Гинда.
– А ты разверни.
На Гинду накатила тёплая волна. Так бывало, когда она в какой-нибудь подворотне брала деньги за дефицитный товар. Могли обмануть: сбежать с товаром, а вместо денег «куклу» подсунуть – бывало такое, и не раз. И всё же самое плохое случалось, когда милиция накрывала. Гинда слышала про такие «случайности». Но Бог её хранил, потому что в эти моменты она ему усердно молилась про себя. И сегодняшняя курица была подтверждением тому, что Бог на её стороне. Однако ещё один свёрток в течение одного дня был явно перебором: она почти наверняка знала, что там.
– Что это? – повторила Гинда и сама же себя обвинила за глупый вопрос: что, не видно, что это деньги?
– Это деньги, – ничуть не подтрунивая над сестрой, серьёзно ответила Соня. – Там, конечно, немного, но всё-таки. Это Сеня передал. Сказал, что это твои.
Гинда поначалу совсем растерялась, но внимательно посмотрела на сестру – и всё-всё поняла.
Она не стала отталкивать от себя свёрток, не стала шуметь, возмущаться. Просто подошла к сестре, обняла её, прижала крепко к себе и прошептала на ухо:
– Спасибо тебе, Сонечка. Я знаю, это ты. Сене не скажу. Спасибо, родная.
Соня отстранилась и, опустив голову, чтобы не выдать слёз, выскочила за дверь.
Гинда стояла посреди комнаты, вытирая глаза уголком фартука.
– Соня хорошая девочка, – сказала Ханна и добавила: – И Сеня хороший. Просто работа у него такая.
3
Входная дверь со стуком распахнулась, и по ступенькам сбежала Элла с криком:
– Мама! «Нас мало, но мы в тельняшках!» – в свои два с половиной она говорила просто замечательно.
– В каких тельняшках? Что за глупости? – осекла дочку Гинда.
– Это мы кино с ней смотрели, «Мы из Кронштадта», – пояснила вошедшая следом Вера.
– Глупости! – повторила Гинда. – Мойте руки, садитесь за стол.
– А что, Мойша уже пришел? – поинтересовался Ицик, поддерживая жену под локоть.
– Отчепись уже от Веры своей! – вместо ответа сказала Гинда.
– Геня, у тебя сегодня горячка приключилась? – удивился Ицик.
– У неё каждый день горячка, – вставила слово из своего угла Ханна и добавила: – Соня приходила, за Сеню разговор завели. Она опять беременна.
– Мама! Шо вам неймётся? Шо сразу всем сообщать надо? – всплеснула руками Гинда.
– А шо мне остаётся? Видеть не вижу, так хоть слышу. А тебе надо, чтобы ещё и глухонемая была?
– Всё, ша, родные! Мы идём мыть руки, – пресёк разгорающуюся свару Ицик и, продолжая держать жену под локоть, увлёк её в комнату. Вскоре там послышался звон рукомойника.
Ханна зашаркала по комнате, выставляя вперед руку, добралась до ведра с ковшом. Позвала внучку:
– Элла, поди сюда, полью тебе.
Гинда молча стала накрывать на стол. Расставила алюминиевые миски, разложила ложки. В центре поместила огромную кастрюлю с бульоном. Положила в чистом полотенце мацу[35]. Вечер советской пятницы. Хороший субботний ужин.
Между тем дверь опять отворилась, и в комнату спустился Мойша с Этей.
– На улице встретил, – пояснил жене. И, не говоря больше ни слова, скинул сапоги и ушёл за занавеску за печкой, откуда вскоре появился в холщовых домашних брюках, в кипе и рубашке с цицит[36].
Гинда отмерила мужа недоброжелательным взглядом и спросила:
– Это обязательно?
– Гинда, сегодня суббота, – не повышая тона, спокойно ответил Моисей.
– И что? Как будто ты всякий раз об этом вспоминаешь!
– Так и ты не каждый раз курицу готовишь.
– А потому что на неё надо заработать, – Гинда еле сдерживалась. Ей хотелось кричать, плакать, выть, но больше всё-таки кричать на них всех. На вечно влюблённых друг в друга бездетных Ицика и Верку. На мужа своего насквозь больного, харкающего по ночам, выплёвывая остатки лёгких, искалеченных на войне. На Соньку, сестру свою, – дуру набитую, в очередной раз залетевшую от Сени-урода. На несчастную маму, от которой проку ни на грош, так ещё и шуточки отпускает. На Элку-мелкую: вон как ластится к Верке, больше, чем к матери родной. Даже на Этю, самую первую, которая выжила у неё после двух детей, умерших в раннем младенчестве. На Этю, за которую она боялась больше, чем за всех остальных, вместе взятых, которую жалела и баловала безмерно, потому что…
Потому что могла и её потерять, как первых двоих, после того как заболела Этя «туберкулёзом колена» и сказали врачи, что ногу отнимут, иначе умрёт девочка. А она ездила с дочкой из своего Переяслава в Киев, в больницу, не реже чем раз в месяц, и так пять лет. А потом и вовсе перебралась в город. Насобирала по копейке, в долги влезла, Ицика с Верой уговорила в долю войти и купила этот сырой подвал. Только чтобы поближе к больнице быть, чтобы Этю спасти. И ведь всё получилось. Правда, Этя слегка прихрамывает после операций. Но это не самое страшное. Жива-здорова, и нога при ней, и умница какая – на одни пятёрки учится! А то, что мать за дуру считает, так это правда: дура и есть – ни читать, ни писать не научилась.
Но сегодня был тот редкий день, когда Гинде хотелось завыть от тоски и безысходности своей нерадостной жизни, на которую обрекла её судьба: все заботы на ней, как на ишаке, все проблемы. Была бы Гинда учёной, читала бы много разных книжек, так, может, и стукнула бы по столу кулаком и объяснила всем, что почём: и как ей тяжело, и как она устала от жизни такой, и что надо ей хоть в чём-то по дому помогать, чтобы она тоже могла в кино сходить. Объяснила, а потом бы надела платье чистое да и пошла гулять на Крещатик.
Но поскольку не была Гинда избалована многими знаниями, то и страдать долго по поводу собственных переживаний не могла, не умела. И потому психанула про себя, погремела табуретками-чугунками и сказала:
– Садитесь уже за стол. Ужинать будем. Мойша, зови Ицика с Верой.
И те пришли. Ицик тоже в кипе и в такой же рубашке, как Мойша. И сели все за стол. И зажгла Гинда свечу, потому что Ханна всё одно не видит. А Ханна стала говорить молитву:
«Бару́х Ата́ А-дона́й Элоэ́ну Мэ́лэх аола́м (благословен Ты, Г-сподь, наш Б-г, Царь вселенной), ашэ́р кидеша́ну бемицвота́в вецива́ну леадли́к нэр шэль шаба́т (освятивший нас своими заповедями и повелевший нам зажигать свечу в честь субботы)».



