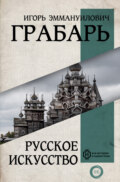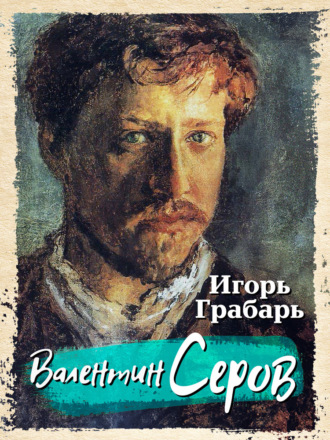
Игорь Грабарь
Валентин Серов
Кёппинг сдержал слово и взял заинтересовавшего его мальчика с собой на этюды. С тех пор они часто отправлялись за город вместе. Серов присаживался около Кёппинга, писавшего красками, и рисовал обыкновенно то же, что тот писал.
Эта страсть к рисованию впервые обратила на себя серьезное внимание матери Серова. Посоветовавшись с Кёппингом, она стала с этого времени делать все возможное, чтобы не только не мешать занятиям сына, но, насколько возможно, облегчить их. Репин, единственный художник, которого она близко знала и в которого верила, был в это время в Париже. Она и раньше собиралась съездить в Париж, но обнаружившиеся способности сына заставили ее ускорить свой отъезд, тем более, что Репин, по полученным сведениям, скоро собирался оттуда уехать. Осенью 1874 г. они покинули Мюнхен.
III. Занятия у Репина в Париже
Тотчас по прибытии в Париж, Валентина Семеновна разыскала Репина, к которому Серов стал каждый день ходить. С этого времени начались первые регулярные занятия рисованием. Репин писал тогда своего «Садко» и «Кафе», для которых делал множество этюдов с натуры. Серову он ставил обыкновенно какой-нибудь гипс для рисования и nature morte для красок. При этом он давал чрезвычайно ценные указания, сохранившиеся в памяти Серова на всю жизнь. По его собственному признанию, он вынес из этих уроков очень много. Благодаря бережному отношению матери ко всем тогдашним работам сына, почти все они сохранились, и действительно свидетельствуют о серьезности этих занятий. Трудно, конечно, сказать, сколько поправок внесено в рисунки и этюды рукой учителя, но некоторые из них очень благородны и красивы по краскам. Особенно хорош этюд, изображающий синюю вазу с воткнутыми в нее кистями, на фоне гобелена.
В эту же зиму он ежедневно ездил на другой конец города к одной русской даме брать уроки русского языка. Занятия шли очень вяло, и у Серова осталось от них впечатление безысходной скуки. Пока, бывало, он доедет до дома, в котором жила эта дама, по дороге он увидит так много интересного, а главное перевидает такую пропасть всяких лошадок, что на уроке ничего в голову не идет. А лошадки были его слабостью и этой слабости он остался верен до конца. Среди самого оживленного разговора или горячего спора он останавливался на полуслове, если в окнах мелькал силуэт заспанного денщика, выезжающего офицерскую лошадь, или багровый откормленный кучер случайно вел под уздцы рысака в яблоках, по дороге в кузницу. В Париже он вздумал было сделать себе настоящую лошадку, такую, чтобы двигала головой. После невероятных усилий и долгих мытарств ему удалось устроить ее на шарнирах, и радости его не было конца. Но тут случилось нечто совершенно неожиданное: учительница его нажаловалась матери, что с ним сладу нет, что ему в голову одни лошадки лезут, и в наказание лошадка была сломана на его глазах.
Однако, эти вмешательства матери в его интимную жизнь бывали очень редки; он рос, в сущности, в полном одиночестве. Вернувшись от Репина и учительницы, он все долгие зимние вечера просиживал дома, совершенно один. Валентина Семеновна, жившая исключительно миром музыки, почти все вечера проводила в опере и в концертах, возвращаясь только поздно ночью, когда мальчик спал. Постепенно он дичал и стал походить на волчонка. В нем развилась скрытность, угрюмость и подозрительность.
Как-то раз он забыл дома мелочь, которая ему выдавалась на омнибус, и очень растерялся, когда кондуктор потребовал у него платы за проезд. Какая-то дама сжалилась над его беспомощным видом и заплатила за него. На ближайшей остановке она взяла его за руку и вышла из омнибуса; спросив, на какой улице он живет, она наняла извозчика и усадила его с собой. Они проехали несколько улиц, как вдруг Серов на полном ходу кубарем вылетел из пролетки и стремглав пустился бежать в один из пустынных переулков. Что его побудило к такому неожиданному бегству, он ни тогда, ни после понять не мог. Он попросту превратился в маленького дикаря. От своей подозрительности и от того, что зовется «волчьей повадкой», он так никогда и не мог избавиться вполне, несмотря на то, что матери вскоре пришлось тщательно изгонять у него эти черты одичалости.
Единственным его занятием в эти тоскливые парижские вечера было рисование. Он рисовал с настоящим увлечением и уже не с натуры, как у Репина, а от себя, по памяти и по впечатлениям. Сохранилось несколько альбомов, изрисованных им в течение этой зимы. Больше всего здесь, конечно, лошадок, но есть и много львов, собак и птиц. Одна сорока нарисована так верно и метко, что с трудом верится, чтобы ее мог сделать девятилетний мальчик. Уцелело много и других набросков, между прочим неплохой портрет матери, нарисованный с натуры. Очень курьезны его композиции, особенно одна, изображающая Садко, нисколько не похожего на Репинского.
Развлечений, шумных игр среди детского гомона и визга, катаний, прогулок за город Серов не знал. Только однажды его одиночество было нарушено. В клубе русских художников решили устроить вечер с живыми картинами. В одной из них должны были фигурировать Рафаэль и Микель Анджело, и нужен был мальчик с крылышками – итальянский puttino, не то амур, не то ангелочек. Рафаэля изображала Вера Алексеевна Репина, Микель Анджело – В.Д. Поленов, а маленького Серова преобразили в «puttino». Вечер имел успех было много народу, очень шумно и весело. Среди русских заметно выделялась фигура Тургенева с его белой прядью волос, повисшей на лоб. Но вечер кончился, и о нем осталось воспоминание, как о чем-то отдаленном, как давнишнем томительно-сладком сне. И снова потянулась бесконечная вереница унылых одиноких дней.
IV. Возвращение в Россию
Еще из Мюнхена Валентина Семеновна ездила в Рим, где провела около двух месяцев. Это было летом 1874 г., перед отъездом в Париж. Сына она отдала на это время в одну немецкую семью, жившую около Зальцбурга. В Риме ей хотелось посоветоваться на счет своего «Тоши» с близким еще по Петербургу другом, Антокольским, работавшим в то время над «Петром» и «Христом». У него познакомилась она с Саввой Ивановичем Мамонтовым, которому суждено было сыграть в судьбе Серова немаловажную роль.
Савва Иванович Мамонтов принадлежит к тем исключительно одаренным натурам, которые выдвинуло новое московское купечество, явившееся на смену темному царству Островского. За последние 30 лет купеческая Москва дала не один десяток деятелей, имена которых неразрывно связаны с историей новейшей культуры России. Время, в которое они жили, будет, когда-нибудь казаться золотым веком московской жизни литературы и искусства. Портреты их писал Серов. Врубель создавал свои панно для их дворцов, они приобретали все, что выходило из мастерских Виктора Васнецова, Репина, Сурикова, Левитана и Коровина.
Если Павел Михайлович Третьяков был, среди них самой значительной и глубокой личностью, то Мамонтов был наиболее ярким дарованием. Трудно представить себе два больших контраста, чем оба они. Насколько Третьяков был тих и молчалив, настолько Мамонтов всегда и всюду вносил с собой шум и оживление. Насколько сдержан и скрытен был первый, настолько же не обуздан и нараспашку – второй. Третьяков всю жизнь неуклонно вел свою линию, намеченную еще смолоду, и ни разу ей не изменил. Мамонтов вечно метался из стороны в сторону, и в конце концов, несмотря на то, что он обладал более тонким чутьем и имел все задатки подлинного мецената большого стиля, Третьяков оставил более глубокий след в истории русской культуры своей единственной в мире галереей. Правда, на стороне Третьякова было то преимущество, что по самому характеру своей деятельности, состоявшей в коллекционировании, в созидании гигантского национального музея, он готовил себе осязательный, всей России видный памятник. Совсем иного рода было «служение» Мамонтова. Он по всему своему духовному складу был меньше всего коллекционером, ибо ничто ему не было так чуждо, как привычка оглядываться назад: он смотрел только вперед, любил созидать, а не подводить итоги, любил грядущее, а не прошедшее, молодое, а не отживающее. Оттого то он так страстно увлекался каждым новым явлением, оттого он всю жизнь казался, рядом с уравновешенным, мудрым и холодным Третьяковым, каким-то неистовым «декадентом». Значение Мамонтова не только в том, что он первый оценил Васнецова, Серова, Коровина и Врубеля; не в том, что он сыграл огромную роль в новом, националистическом движении в нашем искусстве, поднятом тем же Васнецовым, Поленовым и продолженном Еленой Дмитриевной Поленовой, Головиным и другими; даже не в том наконец, что он первый понял все значение Римского-Корсакова и первый отвел ему подобающее место в русском оперном репертуаре. Значение его заключалось в том, что он, увлекаясь сам, увлекал и других, радуясь появлению каждого нового яркого дарования, неудержимо заражал своею радостью других. Создавалась какая-то вечно восторженная атмосфера, все верили в свои силы, и вокруг него кипела живая, дружная, радостная, большая работа. Заслуги этого человека перед русским искусством, особенно в области живописи и музыки-огромны и когда-нибудь они дождутся еще всесторонней оценки. Но когда знаешь исключительную одаренность всей этой фигуры, и вспомнишь, какие средства были в его распоряжении, не можешь достаточно подивиться сравнительной незначительности результатов. Ведь он мог, стать московским Лоренцо Великолепным, вокруг которого сгруппировалось бы все новое искусство России, а он, как метеор, пронесся над Москвой, ослепил всех и угас.
Познакомившись с Валентиной Семеновной, он пригласил ее в свое подмосковное имение. Приглашением она воспользовалась только через год, и летом 1875 г. Серов приехал с ней в Абрамцево. Этот быстрый переход прямо из Парижа в русскую деревню, старый Аксаковский дом, березы, видные из каждого окна, липовые аллеи, – все это произвело на него огромное впечатление, сказавшееся только значительно позже. В это лето искусством в Абрамцеве занимались мало, и Серов ни разу не держал карандаша в руке. Занимались больше пикниками, едой, верховой ездой и всяким озорством. У Саввы Ивановича был сын Сережа, лет восьми, известный теперь в Москве журналист Сергей Саввич Мамонтов. Этого мальчика рекомендовали Серову, как правдивого и открытого всячески советуя брать с него пример. Дело в том, что мать обратила, наконец, внимание на угрюмый и скрытный характер сына и его замашки дикаря, решив с ними серьезно бороться. К этому побудило ее и то, что мальчик стал попадаться на лжи. С ним изредка случалось это и раньше, еще в Мюнхене, и отдавая сына зальцбургскому немцу, мать больше всего просила обратить внимание на искоренение в нем лжи. Вообще ничто не было ей в жизни так противно, как ложь, и поэтому она употребляла невероятные усилия, чтобы сын ее вышел правдивым, и честным. Каким блестящим успехом увенчались ее старания, знает каждый, кто имел дело с Серовым. Сам он считал себя чрезвычайно обязанным влиянию матери. Своей энергией и настойчивостью она не только содействовала выработке в нем прямого характера, но и беспрестанно побуждала его к систематическим занятиям рисованием.
Осенью Валентина Семеновна уехала с сыном в Петербург и отдала его в пансион Мая, тот самый, в котором позже были Александр Бенуа, Сомов и Философов. В пансионе он пробыл только до Пасхи, когда неожиданно заболел, и уже более туда не возвращался. За всю эту зиму он почти ничего не рисовал, несмотря на частые просьбы матери. Только во время болезни снова взялся за карандаш, и очень долго и старательно срисовывал с гравюры Сикстинскую Мадонну. Весной 1876 г. живший у них студент-медик, с которым они познакомились еще в Абрамцево, Василий Иванович Немчинов пригласил их в свою Харьковскую деревню. Все это лето проходит также без рисования. Зиму 1876-1877 г. они проводят в Киеве, где Немчинов сдает свои выпускные экзамены. Он ежедневно занимался с мальчиком и не прекращал этих занятий и следующим летом, в деревне. Ему удалось настолько его подготовить, что осенью 1877 г. Серов без труда выдержал экзамен во второй класс классической гимназии. В эту зиму он снова немного стал рисовать, главным образом благодаря решительному требованию матери. Лето 1878 г. опять все проводят в деревне Немчинова. Здесь до Валентины Семеновны дошло известие, что Репин поселился в Москве, и это окончательно решило судьбу Серова. Она видела, что все ее понукания приносят мало толку, а между тем ясно понимала, что у сына недюжинные способности. Она ухватилась за последнюю надежду, и в конце лета повезла его в Москву. Василий Иванович Немчинов был назначен земским врачом в Киеве, и Серовы вынуждены были с ним расстаться.