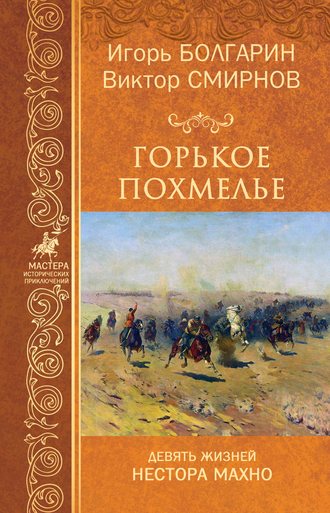
Игорь Болгарин
Горькое похмелье
Махновцы постепенно приближались к поезду. Маломощная «овечка» еле-еле тащила короткий состав по извилистому, давно не ремонтированному пути.
Из паровозной будки высунулся офицер, увидел погоню, закричал машинисту:
– Быстрее! Быстрее!
Мокрый от пота кочегар кидал в топку дрова. Машинист с виноватым видом оправдывался:
– Паршивые дрова, сырые, ваше благородие! Осина!.. Пару мало!
На тормозной площадке казаки ощетинились стволами винтовок, а у младшего урядника появился в руках «льюис», который он установил прямо на деревянное ограждение тормозной площадки. Помощник вставил увесистый диск.
Передние, самые лихие хлопцы Каретникова, неумолимо приближались к составу.
– Даешь «тульскую пшеницу»! Даешь боеприпас!
Застучал ручной пулемет. Очереди были длинные, не экономные. Упали передние конники. Но вагон мотался, сбивал прицел… На площадке стали менять диск…
Дикая война! Смертоносная схватка за патроны, которые нужны, чтобы убивать!
Лёвка Задов и Махно тоже участвовали в погоне, но постепенно стали отставать. Низкорослый Лёвкин конек, отягощенный семипудовым телом, сбавляя ход, обходил препятствия, возникающие на его пути. Это были тела людей и лошадей. Кое-кто еще шевелился, пытался встать.
Уцелевшие всадники Каретникова уже вцепились в поручни подножек, воспользовавшись тем, что у льюисиста заело подачу в новом диске. На площадке началась возня. Кто-то полетел под откос.
Сам Каретников помчался вперед, к паровозу. За ним последовало еще несколько хлопцев. Офицера, который отстреливался из револьвера, сняли пулей из карабина.
– Давай контрпар! – перепрыгнув на подножку, закричал Каретников машинисту. Перепуганный насмерть машинист стал остервенело крутить реверс. Поезд замедлял движение…
Громыхнула раздвижная вагонная дверь, внутрь ворвался свет. Кругом стояли ящики с заводскими надписями. Один из ящиков был разбит, желтая медная россыпь поблескивала на дырявом полу.
– Па-атро-оны!
Так не кричат даже в безводной пустыне, увидев живительный источник. Хлопцы прямо с коней перепрыгивали в вагоны. Сколько радости было на их лицах!
Махно и Задов догоняли замедляющий бег поезд.
– Батько, патроны!..
Встав на стременах, Махно тоже ловко запрыгнул в вагон. Осмотрелся.
– Не густо, конечно!.. – не слишком обрадовался Нестор. – При хороших боях нам в день подвод двенадцать боеприпасов надо. А тут… но все-таки…
Кто-то из бойцов вдруг обнаружил спрятавшегося за ящиками офицерика.
– Дывысь, батько! Ховався, гад!
Офицерик был худой, испуганный. На рукаве добровольческий шеврон уголком, но погоны, однако, «химические».
– Ще й з орденом, зараза!
Нестор присмотрелся к «ордену». На значке была змея, обвившая чашу.
– Ты шо, лекарь?
– Пол… полковой врач в бригаде Ш-шкуро, – испуганно ответил офицерик. – Нед… недавно мобилизован!
– Хлопцы, это ж то, шо нам надо! – радостно воскликнул Нестор и обратился уже к доктору: – Жить хочешь?
– М-можно.
– Будешь служить у батька Махно! Только не вздумай сбежать! Под землей достану!
– А чего бежать? Мое дело людей лечить. Не белых или там красных. Людей.
– Такие твои слова мне в общем-то нравлятся… Не пойму только, чего у меня доктора не задерживаются? – спросил Махно. – Я ж до их хорошо отношусь. Врачей там, учителей – уважаю. Полезные люди. А чего-то не задерживаются. Убегают.
– Потому и не задерживаются, что вы людей делите на полезных и неполезных, – сказал осмелевший врач и дрожащими пальцами взял у одного из махновцев заботливо свернутую и даже уже зажженную цигарку. – Вы ж неполезных, я слыхал, уничтожаете.
– Уничтожаем эксплуататоров, всяких законников, судей, прокуроров, панов, офицеров… А шоб докторов – такого не было.
– Ну а доктор, он из какого сословия? Может, у него брат или отец в священниках, или в тех же юристах… или в панах, в офицерах… Люди разные. А вы всех сводите к сословиям. Чужие они для вас. Вот и не уживаются…
– Вредные твои речи, – покрутил головой Махно. – В другое время поспорил бы, а сейчас, за неимением времени, просто скажу: вредные.
Состав лязгнул и остановился.
Хлопцы внесли, передавая друг другу, нескольких раненных во время погони.
– Кой-хто ще дыше! – прокричали с насыпи.
Вновь лязгнув буферами, состав покатился назад, к Волновахе.
– Лечи, лекарь! – бросил Махно.
Шкуровский врач полез за ящик, достал саквояж, щелкнул замочком, открывая россыпь блестящих инструментов, пузырьки. Склонился над окровавленным махновцем. Товарищи раненого, искоса следя за работой доктора, набивали патронами винтовочные обоймы, матерчатые пулеметные ленты…
Глава пятая
Гуляйполе оправилось после налета «волчьих сотен» Шкуро. Люди научились жить и во время Гражданской войны, когда власти менялись чаще, чем погода. Село приобрело почти праздничный вид. Черные знамена, привычные анархические лозунги. Над кирпичным зданием заводского театра Кернера вывесили транспарант-растяжку: «Анархический привет предстоящему Съезду вольных Советов селян, солдат и рабочих Левобережья».
Дату съезда никак не могли назначить. Все зависело от Махно, без которого съезд никто не мыслил. А Нестор не мог покинуть Донбасс: в районе Волновахи и Юзовки продолжались вялотекущие бои, и перелома пока не могла добиться ни одна из сторон – ни белые, ни красные, к которым со своей дивизией примкнул Махно.
В Гуляйполе со всех окрестностей съехались посланцы сел и коммун. Даже с фронта Нестор отпустил многих своих черногвардейцев, и, впервые за последний месяц отмывшиеся и принарядившиеся, они наслаждались миром и тишиной. Звучали шутки, смех. Возле театра скопились брички, телеги, линейки и украшенные весенними степными тюльпанами тачанки. Довольно миролюбиво смотрелись на них пулеметы, установленные на застеленных коврами сиденьях. Лошади монотонно кивали головами, в их сбруе тоже торчали цветы. Отмытые, вычищенные бока лошадей лоснились: успели откормить.
Село по случаю предстоящего съезда напоминало ярмарку. Такое сходство придали Гуляйполю торговцы, которые вывезли на Соборную площадь свои нехитрые товары. Появились и цыгане с медведем, и даже шарманщик – с предсказывающим судьбу попугаем. Девчата кидали в перевернутый соломенный бриль медяки, попугай выдавал им билетики. Всем везло: «скорое свидание», «интересное знакомство», «счастливое замужество», «достаток в доме». Пахнуло мирным временем. Повстанцы привезли с собой немалые трофеи, деньги, платки, отрезы материи, сапожки… Война раздевает, война и кормит.
Вооруженные люди ходили кучками. Девчатки угощали их жареными семечками. Выздоравливающие махновцы выбрались из хат и лазарета на солнышко и, сидя на скамеечках, выискивали среди приехавших с фронта знакомых однополчан.
Тимош Лашкевич, которому Махно поручил заниматься организацией съезда, весь день носился по селу на тачанке, улаживая последние дела.
– Ну шо, Тимош? Когда батько прибудуть? – спрашивали его делегаты, едва он где-то приостанавливался.
– Скоро! Ожидаем! – неопределенно отвечал он.
Но вот он наконец сообщил:
– Батько выехав з Волновахи. З часу на час буде! Так шо займайте места, бо вси не помистяться.
У входа в театр встали часовые. Больше для порядка, поскольку никаких пропусков или мандатов ни у кого не было, они никого и не проверяли.
Делегаты потянулись к входу, усаживались, переговаривались, курили. Вскоре в зале дым плавал подобно туману.
Ждали Махно. Чтобы как-то заполнить это время, Тимош вывел на сцену девчат в нарядных платьях, в лентах и монистах, в красных сапожках, и они запели всем известные народные песни.
Бабы и девчата, потерявшие кормильцев, женихов, мужей, сидели в сторонке в черных платках, старались не мозолить глаза своим печальным видом. К похоронным вестям уже стали привыкать, не голосили на все село.
Гуляйполе переживало свой звездный час. Война, смертные весточки «с фронтов», волнение. Но люди были еще достаточно сыты, сносно обуты и одеты, оснащены всем трофейным и верили в близость невероятного прекрасного будущего.
Над шляхом, над степью, над станцией звучали душевные украинские песни.
На станцию Гуляйполе прибыли одновременно два поезда. Один из Бердянска или Волновахи, второй – с севера, из Екатеринослава или Лозовой.
Северный поезд, как обычно, привез толпы голодных людей, мешочников, рвущихся, несмотря на военное время, на более сытый юг, на хлеба. А поезд из Волновахи был литерный: паровозик да один классный вагон.
Из классного вагона первым выскочил Юрко Черниговский, за ним еще несколько хлопцев охраны, Сашко Лепетченко, Лёва Задов, а затем – мрачный, насупленный, уже осознающий и свое особое положение, и тяжесть ответственности батько Махно. Последней на насыпь спустилась Галя Кузьменко, легкая, подвижная, в кожаной курточке и, как и все, перепоясанная ремнями. Ее закадычная подруга Феня тоже получила короткий отпуск и вместе с ней приехала в Гуляйполе.
Из вагона северного поезда вместе с селянами и торговцами вывалились пятеро явно городских людей, одетых бедненько, но совсем не так, как обычные пассажиры. И поклажи при них не было, так, портфельчики, саквояжики, сумки через плечо. То ли делегация, то ли гастролирующие артисты.
Это были отцы-теоретики московской «бумажной» вольности, члены Союза идейной пропаганды анархизма. Вместе с ними приехал и гравер секретного отдела большевистского ЦеКа Зельцер, выдавший некогда фиктивную справку Нестору о его учительстве. Был с ними и еще один залетный гость, с полуседыми длинными прядями волос, заброшенными за оттопыренные, варениками, уши. Всеволод Волин, человек ученый и блестящий оратор, верный слуга всемирной анархии.
– Ну и куда теперь? – спросил Сольский у Шомпера.
– Ты меня спрашиваешь? Я здесь тоже первый раз.
– До Гуляйполя отсюда верст пять, – ответил за Шомпера Аршинов. – Надо нанять извозчика.
– А на какие, пардон, деньги? – недоуменно спросил Сольский.
– Господа… Простите, товарищи! – обратился к ним Зельцер. – У меня есть деньги.
– А какие здесь ходят? – спросил Сольский.
– У меня есть всякие, – ответил Зельцер, усмехаясь. В руке он держал увесистый чемоданчик. Похоже, именно там и были «всякие».
Компания почти наткнулась на группу, окружившую батьку Махно.
– Куд-да? – осадил их вооруженный Юрко. Он осмотрел их с ног до головы, успокоился. – Идить через путя… Не мешайтесь тут.
Не заметив Махно, фигуру которого заслонял громоздкий Задов, москвичи повалили на станционную площадь. Здесь Нестора ждали несколько обычных и две пулеметные тачанки. Возле них – с полдюжины вооруженных конных. Степан и Гнат Пасько сидели на передках пулеметных тачанок.
– Простите, вы свободны? – обратился к Степану близорукий Шомпер.
Степан не сразу сообразил, в чем суть вопроса. От таких слов он уже отвык. Или не привык.
– Идить туда, там бричкы та возчикы, – махнул кнутом Степан, указывая на другой край площади.
Провожая взглядами москвичей, конные смеялись.
– Наверное, артисты, – сказал один. – Може, опосля шось съезду представлять будуть.
– От того, маленького, я вроди в Катеринослави в цырки бачив. Эклибрист чи… чорт його знае… якыйсь фокуснык, – пояснил второй.
– Хорошо б шось комическе показалы… посмияться трохи, – сказал мрачный Пасько.
Пока «артисты» осматривались, группа во главе с Нестором появилась у экипажей. Махно не сразу узнал бредущих по привокзальной площади своих давних приятелей, с которыми провел не один год в камере. И они тоже не в одночасье признали тюремного побратима в перетянутом ремнями человеке, с шашкой на боку и маузером, с папахой на длинных лохмах.
– Нестор! – первым произнес Аршинов и бросился навстречу другу. Но тут же наткнулся на массивную фигуру Задова, рядом с которым так же мгновенно вырос Юрко.
– Шо вам? – угрюмо спросил Лёва.
Но Нестор сразу узнал своих односидельцев. На его лице появилась улыбка, открытая, по-детски простодушная.
– Отойди, Лёвка, не заслоняй! – сказал он. – Это браты мои!
И он бросился к москвичам, стал с ними обниматься. Только Зельцеру, присматриваясь, подал руку.
– Постой, ты же этот… ну, шо документы мне в Кремле делав. А ты чего приехал?
– Документы делать, – ответил Зельцер. – Вы ж тогда, в Кремле, сказали, что такой, как я, вам нужен.
– Нужен! Конечно, нужен! У тебя тут работы будет, як у крестьянина в косовицу!
Представили Волина.
– Помню, как же! Ихнюю лекцию слушал. Сильно умственная была лекция. Не все зразу понял.
Они стояли, радостно похлопывая друг друга, переговариваясь, перебивая один другого.
– От здорово! Вы как раз к съезду приехали! – радовался Нестор. – Нам культурных работников во как не хватает, – провел он ребром ладони по горлу. – Шоб знающие были анархисты. А у меня и культурой и пропагандой одна моя Галка занимается! Но она сильно воевать любит. А надо ж и газету выпустить! И с лекциями по селам! Чи на том же съезде шо-то серьезное сказать…
– Я могу на съезде выступить! – предложил Зяма Сольский. Он был взволнован дорогой, степью. – У меня даже начало речи уже созрело! Как раз для селян, про землю… Революционные стихи Федора Соллогуба. – Он поднял руку вверх, обвел ею степные просторы, расстилавшиеся по обе стороны дороги, и, раскачиваясь в такт словам, едва ли не пропел: – «Производительница хлеба! Разбей оковы древних меж! И нас, детей святого неба, простором вольности утешь!»
– Хорошие слова. Но ты их, брат, побереги для харьковских интеллигентов, – сказал Аршинов. – Они там действительно «дети святого неба».
Махно рассмеялся:
– Ой, браты! Пускай будут и стихи. А то у нас тут одна кровь, да патроны, да шашки… Зяма, а где ж твои? Ну, Фима и эти… дочки?
– Работают в советских учреждениях, – ответил Зяма. – Одна в «Главмасле», другая в «Главспичке». А меня они выгнали, как собаку. «Нетрудовой элемент!» А я же их приютил… Но, честно скажу, мне там тесно было, тесно! Здесь – воля! Свобода! Я чувствую, что рожден для галопа в степи, для жестоких схваток! – Он резко оттянул ворот рубахи, словно хотел его разорвать.
Они ехали в переполненных бричках и тачанках, чему-то смеясь и весело перекликаясь. Уже не заря махновского анархизма на приднепровских землях, но еще и не вечер и тем более не закат.
– А ну, Зяма! – прокричал Нестор, – Давай еще про «детей неба»…
Сольский встал и, раскачиваясь на тряской дороге, вновь залился:
– «Производительница хлеба! Разбей оковы древних меж…»
Все снова засмеялись. Даже угрюмый Пасько. Лошади бежали наперегонки, селяне на встречных телегах сторонились.
– Батько поехал, – оглядываясь, сказал один возчик. – Бачь, делегация якась… Уважають!
– Высоко взлетив батько, – согласился другой селянин.
В театре зазвучали аплодисменты, когда в зале появился Нестор. Хотя не в привычке селян хлопать в ладоши – чаще в знак восторга они топают сапогами или орут что-либо поощрительное. Сейчас же и хлопали, и топали, и орали…
Нестор поднялся на сцену, на ту самую сцену, где когда-то появлялся в роли Красной Шапочки. Он поднял руку, дожидаясь, когда стихнет зал.
– Спасибо вам, товарищи, за таку встречу. И за то, шо, как я узнав, предложили мне возглавить высший орган нашей свободной земли – исполком Военно-революционного Совета. Но, скажу по правде, я ни званий, ни должностей не ищу. Сильно занят на войне, в гору глянуть некогда. Деникин и его генералы, Май-Маевский, Шкуро зараз дуже сильные, и силы их с каждым днем пополнюются. Если поддадимся – через неделю опять будуть они в нашей столице, в Гуляйполе. И не налетом, а крепко сядут нам на шею. Что из этого проистекет, не мне вам говорить. Офицерье на нас дуже злое, но и мы, конечно, их не милуем. Война лютая…. Но, скажу я вам, наша бригада не сдается, а тоже своим порядком пополнюется. До нас пристают и белые солдаты, которые из бедняков, и красные, и нас сейчас на фронте под пятьдесят тысяч!..
Зал бурно обрадовался этому заявлению Махно.
– Не, товарищи, радоваться тоже нема причин, – чуть выждав, продолжил Махно. – Потому шо потери у нас страшенные. Плохо с боеприпасами, часто приходится биться штыками и шашками… Сто человек приходит, а двести в землю ложатся, такая печальна арифметика. Тем более что в лазаретах нема лекарствий, не хватает лекарей. Смерть гуляет с косой, как на сенокосе!
– Так ты бережи людей, Нестор! На то тебя и батькой призначилы! – перекрывая наступивший после слов Махно шум, прокричал седоусый делегат. – Хто ж хозяйнувать будет, когда наступит мирна жизня? Не губи наших сынов, батько!
Нестор только вздохнул в ответ. А что тут скажешь? Пообещать, что не будет он губить своих бойцов? Но разве был в зале хоть один человек, который бы не понимал, что война – самая урожайная пора у старухи с косой. Тем более война между своими.
Поднявшийся из-за стола Каретников взял короткое слово:
– Я, товарищи, от шо хочу сказать. Батько Махно сам ходит с намы в бой и мог уже не раз голову сложить, як и любой наш боец! Потому он имее право сказать ци тяжоли для всех нас слова… Он не отсиживается в штабе, честно доложу вам, хочь командуе не бригадой и не дивизией, а порою даже целой армией. Це, конечно, если считать по штыкам, саблям, пулеметам и все такое. Так шо вы не имейте огорчения, мы и сами от смерти не ховаемся!..
– Знаем! – раздались выкрики из зала.
– В бою встречаемся!
– Не раз в штыкову вмести з батькой ходылы, бачилы!
– Батько и с шашкой, як вси, и за чаркой то же самое. Яки претензии?
– Товарищи! – взглядом посадив Каретникова на место, вновь заговорил Нестор. – Ввиду острой нехватки личного состава, прошу вас проголосовать за объявление добровольной уравнительной мобилизации по всем нашим уездам.
– «Добровольна», «уравнительна». Це ж як понимать, батько?
Теперь поднялся из-за стола Тимош Лашкевич, протер запотевшие окуляры. Посмотрел в бумаги.
– Я расскажу… Это означае, шо каждое село добровольно дае в армию бойцов согласно тому, сколько мужчин проживае и сколько воюе. От возьмем, для примеру, Звенигородку. Из шестисот молодых мужиков она дала в армию только двадцать пять человек. А та ж Новоспасовка з восьмисот дала двести шестьдесят… И ответ в задачке простый: звенигородцам надо проявить больше революционной сознательности, добровольно подравняться хоть бы на ту ж Новоспасовку.
– А если не проявят? – выкрикнул кто-то из зала. – Какое наказание?
– Товарищи, мы ж не царская бюрократия, – вновь заговорил Махно. – Мы насильно рекрутов не гоним. Мы не власть, а как бы сказать, сознательная анархия. Наказанием будет наше общее выражение позора и революционного презрения…
– Замуж звенигородских дивчат больше не брать! – выкрикнул молодой делегат. – А ихним сватам будем гарбуза выносыть!..
Зал ответил хохотом.
– А цилуваться з ихнимы не возбраняеться?
– Нагайкы ихним хлопцям всыпать, може, образуються… ну, визьмуться за ум?
Дети!.. И смех, и смерть гуляют рядом. Но – все нипочем. Даже серьезным седым делегатам.
– Голосуем! – прокричал Лашкевич. – Хто за таку мобилизацию?
Поднялся лес рук.
– Единогласно… Товарищи! – Голос Лашкевича зазвенел. – До нас сегодня прибула делегация из самых видных представителей московского анархизма! Попросим их сюда, до нас!..
Зал выразил свой восторг неимоверным шумом. Аршинов, Сольский, Волин и Шомпер поднялись на сцену, смущенные столь бурным выражением адресованных им чувств. Зельцер попытался остаться в зале, но Шомпер вернулся и притащил его за руку.
– Можно, я скажу? – прошептал на ухо Аршинову Сольский.
– Лучше помолчите, Зяма, – ответил ему стреляный воробей Аршинов. – Непростая аудитория. Им не стишки нужны, а надежда.
Он вобрал побольше воздуха в легкие, словно собрался нырять, и громким митинговым голосом перекрыл шум:
– Товарищи по борьбе! Мы – не делегация…
Зал сразу примолк.
– …То есть мы не просто делегация. Мы – ваши московские братья, которые приехали к вам, чтобы вместе воевать за волю, потому что именно ваше Гуляйполе и его герои дают сегодня всему миру капитала пример практического строительства анархизма как самого справедливого общества, несмотря на тяжелые условия войны… Мы – навсегда с вами!
Зал зашумел. Шомпер, Сольский и Зельцер, истинные московские интеллигенты в отличие от Аршинова, вначале несколько растерявшиеся при виде этой смолящей свирепые самокрутки, харкающей, надрывно кашляющей, гремящей оружием аудитории, вдруг тоже почувствовали себя триумфаторами.
– Вы, братья, стали передовым отрядом мировой анархии, маяком вольности и безвластия!.. – продолжил Аршинов.
И снова – рев и стук, пушечные удары крестьянских ладоней слились в канонаду.
– Будущее принадлежит нам, анархистам! – заверил делегатов Аршинов. – Наши союзники большевики, с которыми мы вместе делали революцию, а сейчас вместе бьемся с панами и офицерьем, показали, что они унаследовали худшие традиции царской власти! Аппарат насилия остался тем же! Изменились только названия: полицейский стал милиционером, жандарм – чекистом, чиновник – комиссаром… Изобретенная лакеем буржуазии Керенским продразверстка стала беспощадным оружием в ограблении вольного крестьянства. Хуже того, нам хотят навязать новое крепостное право! Загнать в подневольные хозяйства, назначить нам начальство!
По залу прокатились возгласы возмущения: «Позор!», «Стыдобища!», «Геть красножопых!»… Аудитория – благодарнее не придумать! Дети…
– Но это доказывает лишь одно: большевизм в конце концов рухнет, и над всей Россией, а потом и над всем миром, как сейчас в Гуляйполе, поднимется черное знамя свободы и воли!..
Полнейший успех «московской делегации» выразился в том, что к сцене один за другим подбегали делегаты, жали руки, просто пытались дотронуться до Аршинова, Шомпера, Сольского, Волина, Зельцера… Московские умы! Светочи! Не какие-нибудь там доморощенные теоретики!..
Вечером в имении пана Данилевского, в штабной комнате, стол был заставлен давно не виданной москвичами снедью и неимоверным количеством бутылок, в том числе даже с шустовским коньяком, прихваченным на складах Мариуполя. Заканчивалась неофициальная часть встречи.
Сильно подвыпивший Зяма Сольский встал с чаркой в руках.
– Я счастлив! – произнес он со слезами на глазах. – Я счастлив! – И почти упал замертво, как от пули. Его тут же уволокли в одну из комнат и уложили на пышно взбитую перину. Тут это дело понимали.
Махно и Задов были, конечно, куда крепче московских гостей, и лишняя чарка для них – не пуля. Впрочем, один из московских гостей, молчаливый Зельцер, тоже держался молодцом. Втроем в углу стола они шептались.
– И шо, любую печатку можешь? – спрашивал Задов.
Зельцер открыл свой чемоданчик. Инструментов здесь было – как у хирурга. Штихели, бауммессеры, пинцетики, резиновые и березовые заготовки, а также образцы изделий: бланки, удостоверения, даже денежные купюры, включая большие, как носовые платки, русские «катеньки» и «петеньки».
– Шо, и гроши можешь?
Зельцер только усмехнулся.
– Ну а, скажем, типографське дело? В походе?
– «Бостонку» достанете – свободно. На телеге возить можно.
Махно и Задов переглянулись: золотой человек!
– А шо ж ты от большевиков ушел? – поинтересовался Махно.
– Так бюрократы… Селедочный паек… В семь на работу, в восемь с работы… И никакого творчества, свободы… Я же из анархистов к ним пришел! Можно сказать, на революционный огонек из-за границы прилетел! Был членом Американской федерации анархистов. Вот!
Зельцер достал из того же чемоданчика справку.
– Ну, справки ты нам не показуй! – добродушно пробасил Задов. – У тебе там небось есть и справка, шо ты – апостол Петро?.. Мы на тебя в работе поглядим, якый ты анархист!
Тем не менее он взял из зельцеровского чемоданчика большую сторублевую «катеньку», долго рассматривал ее на свет, поднеся к керосиновой лампе. В восхищении покачал головой:
– Красыво зроблено! Мастер!
Нестор вернулся в свою комнату далеко за полночь. Галина, услышав его шаги, поднялась: спала она почти одетая, с револьвером на поясе, только сапоги стояли возле кровати. Подкрутила фитиль лампы: огонек разросся, осветил внутренность комнаты, мало чем изменившейся с тех пор, как Нестор жил здесь с Настей. Повалился на постель.
– Галь! Неси холодную воду, рушник. Голова…
– Выпил много?
– Не… Тяжелый день, шо-то голова пошла кругом.
– Надо было контузию вылежать! – строгим голосом «учительки» сказала она. – Теперь будешь мучиться…
Галина наложила на его лоб мокрое полотенце.
– Не пойму, мы с тобой муж и жена или только боевые товарищи? – спросила она.
– Эх, Галка! Сам хочу мирной жизни, – произнес Махно. – Подожди трошки, все образуется. – Он помолчал немного, вновь заговорил: – Я, Галя, всех этих москвичей до тебя в агитпроп зачислю… Не! Пусть будет Культполитпросветотдел! Такого у большевиков нема! Один Волин чего стоит! Профессор, не кто-нибудь! Пускай нам пропаганду налаживают… Понимаешь, я давно понял, шо воевать только одним оружием – мало. Надо, шоб и слово участвовало. Говорят, слово может убить. Я, Галя, тоже знаю, шо слово может быть грозным оружием. От и пускай налаживают…
Нестор закрыл глаза.
– Ты меня до света разбуди, – попросил он.
– Куда ж ты? Отдохнул бы хоть день.
– Ты отдохни, разрешаю. Женщина все ж таки. А я… я в Волноваху. Там бои. Там я нужен.
– Боюсь я большевиков, – вздохнула Галина.
– Нема у нас, Галочка, других союзников, чтоб против эксплуататоров разом итти, – сонным голосом произнес Нестор. – И потом! Что такое настоящая война, я только сейчас понял… Небольшая у нас армия, а двенадцать подвод боеприпасу в день хоть удавись, а достань. Как если б в завод: угля не подали – гаси печи. Так и тут… А с большевиками договоримся. Они поймут. Жизнь научит. Придет мирный час, Галочка… Придет…
И он уснул, ощущая блаженный, успокаивающий холод полотенца.
«Ку-ку! – вскрикнула кукушка из своего оконца на размалеванных мальвочками ходиков. – Ку-ку!» Она словно издевалась над таким счастливым, политически выдающимся для дела мировой революции днем.
Впрочем, не для всех этот день был лишь политическим событием. Лёва Задов и Феня оказались в зале рядышком. И потом решили посидеть уже не в зале, а на улице, на какой-то чудом сохранившейся возле старой мазанки скамейке. Над ними нависала отягощенными ветвями большая старая черешня.
Подняв руку, Феня нащупала уже созревшую ягоду, протянула ее Лёвке. А тот, добродушно и басовито возражая, отдал ее Фене обратно как ответное угощение. Этот силач и жестокий боец казался сейчас безобидным увальнем. Феня сразу обратила внимание на этого огромного человека с плечами и шеей циркового борца. Но причина интереса заключалась, конечно, не в могучем сложении нового начальника разведки и контрразведки, а в его какой-то неподходящей для этой должности наивности и простосердечии. По крайней мере, Феня именно так его воспринимала.
Хохотушка и красавица углядела в Задове верного, надежного человека, настоящую опору. Но ни о чем серьезном не говорила, а, в соответствии с правилами игры, смеялась, задавала глупые вопросы, а потом, зная воздействие своего не сильного, но очень верного и переливчатого голоса, тихонько спела Лёвке несколько красивых малороссийских песен.
И еще тем понравился Фене новый махновский командир, что не приставал, как иные хлопцы, ссылавшиеся на торопливое военное время, не лез куда не надо. Он держал ее руку в своей тяжелой горячей ладони и лишь вздыхал.
Видела, чуяла: великан сражен наповал.







