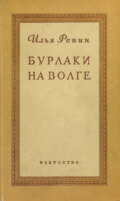Илья Ефимович Репин
Далекое близкое
Персанов принес эту картину Чурсину в дар за его всегдашнее ласковое и внимательное отношение к нему еще до отъезда Персанова в Питер. Как выдающийся талант, Персанов тяготел к Чурсину – самому образованному человеку в Чугуеве. Чурсин держал частную школу для молодых дворян, которых он подготавливал и в юнкера, и в провинциальные университеты. К Персанову он питал нежные чувства мецената, хотя сам был небогат и материально не мог поддерживать художника.
«Боже, в каких лохмотьях он явился ко мне, почти босой, пройдя тысячу пятьсот верст из Питера до Чугуева! – рассказывал мне Чурсин. – Я не мог не расплакаться, когда узнал его. Ведь это же была умнейшая голова! Как особенно он глядел на жизнь! Подолгу и с особенным удовольствием я любил говорить с ним. Я ждал от него в будущем великих созданий в искусстве. И вот страшная картина свидания нашего после восьми лет!
Сейчас же я распорядился, чтобы ему дали основательно вымыться; его остригли по его прежней артистической манере вроде „Брулова“; я нашел у себя покуда подходящее ему платье и сейчас же заказал ему новую сюртучную пару, серую, такую же, какую он носил до отъезда в Питер. Ах, чтоб он был неладен, этот Питер!
После первых минут невольных слез и радости я поражен был выражением его тяжелого „бруловского“ взгляда и какой-то детской робости, совсем не вяжущейся с его большим ростом. Теперь как-то странно смешались в нем сановитые, аристократичные манеры с дикими, неуклюжими спотыканьями высокого недоросля. Скоро я заметил, что он устал и голоден. Его накормили, отвели в особую комнату, там, как я надеялся, он отоспится и примет свой прежний облик Леонтия Ивановича Персанова. Однако и с утра, и к вечеру он все молчал; потом незаметно исчез и, как я узнал, пошел бродить по любимым местам Чугуева. Знаете вид на Хомутец, с горы от Староверского леса? Оттуда он однажды писал восход солнца».
Я хорошо помнил этот этюд. Все, что выходило из-под кисти Персанова, сейчас же становилось известно всему живописному мирку Чугуева, и все бежали смотреть новую работу Леонтия Ивановича.
«На другой день он объявил, что сейчас же пойдет к матери (до Балаклеи от Чугуева верст пятьдесят). Я стал ему предлагать подводу, чтобы свезти его в Балаклею. Он бросился вдруг целовать мою руку и тут же, что-то сообразив, резко отказался от подводы:
– Пойду пешком…
Я уговаривал его остаться, еще пожить у меня, обещал купить ему красок, кистей, холста и дать особую комнату, где никто не помешал бы его занятиям. Ничего не отвечая, он глядел в окно и только отрицательно качал головой.
– Ну хорошо, навестите вашу матушку, а когда захотите поработать в Чугуеве, вот эта комната всегда будет в вашем распоряжении: я всегда буду рад вам, – продолжал я.
Он все молчал, обратясь ко мне профилем; его выпуклый голубой глаз заблестел слезой… Из боязни разрыдаться он строго, до злости, взглянул на меня и быстро вышел на улицу. Пошел по улице без шапки по дороге в Балаклею. Я не велел никому следить за ним – пусть отдохнет, одумается, бедняга. Под глазами темно, лицо страшное, но еще молодой – ему не было тридцати шести лет, да нет – немного больше тридцати пяти лет.
И с тех пор я его не видал. В тот вечер, однако же, поздно ночью, он вернулся в мой двор, пробрался тихонько в сарай, там и спал; на заре видели, как он, без шапки же, в чем был, так и ушел из Чугуева. В сарае как-то выпачкался, волосы всклокочены – страшный, говорят. Мне об этом сказали уже часов в девять, утром.
Первое время я еще поджидал его, но потом узнал, что к матери он пришел уже без сюртука, – не знаю, сколько времени он шел до Балаклеи. А впоследствии рассказывали, что все сидел у нее на печи в одной рубашке – совсем потерял, бедный, рассудок».
Через несколько дней после этого рассказа я опять пошел к Чурсину. Хотелось еще взглянуть на картинку и узнать что-нибудь о несчастном художнике. По внешности, по тону и отделке произведение Персанова можно было сравнить с голландскими миниатюрами; но, в сущности, картинка эта до бесконечности своеобразна.
Только перед отъездом в Питер, прощаясь с Чурсиным, я снова услышал о несчастном художнике: бедного Леонтия Ивановича схоронили недели три назад. Царство ему небесное!
Так несчастливо кончил несомненный, редкий и сильный талант. Талант этот чувствовали в Чугуеве все живописцы, легенды о нем знали все мальчики и краскотеры, позолотчики и столяры. Все верили, что Леонтий Иванович необыкновенный художник. Что бы ни написал Персанов, все бежали к Нечитайлову смотреть новое очаровательное произведение. Леонтий Иванович не жалел дорогих красок; в Харькове он купил – это все было еще до отъезда в Петербург – по фунту самых дорогих: ультрамарину, кальмиуму (кадмиум) и кармину. Картины его отличались от картин всех других наших живописцев дивным колоритом, это было нечто невиданное.
Он был учеником Ивана Михайловича Бунакова (вот почему и я поступил к Бунакову).
Это было уже после проезда Айвазовского через Чугуев. Шли еще свежие рассказы о том, как Беклемишев отправил Персанова на свой счет в Питер.
За год до отъезда Персанов совсем разошелся с Бунаковым. Вышла какая-то ссора между ними. Мальчик, свидетель этой ссоры, рассказывал мне, что Бунаков очень резко упрекал и грубо обзывал Персанова. Тот слушал серьезно и только иногда вставлял одно слово в ответ: «Взаимно». Бунаков всегда хвастался успехом Персанова. «Сколько я стаивал за его спиною, – частенько повторял Бунаков уже во время моего учения в его мастерской. – Ведь я, как доброму, открыл ему все секреты, а он… неблагодарный!»
Персанова можно считать типичною жертвою петербургской Академии художеств. Я часто думаю: что было бы, если бы он оставался на свободе? Может быть, развиваясь самобытно, он дал бы миру новые шедевры. Но такова судьба полуобразованных народов, такова же судьба и личностей: они всегда состоят в рабстве у более просвещенных и ломают себя в угоду господствующим вкусам и установившимся положениям.
А были чугуевцы, которые в Петербурге сделали карьеру, вышли в люди, дослужились до генеральских чинов из простых писарей: Гейцыг, Жаботинский, Николенко. В Главном артиллерийском управлении они выслужились до больших рангов. Гейцыг был заметным деятелем. Жаботинского и Николенко еще писарями я несколько раз посетил на их казенной квартире. На маленькое солдатское жалованьице эти молодые люди ухитрялись жить прилично, чисто одеваться и самообразовываться – они много читали и серьезно готовились к офицерскому экзамену. К чайнику каждый нес свою щепотку чаю и свой сахар.
Однажды разговор зашел о Персанове.
– Как же, как же, у меня есть несколько его этюдов, – прозаическою скороговоркою произнес Жаботинский. – Бедствовал и голодал бедняга страшно. А гордый был, виду не покажет, бывало, что не ел уже дня два… И едва-едва я чуть не силою запихивал в его карманы, что мог уделить от своих скудных казенных сбережений и заработков по грошовым урочишкам.
– Покажите, покажите этюды! – обрадовался я случаю увидеть академические работы Персанова.
Тогда я уже хорошо понимал и школы античной пластики, и линию, и формы анатомического строения человеческого тела. Увы, Персанов был очень далек от академической школы, а Жаботинский измерял талант художника только успехами в Академии и был убежден, что простого чугуевца, не имевшего протекции (Беклемишев, по своим стесненным делам, жил далеко от столицы), заедали профессорские сынки и не давали ему хода.
В каждом этюде Персанова с особенным чувством и воображением был писан в темных, трагических красках фон. Темно-лиловые и синие глубины заставляли играть розово-оранжевые блестки по бирюзовым прозрачным массам. Самая суть этюда – тело натурщика – нисколько не интересовала художника; он трактовал его без любви и не без скуки, а потому оно, естественно, терялось на его фантастическом поле. Некоторые из этих вдохновенных фантазий юного мастера удостоились даже быть перечеркнуты мелом (они, естественно, мешали профессорам судить специально о штудии тела). И чем мог вдохновляться Персанов? Казенные грязные стены наших этюдных классов были и при мне еще завешаны кое-где, без всяких претензий на изящество, большими классическими картонами – копиями с Рафаэля Менгса (они сгорели во время последнего пожара в Академии художеств).
Этого перечеркивания фона удостоился потом и я, но совершенно по другой причине. Будучи реалистом по своей простой природе, я обожал натуру до рабства; и вот, чтобы найти несомненные отношения тела к стенам, я не мог выбрасывать и закоптелых картонов в их черных рамах. Рельеф зато выходил у меня несомненно; я стал получать близкие номера и скоро увлек весь класс: все стали писать казенные рамы на фоне сильнее самого этюда, в явный ущерб пластике тела и серьезной школе.
– Да что это все рамы эти стали писать! Это совсем не художественно! – вскипятился однажды Алексей Тарасович Марков. – Служитель, передай инспектору, чтобы распорядились убрать эти картоны со стен.
И на экзамене мелом были зачеркнуты все рамы в фонах этюдов нашего натурного класса.
В Петербурге
1863–1870
I
Дилижанс из Харькова в Москву
Ох, это сон!.. Не может быть, чтобы это было не во сне: вот так, на наружном месте громадного дилижанса я сижу уже не первые сутки и еду, еду без конца…
Впереди четверка почтовых лошадей, впряженных в дышло, дальше, на длинных ременных постромках, еще две лошади; на одной сидит мальчик-форейтор с оттопыренными локтями. Он высоко подымает поводья и, болтая ногами, старается посильнее ударить каблуками в бока лошади.
Впереди меня опытный ямщик в ямщицкой шляпе держит массу вожжей в левой руке, а правой длинным кнутом без сожаления стегает правую пристяжную. Хорошо, что она с ленцой…
Ух, как у меня застыла спина, трудно разогнуться; на остановках я едва могу слезть с высочайших козел и через громадное колесо спрыгнуть на замерзшую землю, покрытую инеем. Как больно ступить на ноги после долгого сидения!
А может быть, все это во сне? Я проснусь, и вдруг окажется – я в Сиротине, в большой каменной церкви; может быть, еще не все образа, взятые мною поштучно, закончены…
А как страшно вспомнить и сейчас даже, что я едва не упал там с высочайших лесов на каменный пол церкви, когда писал «Святую Троицу». Это привычка у меня отскакивать от работы во время писания. А загородки не было – так за авось сколько гибнет мастеровых! Какое счастье, что я жив и еду в Москву, а из Москвы… но это уж опять фантазия…
Поеду в Питер?! Холодно, руки стынут, поясницу не разогнешь, и неудобно поворачиваться. На мне шубка, покрытая сукном стального цвета, и кошачий мех нежно отогревает меня; а сверх этого на мне шинель черного сукна с «ветряком»[48].
Эта шинель принадлежала одному студенту-семинаристу в Купянске, родственнику Тимофея Яковлевича, нашего подрядчика. У меня было тогда драповое пальто, которое ему понравилось, мне же казалась каким-то фантастическим благородством его шинель. И когда, быстро сдружившись, мы обменялись комплиментами нашим верхним одеяниям и он выразил желание поменяться со мною своею шинелью на мое драповое пальто, я едва поверил своему счастью. И теперь, любуясь на себя в больших зеркалах станционных домов, пока «перекладывают» лошадей, и видя себя в этой шинели, широко накинутой на мою кошачью шубку, я сомневаюсь: неужели у меня такая благородная наружность?!
Но мы стоим недолго: не успеют богатые пассажиры убрать свои погребцы с закусками, как уже кондуктор, с трубою через плечо, приглашает в карету.
И опять мы едем, едем без конца, и день и ночь, и утро и вечер – все едем.
Страшно спускаться с больших гор. Огромный тяжелый мальпост трудно взвозится на горы даже шестеркой лошадей. Случалось, в гололедицу мы долго ждали под горой, пока форейтор приводил подмогу с почтового двора; а под гору такой рыдван, как наш, непременно следует тормозить. Наши же ямщики преисполнены, не скажу, презрения ко всяким разумным приспособлениям, а просто лени и готовы всегда отделаться на авось.
Мне все видно с моего тесного высока: две могучие дышловые лошади совсем почти садятся на зады, чтобы сдержать тяжесть всей двухэтажной кареты, нагруженной, кроме нас, наружных пассажиров, еще благородными господами и барынями, сидящими внутри, да еще наружными местами позади кареты.
Из Харькова дилижанс шел не каждый день, и не всегда были свободные места в каретах. (Дожидаясь места в дилижансе, я прожил у тетки М. В. Тертишниковой в Харькове на Сабуровой даче целую неделю.) Набитый внутри и снаружи дилижанс сверху был еще нагружен большими корзинами, чемоданами, сундуками; все это было плотно укрыто огромным черным кожаным брезентом и закреплено железными прутами, замкнутыми в железных кольцах ключом кондуктора. И как подумаешь, что всю эту тяжесть выдерживали дышловые, и – о ужас! – на одних постромках да шлеях, – не верится бесшабашности и лени русского ямщика.
Ах, сколько было случаев и на нашей дороге – я не вспоминал бы иначе… Ведь шоссе окопаны глубокими канавами… И не раз, разогнавшись, незаторможенный экипаж врезывался и опрокидывался в канаву. Счастье мое, что я на гору и под гору тогда сбегал пешком, чтобы погреться, а то – с высокого наружного места легко было сорваться в канаву… Лучше не вспоминать. После я уже не давал покоя кондуктору, пока под гору тормоза не были подкинуты под колеса.
Погружаясь в какое-то летаргическое состояние во время долгих ровных переездов, я опять грезил Сиротиным и нашей забастовкой перед моим отъездом. Вот ямщик закурил трубочку нежинскими жилками[49], и этот запах сразу перенес меня в сиротинский кабак, куда и я пошел тогда со всеми мастерами.
В кабаке сначала мы стали, по обыкновению, петь песни нашим спевшимся хором – большею частию украинские. Потребовали водки – как же без этого дурмана! В окна весело светило утреннее солнце – было часов шесть, и голубой дымок нежинских жилок обвевал нас приятным ароматом. Водки я совсем не любил: она на юге у нас сильно пахнула тогда житом и была горька, как полынь-сивуха. В душе своей я глубоко скучал и беспокоился, что вот-вот напьется эта трудовая ватажка – начнутся между ними легкие намеки, попреки, счеты, и, пожалуй, закончится все это буйством и дракой… И как кстати появился тогда староста Семен! Еще молодой ражий мужик, это был и большого роста, и большого созидательного ума – самородок. Остановившись в сиянии солнечного луча, в голубом дымке жилок, Семен укоризненно покачал своею кудрявой головой, положил мощную рыжую пятерню на свою окладистую рыжеватую бороду и сокрушенно вздыхал, оглядывая нас. И вот он решительно подходит ко мне…
– И ты тут?! – говорит он, обнимает меня за талию и просит идти с ним: – Уж тебе-то тут не место! Ну пускай они денек-другой погуляют; ведь мы их не обидим – все будут как следует ублаготворены… А тебе что с ними? Тебя мы не пустим; ты иди кончай свою работу: твои деньги у меня. Не веришь? Пойдем со мною, я тебе покажу твои деньги, – сказал он, наклонив ко мне таинственно свою высокую голову. – Пойдем.
Рука его так плотно покрывала всю мою спину и мягко, бережно держала всего меня в своей черноземной воле, что я не мог не пойти с ним. Мы дошли до возвышающейся широкой пустоши, где одиноко стояла каменная сиротинская церковь. Он шел все дальше.
– Да куда же ты? – уже выражаю я беспокойство.
– Не бойся, иди за мной.
Было тут несколько ямок, где брали глину или песок. Он спрыгнул в ямку и отвернул полу своего сермяжного кафтана; там был виден его холщовый карман, перевязанный веревочкой.
– Вот где твои деньги; как кончишь работу, получай свой расшот, и с Богом: я теперь хозяин, я взял тебя за себя. Не веришь?
Он развязал веревочку и достал из кармана две пятидесятирублевые серенькие бумажки.
– Вот они.
– А как же товарищи? – говорю я в раздумье. – Ведь так неблагородно будет мне одному получить и утечь.
– Эх, чудак, не понимаешь! Ведь я там же, в кабаке еще, сказал, что никто не будет обижен. Да ведь подумай: разве я деньги сам делаю? Надо же сход собрать, надо деньги выручить – на это время надо. Теперь вот начнут молотить, на базары рожь возить, свадьбы править – все при деньгах будут; ну и соберем к концу дела. Как можно, чтобы для божьего дела мы вас обижали?! Вы, знай, работайте; а расшоты я сам буду платить, хозяин только считать будет, кому за что, без него нельзя. Да на него одного, брат, надёжа плоха, разве я не вижу.
В своих мыслях я засыпаю, согнувшись, скованный долгим холодом. Вдруг страшный толчок: дилижанс остановился. Ночь темная, невдалеке от шоссе едва мерещится под горкой лесок.
Кондуктор выстрелил из пистолета, и оба они с ямщиком бросились в потемках к лесу, куда исчезли сейчас три темные тени, спрыгнувшие с верху нашего омнибуса. Засуетились все пассажиры – страх! Но кондуктор с ямщиком вернулись скоро, сделав еще несколько выстрелов из ружья в темноту, в убежище теней.
Засветили фонарь, полезли наверх. Брезент из толстой кожи был разрезан над чьим-то чемоданом; разрезан и чемодан в одном углу, и из него уже начали вытаскивать белье; в это время задремавший кондуктор, услышав наверху возню, крикнул ямщику, и дилижанс остановили.
Оказалось, что эти места славились ворами, – это было начало Орловской губернии. К рассвету замелькали в темноте какие-то серые тени, и я с ужасом увидел, как за нашим дилижансом бежала целая толпа оборванных людей: и подростки, и женщины. Все протягивали руки и умоляли бросить им что-нибудь, причитали, что они умирают с голоду…
– Неужели это правда? – расспрашиваю я кондуктора.
– Да, – отвечал он, – ведь это все бывшие крепостные. Помещики держали огромные дворни, ведь все это избалованные люди, ничего не умеющие. Господа, кто побогаче, уехали – кто за границу, кто по столицам. Усадьбы пусты. Эти дворовые теперь, как и прежде, знают только два ремесла: нищенство и воровство; да и до разбоев доходят: иногда остановят в поле кого одинокого, ограбят да еще и убьют, если почта не выручит. Нас-то они боятся, знают, что и пистолет, и ружье не помилуют их… Живо удрали. А разве его поймаешь в такой темноте? Может, он тут же в канавке прилег… Опасно и отлучаться подальше. Убьют еще.
Утром как на подбор деревни, которыми мы любовались издали, вблизи оказались отчаянные: крыши пораскрыты, скотина воет.
– От голода, – говорит ямщик. – Знамо, где им корму взять? Все теперь господа распродали и из деревень повыехали… Ну уж и разоренье тоже! Что они теперь будут сами-то делать?..
Под станции дилижансов отведены были особые дома, не казенные; они были хорошо убраны, а буфеты были уставлены разными яствами; подавался кипящий самовар, и богатые господа усаживались кругом стола, отмыкали свои красивые погребцы и доставали оттуда свои чашечки, чайники, заваривали чай, клали в чашки свой сахар и пили; если это была большая остановка, весело разговаривали. Да и нам приятно было погреться в большой теплой комнате.
А я закусывал еще дорогой, сидя на своем переднем открытом месте, из своей сумочки, где у меня были калачи домашнего печения на яйцах; я прикусывал с ними очень маленькими кусочками наше сальце (украинское сало). На воздухе это было превкусно, но я старался не съесть много, чтобы хватило до Москвы.
Как хотелось выпить стакан чаю! Но он стоил страшно дорого – десять копеек за стакан! Неужели кто-нибудь будет пить? Всякий имел свой чай и сахар, и я не видал, чтобы нашлись кутилы. Этакие деньги! Вот дерут!
Закусивши за чаем, все господа весело выходят садиться в нашу высокую карету. Но какая неприятность: опять уже стоит здесь по обе стороны экипажа эта толпа голодных, холодных, оборванных людей, на некоторых только рваные остатки овчинных нагольных грязных полушубков, из-под которых так неприятно виднеется непокрытое, голое темное тело; и руки, руки, и малые, и большие – и бабьи, и детские – все тянутся к нам… Я поскорей влезаю на свою высоту и оттуда гляжу на несчастных. Вот один высокий красивый пассажир бросил медную монету. Как за ней бросились все, давка до полусмерти… И опять руки, руки… Ну слава богу, лошадей тронули, и загремела наша колымага, но нищие бегут у самых колес; ямщик даже щелкает и замахивается на них кнутом, чтобы отогнать от колес; они всё бегут, долго бегут; и на горку, и под горку – все бегут за нами… Страшные…
Про них все говорят: «Это орловские разбойники и воры…» Один пожилой серьезный господин с наружного места говорил, что не следует бросать деньги нищим – это их страшно развращает, они привыкают к безделью: ведь целый день у них и дела больше нет, как бегать за каретами проезжающих. О боже! Какой ужас ехать такой стороной!
Я опять вспоминаю, как дома перед отъездом я чуть не угорел до смерти. Случилось это так: когда я приехал домой, мы хорошо поужинали сухой рыбой с красным бурачным (свекольным) квасом; весело топились печки, и после холода в дороге я так блаженно отогрелся в натопленной комнате! Скоро мы пошли спать… Ночью я проснулся и ничего не мог понять: у меня страшно болела голова. Меня держали чьи-то здоровые, сильные руки, а маменька лила мне на голову тот же красный бурачный квас. Едва отлили меня водой; и на другой еще день меня тошнило и болела голова. Кто-то закрыл рано угарную печку, сильно натопленную, кажется, первый раз после лета: это было в конце октября.
II
На церковной работе
Но мы едем и едем все в том же нашем тяжелом рыдване. Я грезил; большею частью в грезах мне представлялись иконостасные мои образа: я еще жил ими, только что написанными. Писал я их прямо на лесах. Мне платили по пяти рублей за образ. Среди лета вставали мы в четыре часа; было уже светло; и вот до вечера, часов до девяти, когда все кончали работу, мой образ бывал готов. Так, разве чуть-чуть что-нибудь приходилось поправить; от этих поправок Тимофей Яковлевич, подрядчик наш, всегда меня отговаривал.
– И так очень хорошо, – уверял он.
Должен признаться, что и в Сиротине я имел успех со своими образами. Я пользовался, конечно, необходимыми указаниями и канонами, по которым пишется всякое изображение святых или целых сцен (у каждого живописца сундучок наполнен гравюрами), и был поощряем доверием и интересом всего прихода и даже своего подрядчика, который хвалил меня не из одной только собственной заботы об успехе общего порядка, но и потому, что действительно любил живопись и сам был живописцем не без способностей.
Все мужики, и особенно староста Семен, побывали у меня на лесах и даже вблизи подолгу разглядывали мои образа, каких они прежде нигде не видывали. А я, подбадриваемый этим вниманием, ощутил в себе большую смелость и свободу творчества, и кисти мои вольно играли священными представлениями: я позволял себе смелые повороты и новые эффектные освещения сцен и отдельных фигур. Свежесть и яркость красок, необычная в религиозной живописи, была для меня обязательна, так как мои образа публика видела только снизу, на расстоянии трех-пяти сажен. Видевшие же работу близко у меня на лесах еще более дивились: как это издали «оказывает» так тонко и хорошо, хотя вблизи другое.
Особенный успех имела моя «Мария Магдалина»; я видел эффект распространенной по всей Украине известной вещи Помпея Батони, но, конечно, как и во всех других образах, ничего ни с кого не копировал буквально, я только брал подобный же эффект и обрабатывал его по-своему. Так, и моя Магдалина не сидела с крестом на коленях, как у Батони. Моя стояла у стены, повернувшись в молитвенном экстазе к лампаде, которая висела в углу высоко, а не стояла, как у него, на полу.
– Как это она наполовину в огне? – удивлялся Семен.
И видно было, что всю публику очаровывают свет и заплаканные глаза Магдалины. Должен повиниться перед читателем: все делалось мною без всякой натуры, только по одному воображению. И я не могу даже вообразить, как показалось бы мне самому теперь мое первое свободное молодое творчество. Есть ли в нем искра непосредственности Джиотто, – или там разгуливалась безудержная развязность провинциального фантазера? И например, даже такую вещь, как «Три святителя» – обыкновенно скучный многодельный сюжет, – я трактовал дерзко: одного из святителей, Иоанна Златоуста, поставил в профиль, с высоко поднятым Евангелием; другого – Василия Великого – свет ударил лучом с неба, а Григорий Богослов – один, в полутоне, вне луча; Василий Великий стоял, едва видимый через прозрачный луч… Ведь так и работы мне было меньше. Сосредоточив на свету всю силу отделки деталей на митре, панагии и кованой ризе Василия Великого, освещенного ярко, других я уже касался едва, лишь намеками… И представьте, даже придирчивому батюшке не показалось это шарлатанством молодого живописца: всем нравились мои смелые образа.
Чего-чего не передумаешь в бесконечной дороге! Я часто вспоминал своего любимого товарища Ивана Даниловича Шемякина; он был резчик, мой ровесник, донской казак родом. Это был смелый, талантливый художник! Не могу забыть, как он резал в церкви Царские врата: все мы зазевались на его работу. Куда бы кто ни шел, всегда останавливался около него, и любо было стоять за его спиною, когда он наколачивал, наклеивал выступающую вперед листву орнаментов. Как у него лилась, извивалась, разворачивалась и снова уходила под ветви партия акантов!.. Чудо! И все это свежо, только что вырезано из пахучего, теплого, золотистого дерева.
И вот другая особенность его творчества: этот молодец не ставил перед собой никаких образцов, все была его личная фантазия. Нас с ним считали братьями – было между нами некоторое сходство и в лицах.
По воскресеньям и большим праздничным дням мы вдвоем делали большие прогулки по окрестностям. Начинали с обедни в каком-нибудь соседнем селе и так до самого вечера: купались где-нибудь в мельничных запрудах; где-нибудь в селе нам стряпали яичницу, давали хлеб, молоко и огурцы свежие с огорода; также и вишни, и груши, и яблоки из хозяйских садов с большою щедростью предоставлялись нам собственниками, когда те узнавали, что мы работаем в церкви.
Об этом и вспоминать всегда приятно. Но в этих воспоминаниях есть и неприятные страницы.
В огромной работе над иконостасом участвовало много мастеров, и нередко из окрестностей являлись и новые мастера с предложением своих услуг. Однажды с особой даже рекомендацией к нашему хозяину присоединился к нам какой-то скромный старичок живописи. Как после оказалось, ему было уже более восьмидесяти лет; он учился еще у Шебуева в Питере, когда тот был ректором Академии художеств. Его еще мальчиком определил туда помещик как своего крепостного. Звали его Григорием Федоровичем (фамилию я забыл). Мне он показался очень интересным; особенно я ждал от него рассказов об Академии художеств и о Шебуеве, которого, как и Брюллова, все живописцы знают по гравюрам и литографиям с их образов.
Но Григорий Федорович был уже так древен и его пребывание у Шебуева относилось к столь давним временам, что в рассказах его не оказалось ничего особо интересного. Как с особенным таинством искусства, после того как мы уже с ним довольно подружились, он познакомил меня со своим приемом рисунка, заключавшимся в том, чтобы никогда не закруглять линий, всегда очерчивать только прямыми чертами, не соединяя их никакой тушевкой. У него был большой запас снимков с припорохов[50], между другими и с шебуевских оригиналов; все они были рисованы одними контурами из прямых линий; в большом количестве это производило скучное, слепое впечатление, но я относился к нему с уважением, хотя лично никогда не стремился усвоить себе этот метод прямых линий.
Григорий Федорович был очень благочестив, скромен и доброжелателен без пересаливаний, был прост. Он никогда не работал в праздники и очень сокрушался, когда однажды в воскресенье застал меня за работой, – я делал образок для отца Алексея по его просьбе на память.
Другие наши живописцы сначала потихоньку трунили над старичком, изображая его бритое лицо и колпак, который он всегда надевал во время работы в церкви, я же защищал его: по происхождению крепостной, старик он был очень благородный в своих мыслях и действиях. Он рассказывал, между прочим, как однажды, искушаемый дьяволом, вздумал он было нечто зарисовать в воскресенье. И вот в полной тишине откуда-то ворвался порыв ветра, вырвал из его рук бумагу и унес ее в вихре. С тех пор в праздники он уже не брал в руки ни карандаша, ни бумаги.
Григорий Федорович писал два образа для алтарных дверей – северных и южных; на одной изображался архангел Михаил, на другой – Гавриил. Писал он бесстрастно, вяло и бесцветно и, как все иконописцы, довольствовался тем, что выходило из-под его кисти, без всяких исканий и переделок. Образа его были кончены, и вот начались потихоньку фырканья и насмешки над лицами его архангелов. Я удивлялся этим нападкам – особенно Тимофея Яковлевича – и защищал работу Григория Федоровича. Дошло до священника. В конце концов Тимофей Яковлевич объявляет мне требование отца Алексея, чтобы эти лица были переписаны мною, и Тимофей Яковлевич начинает упрашивать меня переделать.
Мне было и недосужно, и неприятно, и, наконец, я был в дружеских отношениях со стариком; я долго отказывался, но доводы о необходимости переделки были такого характера, что их уже нельзя было обойти.
Решили, что в одно из воскресений, когда старик, по обыкновению, пойдет куда-нибудь на весь день, я в алтаре пропишу сверху лица архангелов его работы, и они будут поставлены на свое место, так что он и не узнает. Я принялся раненько и, признаюсь, очень увлекся освежением и оживлением ангельских ликов, которые, правду сказать, были похожи у него скорее на старых парок, чем на юные райские создания…
Работаю, отскакиваю по обыкновению. Но вдруг оглядываюсь, и – о ужас! – он!
Вероятно, мальчики, по наущению старших, известили нарочито Григория Федоровича. Я не слыхал, как дверь отворилась и почти трагическая фигура всегда скромного, но теперь неузнаваемого, до сумасшествия расстроенного старика выросла передо мною страшным укором.
Я был так сконфужен и убит, что добрый старик скоро сжалился надо мною: он простил мне, но долго тихо и убедительно объяснял мне большой грех моего поступка.
Когда он кончил, я предложил ему стереть всю мою работу… Я писал по хорошо высохшему – даже ничего не будет заметно.
– Нет, – сказал он, – ведь вы же не самовольно это сделали, вас обязали, как вы говорите, – это было делом попечительства в лице священника. Так что уже все равно: если сотрете вы свою работу, отдадут переписать другому. Уж лучше пусть будет ваша работа сверх моей, вас я все же считаю за очень способного молодого живописца. Но вот мой совет: никогда не переписывайте чужой работы… Ох, какое мне это оскорбление на старости!.. Завтра же я уйду отсюда…