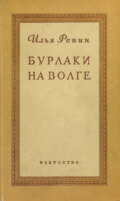Илья Ефимович Репин
Далекое близкое
Ай-ай, как он выкидывает ногами! Как у него плечо ходит и что-то в животе закрокало! Кро-кро! Кро-кро! Гришка два раза пробежался, и шаги лошади делались все шире и шире. Вот конек! Чудо!.. Чудо!.. Ах, вот картина!
– Да, уж каков бег, так и говорить не остается, – говорит растроганно батенька. – А запрягите-ка его в дрожки да по ровной дороге! Смотрите, длина лошади, а какая грудь! Между передними ногами человек пролезет легко да прямой пройдет. А копытища! Какая крепость! И изволили заметить, как он наружу подковку перед нами поворачивает? Какие статьи-лады! Без всяких пороков. Четыре года лошади, с окрайками…[21]
Батенька подошел к лошади, притянул к себе повод, смело полез в рот красавцу и оскалил ему зубы. Показывает барину.
– Не угодно ли взглянуть – вот они, окрайки. Уж лошади так лошади. Что тут толковать много… Я их к молдавскому визиру в «Букарешки» поведу – вот где продам.
– Ну да что же, – говорит барин, высоко подняв брови, – если и другой такой же, то за пару я, пожалуй, дам тебе тысячу рублей.
– Нет, ваше благородие, далеко нам торговаться. А мне вот как: если будете давать за пару тысячу девятьсот девяносто девять, так и то не отдам. Я вам, как первому покупателю, сразу сказал решительную цену. Вот как перед Богом святым.
– Нет, вижу, Репка, ты сегодня плотно поел, несговорчив. Я к тебе еще заеду.
– Милости просим: найдем и на вашу цену. У меня нынче выбор хороший. Шестнадцать лошадей в сараях стоят – есть и другие лошади.
За воротами стояла, позванивая бубенцами, пара бариновых: запряженные в тарантас вороненькие лошадки. Покатил.
– Ну-ка, Гришка, запряги мне в беговые дрожки этого серого – сбрую наборную… Илюха, хочешь со мной прокатиться? Только надо крепко мне за спину держаться.
– Ай, хочу, хочу! Буду держаться! Возьмите, батенька!
– Ну иди скорей, надевай хорошую рубашку и новые сапоги.
Мы сели. Я крепко уцепился за батеньку. Сначала шагом выехали из ворот. Вот шаг – ну совсем рысью идет. А как натянул батенька вожжи – как пошел он кидать нам землю и песок, даже рукам моим больно, так и сечет, и выглянуть нельзя из-за спины батеньки. Мигом взлетели на Гридину гору.
– А вот и барин, недалеко убег от нас, – говорит батенька.
Вижу, барин пылит на своей паре и точно на одном месте топчется. Остановился. Батенька натянул вожжи, и в секунду нагнали мы барина.
– А, Репка, не думай, что ты меня обогнал: это я нарочно задержал, чтобы посмотреть рысь серого.
– Где же нам обогнать, ваше благородие! Прощения просим!
И батенька важно снял шапку, красный платок из нее выскочил, я едва успел схватить его – передал. Он надел шапку, взял опять потуже вожжи, и мы как вихрь понеслись. Я оглянулся: барин так же пылил и топтался на месте, совсем не двигаясь за нами.
Мы скоро пролетели выгон, Харьковскую улицу, я даже не успевал рассмотреть расписанных поселянских домиков – чудо как расписаны: большое фронтонное окно, широкий наличник и два окна внизу – все разными красочками и цветочками… Повернули по Никитинской, выехали к лавкам (богатые, дорогие лавки). Батенька здесь остановил, и мы почти шагом проезжали мимо купцов. Все они высыпали на нашего серого посмотреть. Я некоторых купцов знаю: они знакомы с батенькой. На ступеньках и за каменными балясинами – везде купцы и господа стояли и смотрели сверху на нас.
– Ефиму Василичу почтение! С приездом! – снял шапку Поспехов.
Кланялись Степаша Павлов, Коренев и другие.
– Ай да конь! И откуда вы такого привели? Это рысак, сейчас видно, – сказал Иван Коренев. – Рысак!
Батенька уже осторожно, чтобы не выронить красного платка, снял картуз и раскланялся с купцами.
Мы заворотили на Дворянскую улицу: тут все большие двухэтажные дома, некоторые с балконами. Окна отворены, везде видны красивые господа и барышни. Ах, какие красавицы, барышни! Как разодеты! Все в кисеях да в шелках и с цветными зонтиками на балконах сидят, с офицерами на французском языке разговаривают и показывают на нашего серого.
А он точно понимает, что на него глядят такие красивые господа, так и выступает, так и гарцует копытами и гривою трясет. Наборные кисти висят через оглобли и раскачиваются; вычищенные медные бляшки блестят на черных ремнях, горят и переливаются на серых яблоках белой шерсти.
Вдруг наш серый как заржал! И даже луна[22] за Донцом отозвалась.
Некоторые мальчики-дворяне смотрят на него и удивляются, что мы едем на таком чудесном коне. Мне издали нравятся мальчики-дворяне: они такие хорошенькие, чистенькие. Мне бы так хотелось с ними познакомиться! Но этого нельзя: мы поселяне.
Обогнали несколько подвод поселян – порожнем тарахтели. Вот лошаденки! Точно телята или овцы: тюп-тюп-тюп-тюп – и ни с места.
Один шутник, бойкий парень, крикнул батеньке:
– Дядя, давай конями меняться?
– Цыгане будут смеяться, – ответил батенька.
– Сколько придачи дашь за моего гнедого мерина?
Отъехали.
– Вишь, – говорит батенька, – малый-то караготник. «Как зайде в карагот (хоровод), как лапоть об лапоть трахне, так искры и сыпя!»
– Стой, стой! – крикнул другой, навеселе был. – Сколько дашь придачи за мою кобылу? А?
(Кляча – кожа да кости, и с теленка ростом.)
– А этот, – говорит мне батенька, – щеголь-гуляка, что ни год – рубаха. А порткам и смены нет…
Мы их обдали пылью и быстро покатили…
– Стой, стой!.. Мы вас обгоним! – кричали пьяные; они изо всей мочи стали бить кто палкой, кто кнутом своих кляч.
Один вскочил стоймя в телеге, лупит изо всей силы лошаденку, орет: «Дого-о-ним! Не уйде-е-ешь! Держи их… Держи-и-и!» Но где же им?
Далеко остались…
VIII
В своем дворе
Взвизгнул, вскочив на дыбы,
разъярившийся конь, —
Грива горой; из ноздрей, как из печи,
огонь.
Жуковский. Рыцарь Роллон
На другое утро, в пятницу, – в Чугуеве базарный день – спозаранку ворота в наш двор были отворены, и к нам везли с базара на волах высокие возы с сеном, а на конях возы меньше.
Посреди двора складывали громадный скирд сена: весь двор был засорен душистым сеном. Кроме того, везли еще, на волах же, возы с мешками овса, а некоторые возы поменьше также везли и на лошадях, маленьких поселянских клячах. Овес ссыпали в амбар, в закром. Освободив возы от клади, хозяева отпрягали лошадей, снимали ярма у волов и пристраивались к сторонке в ожидании расчета. Некоторые подкладывали скоту сенца, другие водили своих коней поить на Донец. Хохлы располагались под телегами и ели свиное сало с хлебом; нет, виноват, это по понедельникам свиное сало, а в пятницу ели тарань, которую долго надо было бить об телегу, чтобы она стала мягче и чтобы сухая кожа с чешуей отставала от твердого тонкого слоя мяса тарани.
Двор наш казался ярмаркой. Везде громко говорили люди, больше хохлы; мне их язык казался смешным, и, когда несколько «погепанных»[23] хохлов говорили громко и скоро, я почти ничего не понимал. Из разных деревень были люди: из Малиновки – это близко, а были хохлы из Шелудковки, из Мохначей, из Гракова, из Коробочкиной, наши русские – из Большой Бабки и других сел.
Батенька ездил на базар на высоком рыжем мерине – смирная лошадь, – в плетеной натычанке[24]; надо было кое-что «взять» с базара из провизии.
Приехав домой, он проверил возы и, пока складывали скирды сена и ссыпали овес, пил чай. Мы уже все напились раньше: с базара он всегда опаздывал.
Наконец батенька вышел на крыльцо с табуреткой и счетами в руках. Ему принесли стул, и еще один стул для маменьки.
– Мать, а мать! Записка у тебя? Иди-бо! Ну-ка читай, а я буду на счетах считать.
Маменька стала читать по его записке.
– Три воза из Гракова, воловых – девять рублей.
– Да, это хорошее сенцо, пырей чистый, степное: так, девять рублей.
Щелк, щелк.
– Один воз конский – один рубль двадцать копеек.
– А это из Мохначей, луговое, – дрянцо; ну да сойдет теперь и это, мешать будем.
– Из Коробочкиной – пять возов по два рубля семь гривен. Из Шелудковки – четыре воза конских по рублю тридцать копеек.
– Ага, хорошие возы – парные – пять рублей двадцать копеек.
Щелк, щелк, щелк, щелк.
Некоторые собственники подошли к самому крыльцу, сели внизу ждать расчета по очереди, а другие просили рассчитать их, отпустить: они были издалека – из-под Гнилицы.
– Сейчас, сейчас. Посидите, подождите, – говорил батенька. – По два сорок, по два сорок…
– Семь рублей двадцать копеек, – помогает маменька.
Батенька вынимает, отстегнув жилетку, туго набитый деньгами засаленный бумажник. Бумажки разные – старые, разорванные, склеенные. И все одна к другой: вот синеватые, вот розоватые, и беленькие есть, только все грязные, рваные и лохматые.
– Ну-ка, мать, достань из сундука, принеси сюда рубли для расчета и мелочь.
Маменька принесла длинный-длинный кошель вроде колбасы или чулка, набитый серебряными рублями, только ребра заметны.
Стали рассчитываться.
– Ну, граковцы, – говорит батенька, – вам девять рублей, вот вам двум по трешнице, а тебе три серебряных карбованца.
На табуретке лежала кучка серебра.
Рубли были разные: некоторые были стерты и блестели, некоторые с крестами, а другие старые, с орлами и с Петром I. А были большие, которые стоили полтора рубля; их называли талярами.
Уже довольно долго шел расчет. Некоторые хохлы медлительно и недоверчиво считали свои деньги. Один не брал пятирублевый с оторванным и приклеенным уголком, а другой никак не мог сосчитать семь гривен серебром и медью, все жаловался, что ему недодали. Некоторые уже начали запрягать своих коней и выезжать со двора.
И вот один мужичок, свалив свои два мешка в амбар, распряг кобылу, привязал у дверей сарая и пошел напиться воды. Кобыленка-кляча запарилась и вся закурчавилась, пока довезла свой воз. Увидел ее вороной жеребец, что стоял за перегородкой на цепи. Захрапел, заржал и так рванулся к этой кобыленке, что вырвал вместе с цепью и кол от яслей, на который крепко наматывалась цепь, перепрыгнул через перилину и сломал жердь. Кобыленка споткнулась об оглобли, смялась под телегу. Жеребец черный огромными копытами попал в тележонку и перекувырнул ее всю – она затрещала и полетела кубарем… Грива длинная горой развевается. Хвост жеребец поставил как знамя и махал им на весь двор. Он стал носиться по всему двору между людьми, ярмами и телегами. Некоторые люди попадали со страху, попрятались под телеги; некоторых зашиб он до крови, а сам носится, храпит, ржет… Сила!.. Страсть! Наконец люди, кто посмелей, схватились за колья, чтобы наступать на чудовище.
Черное блестящее чудовище, с цепью на шее и колом, прыгает через телеги, звенит цепью, а кол скачет, того и гляди, заденет кого-нибудь. Взметнулись дико волы, завизжали, ошалев, лошади. Дым коромыслом! Заржали лошади в конюшне.
– Стойте! Стойте! – кричит батенька с крыльца. – Разве так можно?! Что вы делаете? Бросьте колья!
Мужики с кольями от страху бросились в стороны: кто на тын, кто на сарай, кто на крыльцо.
Батенька бросил все деньги и побежал к жеребцу…
В это время Гришка уже бежал за жеребцом, поймал кол и ухватился за него, передвинулся к цепи, поближе к морде страшилища. С другой стороны Бориска бросился и схватил коня под уздцы. Гришка уже сидел на черном дьяволе, перекинул ему цепь на морду и ударил его кулаком по макушке. Жеребец даже присел и шатнулся…
– Ах ты, сукин сын!.. – кричит с досадой батенька. – А если бы тебя так?! Ведь так можно убить жеребца!..
Он подошел и взял за ноздри чудовище – вот бесстрашный! Из ноздрей пар и огонь. Глаза на черной голове белыми белками косили страшно. Как это батенька не боится?..
– Разве он виноват! Ишь какой колышек пристроили! Это вам не теленок в хлеву.
Вдруг жеребец опять заметил кобылу, заржал и так рванулся в ее сторону, что его едва-едва не выпустили. Но Гришка круто повернул его назад к воротам – цепь в морду врезалась.
– Ах ты, боже мой! Вот люди! Как малые дети – не понимают!.. Да что же ты не уведешь свою кобылу со двора? – в досаде кричит батенька на собственника кобылы.
А тот, бедняга, стоял перед своей разбитой телегой как помешанный и не знал, что делать; другой шел к нему на подмогу с разбитой рукой: из пальца лила кровь.
– Ах ты господи! – кричит батенька. – Ну уж проезжайте, Гришка и Бориска, с жеребцом, проведите его немного по улице, пока эти с телегой и кобылой уберутся.
Прошу вас, любезные, – упрашивает батенька, – у кого кобылы, отведите их вон туда, за сарай, дайте жеребца провести и поставить на место.
И он пошел на крыльцо, где маменька в страхе ждала, чем кончится эта суматоха.
– А! Хай йому халепа! О це як би знав! Та нi за що не поiхав би у цей двiр[25], – говорит отчаянно хохол.
Стали опять считать и продолжать расчет.
Наконец жеребца торжественно провели на его место и долго там возились; укрепили бревна для цепей и загородили его так, чтобы уже не выпускать; и воду и корм ему носили в стойло.
В конце расчета все потерпевшие от буйства жеребца подошли к крыльцу, обиженные и сердитые.
Коробчане были на первом плане, покашливают, жмутся.
– Мы не причинны, хозяин, ты должен заплатить нам убытки.
– Да какие же у вас убытки? – говорит в досаде батенька. – Боже мой милостивый! Ведь вы расчет получили?
– Как же, хозяин: этому телегу разбили, тому палец перешиб, а вон этот до синяков головою об оглоблю брякнулся – надо заплатить. Мы так не уедем со двора.
– Вот уж и платить? Да постойте, коли такое дело; телегу мы тебе сейчас починим. Гришка! Борис! Сколотите ему его телегу: там, я видел, только одна люшня[26] вчистую сломана; поди, Бориска, вон там из кольев приделай ему пока новую люшню. А тебе палец сейчас перевяжут. Вот как бывало в походах. Мать, промойте ему палец чистой водой да завяжите чистой тряпочкой… Елёха-воха! Воины-служаки, по семи пар сапог у вас дома. А вот мы служили – семеро в одном сапоге ходили.
И он их обвел веселыми глазами.
Потерпевшие рассмеялись слегка; выступил один знакомый из отставных, сослуживец отца:
– Уж ты, Ихим Василич, дай-ка нам по кварту, мы и разопьем за твое здоровье.
– Ах! Елёха-воха! Ну уж будь по-вашему. Мать, достань им сорок копеек, нехай они зеньки зальют.
– Ну вот и прощенья просим! Привозить ли к будущему базару сено, овес? – кричит весело удаляющаяся куча.
– Везите, везите, корму в городе много надо; не я, так другой заберет.
Понемногу разошлись, уехали.
– Ах ты господи! – говорит сквозь слезы досады маменька. – И зачем ты этого ирода, прости господи, привел сюда? Ведь это ж… страсть-то какая! Смерть…
– Да, вот с вами бы на печке сидел да картошку с маслом ел! Только была ли бы у нас картошка? Ась? То-то, – говорит внушительно батенька. – Это конь заказной, производитель. Это на завод графу Гендрикову поведем. Вот управимся немного, и надо вести.
Гришку этот конь знал и любил, так и следил за ним глазами. А на других, кто еще издали к загородке подходит, храпит, поворачивается. Теперь Гришка ему и цепь снял; крепко загородили его в стойле, высокие стены поставили – не перескочить. Доняшка говорит: оттого и смирен с ними вороной, что Гришка его кормит и поит, – это всегда.
Гришка всегда добрый и веселый – без забот.
«Жили бедно – да й будя; носили сумки – теперь две. То жили-горевали – ходить не в чем; теперь Господь привел – надеть нечего». И поет себе свою любимую:
Ой, дождик, дождик!
Да не силен, не дробен,
Да не ситечком сея —
Ведром поливая.
Брат по сеням ходя,
Сестру потешая:
«Сестрица меньшая,
Да расти ж ты большая,
Я отдам тебя замуж
Да в чужую деревню.
Да в чужую деревню,
Да в согласную се́мью».
Любит он смеяться над Доняшкой. Начнет:
– Не любишь мене? Уж погоди, пойду к кузнецу, закажу ему любжу, тогда не будешь от меня рыло отворачивать. Смеешься? Погоди, не до смеха тебе будет… рыжая.
– Ы-ы!.. Стогнидый… – злится Доняшка.
– Что? Некогда? Иди, иди. У вас дело кишить – бураки крошить, поп к обедни звоня, пастух стадо гоня… А тут еще ребенок у…
IX
«Матеря»
Голос за дверью:
– Господи Исусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас!
– Аминь, – отвечает маменька.
Входит бабушка Егупьевна. Она всегда входит, сотворив молитву. Так же входили и все осиновцы, так же входили и горожане, только прочие творили молитву еще за дверью. Если какая-нибудь девочка или кто по делу, то, после того как в ответ услышится слово «аминь», говорят (девочка тонким певучим голоском): «Тетенька, выйдите-ка сюда!»
Вот бабушка Егупьевна прежде всего становится перед образами. Сотворив несколько поясных поклонов, крестясь большим двуперстным крестом, она обращается в сторону маменьки и начинает величать всю семью, сначала от старших. Так же входили и странница Анюта, и Химушка, и тетка Палага, и все соседи и знакомые.
– Здравствуйте, Ефим Васильевич, – (хотя бы его и не было дома), – Татьяна Степановна, Устинья Ефимовна, Илья Ефимович, Иван Ефимович, Авдотья Тимофеевна, – (Доняшка-работница). – Живы ли все, здоровы? Как вас Господь милует?
– Здравствуйте, здравствуйте, Егупьевна, – говорит маменька.
А мы, присутствующие дети, должны были подойти к бабушке «ручку бить». То есть бабушка протянет нам руку ладонью вверх, а нам по руке ее надо было шлепнуть слегка своей ладонью и затем поднести к губам и поцеловать бабушкину руку. Такой же этикет соблюдался со всеми приходящими старшими и родственниками.
Скоро Егупьевна с маменькой усаживались в сторонку и заводили свой таинственный разговор.
– Что ты! Что ты, Таня! Так он в солдатах развратился?! Трубчищу куре!.. – Егупьевна в большом непритворном ужасе всплеснула руками, открыла всегда опущенное, закутанное в белую косынку лицо; показались огромные светлые глаза на бледном лице, и даже сверкнули слезы на глазах. – Ай-ай-ай, страсть-то ж какая! Это надо его уговорить, надо помолиться за него… Ужли ж он о своей душе не жалеет?
Все это говорилось таинственно и так выразительно, что и у маменьки капали слезы, и я едва держался, чтобы не заплакать…
– Ты знаешь, Таня, что за эту мерзость ему буде на том свете? С кем он осудится!..
Маменька только тяжело вздыхала.
– А что будет, бабушка? – невольно спросил я.
– Ну, поди, мальчик, ты еще мал, чтобы это знать, после узнаешь. Молись за твоего отца, чтобы Бог его избавил от этого греха, чтобы он свою трубчищу бросил курить.
Бабушка и чай считала грехом, и с нами ей нельзя было обедать: мы «суетные». Ей надо было наливать в особую чашку, из которой никто не ел, и ложку так и держали только для староверов. Нашими ложками им нельзя есть: грех.
Я вспомнил, что уже несколько дней не молился в своем местечке; надо непременно пойти и хорошенько помолиться: может быть, и я буду святым? И мне как-то страшно стало от этой мысли.
Егупьевна стала рассказывать маменьке про «Матерей». «Матерями» назывался монастырь, где жили староверские девы и женщины. Мы туда раз ходили с Доняшкой в воскресенье. Это далеко, в Пристене. Как у них чисто, хорошо; пахнет душистою травой; а кругом образа – образа старинные, темные лики, страшные. Прямо против входа – большой высокий иконостас. Это их церковь; по стенам скамейки, и на скамейках сидят, когда нет службы, все больше женщины, девочки, а некоторые сидели на полу, на пахучем чоборе и другой траве, разбросанной на полу.
Батеньку недавно опять угнали в солдаты.
Он часто рассказывал, когда был дома, как трудно служить: скомандуют – и тяжелый палаш наголо надо держать в вытянутой руке. Долго-долго, пока не скомандуют другой команды; рука застынет, задеревенеет, а ты стой, не шевельнись; все жилы повытянут…
– А верхом, бывало, в манеже – траверс, ранверс… ломают, ломают! И лупили же! Всех лупили: не брезговали и семейными, и почтенными людьми. Казьмин, бывало, никак не может верхом просто сидеть, отвалясь; все грудь колесом выпрет вперед… а надо сидеть как в стуле. Солдат красивый, видный; полковнику Башкирцеву так хотелось выучить его на ординарца; уж его и так и этак… да ведь как били, боже мой милостивый! Посадят, бывало, лицом к хвосту лошади; лошади белые, подъемные, вершков восьми; мужчина он огромный, как шлепнется… Уж и поиздевались же над ним! А ведь отец семейства: три сына, два женатых. Что ты поделаешь! Уж на что какой здоровый, силач, а все в госпитале валялся… Ах, уж и лошадки белые, прости господи, дались нам, знать: долго ли ей запятнаться в сарае? Чуть приляжет, и готово, а поди-ка ототри это желтое пятно! Надо кипятком отпаривать.
X
Ростки искусства
Без батеньки мы осиротели. Его «угнали» далеко; у нас было и бедно, и скучно, и мне часто хотелось есть. Очень вкусен был черный хлеб с крупной серой солью, но и его давали понемногу.
Мы всё беднели.
О батеньке ни слуху ни духу; солдатом мы его только один раз видели в серой солдатской шинели; он был жалкий, отчужденный от всех. Маменька теперь все плачет и работает разное шитье. Устя, Иванечка и я никак не можем согреться, нас трясет лихорадка. Хотя у нас на всех окнах и дверях прилеплены сверху записочки, что нас «дома нет», но лихорадка не верит и непременно кого-нибудь из нас трясет, а иногда и всех троих вместе. Недавно заезжала тетка Палага Ветчинчиха, и маменька с нею так наплакалась: батеньку с другими солдатами угнали далеко, в Киев, он там служит уже в нестроевых ротах; там же и деверь тетки Палаги; она все знала о солдатах.
С утра мне бывает лучше, и я тогда принимаюсь за своего коня. Я давно уже связываю его из палок, тряпок и дощечек, и он уже стоит на трех ногах. Как прикручу четвертую ногу, так и примусь за голову, шею я уже вывел и загнул – конь будет «загинастый».
Маменька шьет шубы осиновским бабам, на заячьих мехах, и у нас пахнет мехом; а ночью мы укрываемся большими заячьими, сшитыми вместе (их так и покупают) мехами. Спать под ними даже жарко.
Я подбираю на полу обрезки меха для моего коня; из них делаю уши, гриву, а на хвост мне обещали принести, как только будут подстригать лошадей у дяди Ильи, настоящих волос из лошадиного хвоста.
Мой конь большой, я могу сесть на него верхом; конечно, надо осторожно, чтобы ноги не разъехались: еще не крепко прикручены. Я так люблю лошадей и все гляжу на них, когда вижу их на улице. Из чего бы это сделать такую лошадку, чтобы она была похожа на живую? Кто-то сказал – из воску. Я выпросил у маменьки кусочек воску – на него наматывались нитки. Как хорошо выходит головка лошади из воску! И уши, и ноздри, и глаза – все можно сделать тонкой палочкой; надо только прятать лошадку, чтобы кто не сломал: воск нежный.
К маменьке помощницами поступили две девки-соседки: Пашка Полякова и Ольга Костромитинова. Они так удивлялись моей лошадиной головке и не верили, что это я сам слепил.
Ольгу я не люблю: она высокая-высокая и все смеется, смеется каждому слову. Сейчас, как придет, поднимет меня к самому потолку. Страшно делается, а потом лезет целоваться: «Жених мой, жених!» Ну какой я ей жених? Я начинаю ее бить и царапать даже. А она все гогочет, с каждым словом ее все больше смех разбирает.
А Паша умная и всегда серьезно смотрит, что я делаю. Но вот беда – ноги лошадок никак не могут долго продержаться, чтобы стоять: согнутся и сломаются. Паша принесла мне кусок дроту (проволоки) и посоветовала на проволоках укрепить ножки. Отлично! Потом я стал выпрашивать себе огарки восковых свечей от образов, и у меня уже сделаны целых две лошадки. А сестра Устя стала вырезывать из бумаги корову, свинью; я стал вырезывать лошадей, и мы налепливали их на стекла окон.
По праздникам мальчишки и проходящие мимо даже взрослые люди останавливались у наших окон и подолгу рассматривали наших животных.
Я наловчился вырезывать уже быстро. Начав с копыта задней ноги, я вырезывал всю лошадь; оставлял я бумагу только для гривы и хвоста – кусок и после мелко, вроде волосков, разрезывал и подкручивал ножницами пышные хвосты и гривы у моих «загинастых» лошадей. Усте больше удавались люди: мальчишки, девчонки и бабы в шубах. К нашим окнам так и шли.
Кто ни проходил мимо, даже через дорогу переходили к нам посмотреть, над чем это соседи так смеются и на что указывают пальцами. А мы-то хохочем, стараемся и все прибавляем новые вырезки.
И вот нехитрое начало моей художественной деятельности. Она была не только народна, но даже детски простонародна. И Осиновка твердо утаптывала почву перед нашими окнами, засыпая ее шелухой от подсолнухов.
Я вырезывал только лошадей и не завидовал Усте, когда она очень хорошо стала вырезывать и коров, и свиней, и кур, и уток, и даже индюков, чем особенно восхищалась наша публика, увидев под носом индюка его атрибуты.
На рождественские праздники к нам отпустили нашего двоюродного брата, сироту Троньку (Трофим). Он работал мальчиком в мастерской у Касьянова, моего крестного, портного для «господ военных».
Троша принес с собою рисунки, изображающие Полкана[27], и я очень удивился, как он хорошо рисует. Под каждым рисунком он старательно подписывал название: «Полкан» – и свою фамилию: Трофим Чаплыгин. У него была огромная голова, коротко остриженная. Он знал много сказок, таких занятных, что мы не могли оторваться, все слушали: «Струб-металл – Запечная Искра», «Зеленый» и особенно про царя Самосуда, как заспорили охотник и билетный солдат. Один говорил: «Песня – правда, а сказка – брехня», а другой: «Сказка – правда, а песня – брехня». Долго препирались охотник с солдатом, пока не дошли до дворца царя Самосуда. И царь Самосуд, усадив их по правую и левую руку, длинной историей объяснил им, кто прав.
Трофим и при нас вдруг нарисовал еще Полкана: чирк, чирк, все точками и черточками; потом аккуратно складывал вчетверо своих Полканов и прятал их в шапку на дно. Рисунки его были очень похожи один на другой, и нам показалось, что и Тронька, наш двоюродный, – сам Полкан; особенно его большой лоб и черные глазки, глубоко подо лбом, и короткие волосы, щеткой покрывавшие его круглую голову, были совсем похожи на рисованных им Полканов; каждый Полкан держал булаву. На другой день Трофим из плоской коробочки, завернутой в несколько бумажек, достал краски и кисточки. В городе в их мастерскую приходит много разных людей; аптекарь принес Трофиму краски и кисточку. В аптеке краски сами делают. Трофим знал названия всем этим краскам: желтая – гумми-гуд, синяя – лазурь, красная – бакан и черная – тушь.
Красок я еще никогда не видал и с нетерпением ждал, когда Трофим будет рисовать красками. Он взял чистую тарелку, вывернул кисточку из бумажки, поставил стакан с водою на стол, и мы взяли Устину азбуку, чтобы ее некрашеные картинки он мог раскрашивать красками. Первая картинка – арбуз – вдруг на наших глазах превратилась в живую; то, что было обозначено на ней едва черной чертой, Трофим крыл зелеными полосками, и арбуз зарябил нам в глаза живым цветом; мы рты разинули. Но вот было чудо, когда срезанную половину второго арбузика Трофим раскрасил красной краской так живо и сочно, что нам захотелось даже есть арбуз; и когда красная высохла, он тонкой кисточкой сделал по красной мякоти кое-где черные семечки – чудо! чудо!
Быстро пролетали эти дни праздников с Тронькой. Мы никуда не выходили и ничего не видели, кроме наших раскрашенных картинок, и я даже стал плакать, когда объявили, что Троньке пора домой.
Чтобы меня утешить, Трофим оставил мне свои краски, и с этих пор я так впился в красочки, прильнув к столу, что меня едва отрывали для обеда и срамили, что я совсем сделался мокрый как мышь от усердия и одурел со своими красочками за эти дни. Я раздосадовался и расплакался до того, что у меня пошла из носу кровь, и долго шла, не могли остановить, и я совсем побледнел. Помню, как кровь моя студнем застыла в глубокой тарелке, как мне мочили холодной водой затылок и прикладывали к шее большой железный ключ от погреба; надо было еще поднимать высоко правую руку: кровь текла из левой ноздри. Оправился я кое-как только дня через три. Кровь перестала идти, и я сейчас же – за красочки. Но недолго я наслаждался: вдруг, к моему ужасу, большая красная капля капнула на мой рисунок, другая, третья, и опять полила, полила. Ах, какая досада! Опять надо было сидеть смирно, поднявши голову, и правую руку держать вверх. Тоска сидеть в таком положении, и я чувствовал себя совсем больным. Сначала раздражался капризно, а потом уж спокойно лежал на лежанке и почувствовал через несколько дней, что не могу держать голову: она клонилась на грудь или на плечо; также и спина моя не держалась – сидеть я не мог, кротко лежал и уже равнодушно слушал, как бабы-соседки, приходившие мерить свои шубы, безнадежно махали на меня рукой и откровенно советовали заказывать мне гробик и шить «смертённую» рубашку и саван.
– Не жилец он у вас, Степановна: посмотрите, какие у него ушки бледные и носик совсем завострился. Помрет, накажи меня Бог, помрет. Это верная примета, когда носик завострится, это уже не к житью. Вот у Субочевых так же мальчик хворал – тот с перепугу. И переполох ему выливали, и заговаривали. И что же? Что ни делали – умёр.
Я посмотрел на свои руки и удивился, какие они белые, бледные, с синими жилками, и все косточки и суставчики отчетливо видны были на тонких пальцах, а ногти отросли длинные, белые.
И вот лежу я почти неподвижно и отлично слышу со своей лежанки всякое слово, даже шепот приходящих и уходящих баб, даже из кухни все слышно, даже когда шепчут.
Прибежала Химушка Крицына. Обращается к Доняшке, нашей работнице, молодой еще девочке из семьи соседей Сапелкиных:
– А что, еще не умёр ваш Илюнька? Жив еще? А сказали еще вчера, что кончается: носик завострился… Алдаким Шавернев называется сделать ему гробик, пока мы бы его и обшили позументиком. А можно взглянуть на Илюньку? – спрашивает она и отворяет дверь ко мне.
Мне сделалось так смешно, что я подумал даже показать ей язык, но воздержался.
– Кхи-хи-и, да он еще смеется, смотрите. А ведь краше в гробик кладут! И носик востренький, а и беленький же, как булка! Ну что смеешься? Вот умрешь, так не будешь смеяться! Снесем мы тебя далеко и закопаем… А можно с него мерку снять? Ну, протяни ножки, мы тебе хорошенький гробик сделаем, красиво обошьем, тебе хорошо будет лежать… А тебе чего бояться умирать? До семи лет младенец – отрастут крылышки, и полетишь прямо в рай; грехов у тебя нет, не то что мы, грешные, тут бьемся-колотимся. По тебе мы и голосить не будем. И за нас, и за своих родителей там будешь Богу молиться.
– А красочки и кисточки там будут? – спрашиваю я, мне жаль стало красок.
– А как же! Весь рай в цветах: там и горицвет, и синее нёбо, и баз, и черемуха – все в цвету; а сколько той розы! И ягоды-вишни кисточками навязаны. А кругом калина, калина…
– Ты не про то! – перебиваю я. – Красочки, что по бумаге рисуют, и бумага там есть?
– Бумага? Вишь ты, бумаги захотел… У Бога всего много. Попросишь Бога, и бумаги даст тебе.