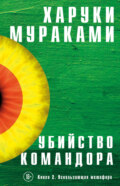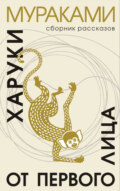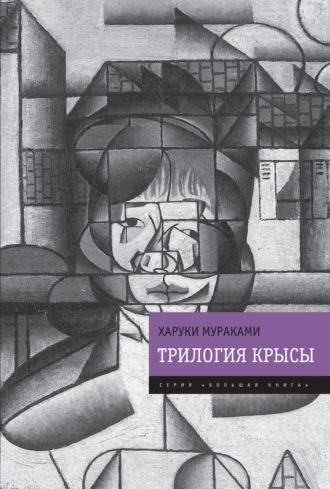
Харуки Мураками
Трилогия Крысы (Слушай песню ветра. Пинбол-1973. Охота на овец. Дэнс, дэнс, дэнс)
Близняшки вытащили из шкафа газовую плитку, развели огонь. Минут через пятнадцать дрожь улеглась, я перевел дух, подогрел и выпил банку лукового супа.
– Теперь нормально, – сказал я.
– Правда? – спросила одна.
– Еще холодный, – нахмурилась другая, не отпуская моего запястья.
– Сейчас согреюсь.
Мы нырнули в постель и отгадали последние два слова в кроссворде. Одно было «форель», другое – «тротуар». Я быстро согрелся, и друг за дружкой мы провалились в глубокий сон.
Мне приснился Троцкий и четыре северных оленя. На всех четырех оленях были шерстяные носки. Ужасно холодный сон.
23
Крыса больше не встречался со своей женщиной. Даже перестал смотреть на свет из ее окон. Более того – к ее окнам он вообще теперь не приходил. В темноте его души повисел белый дымок, как над задутой свечой, – и бесследно растаял. Наступило Черное Безмолвие. Что остается, когда слой за слоем сдерешь с себя всю внешнюю оболочку? Этого Крыса не знал. Гордость?.. Лежа на кровати, он часто рассматривал собственные руки. Да, наверное, без гордости человек и жить бы не смог… Но одна гордость – это как-то мрачно. Слишком уж мрачно…
Расстаться с ней было несложно. Просто в одну из пятниц он ей не позвонил. Наверное, она ждала его звонка до глубокой ночи. Думать об этом было тяжело. Рука сама несколько раз тянулась к аппарату – но Крыса сдерживался. Надев наушники и врубив полную громкость, он крутил одну пластинку за другой. Он понимал: женщина не станет ни звонить, ни приходить. Просто ничьих звонков ему слышать не хотелось.
Наверное, она прождала до двенадцати. Потом умылась, почистила зубы и легла. Подумала: он позвонит завтра утром. Выключила свет и уснула. В субботу утром звонка опять не было. Она открыла окно, приготовила завтрак, полила цветы. И ждала до середины дня – а потом уж точно перестала. Причесалась перед зеркалом, потренировала улыбку. И наконец решила: так тому и быть.
Все это время Крыса сидел в комнате с наглухо зашторенными окнами и пялился на стрелки настенных часов. Воздух в комнате неподвижно застыл. Несколько раз приходила дремота. Стрелки часов уже не несли никакого смысла, это были просто вертящиеся светотени. Тело медленно теряло тяжесть, теряло восприимчивость, теряло само себя. Сколько времени я уже так просидел? – думал Крыса. Белая стена напротив зыбко колыхалась с каждым его вздохом. Пространство вокруг угрожающе сгущалось. Почувствовав, что дальше уже не вытерпеть, Крыса встал и отправился в душ. Не выходя из одурения, побрился. Потом вытерся, достал из холодильника апельсиновый сок, выпил. Надел новую пижаму, лег в постель. Подумал: теперь всё кончилось. И крепко заснул. Необыкновенно крепко.
24
– Решил уехать из города, – сказал Крыса Джею.
Было шесть вечера, бар только что открылся. Стойка навощена, в пепельницах ни единого окурка. Ряды начищенных бутылок этикетками вперед, треугольники новых бумажных салфеток, солонка и бутылочка табаско на маленьком подносе. Джей смешивал соусы в трех специальных мисках, и в воздухе плавали брызги чесночного тумана.
Фраза прозвучала за постриганием ногтей над пепельницей.
– Уехать?.. Куда уехать?
– Не знаю… В другой город… Не очень большой…
Джей взял воронку, перелил все три соуса в три бутылочки, поставил их в холодильник и вытер руки полотенцем.
– И что ты там будешь делать?
– Работать.
Крыса достриг ногти на левой руке и разглядывал пальцы.
– А здесь что, нельзя?
– Нельзя… Пива хочу.
– Угощаю.
– Благодарю.
Крыса медленно налил пива в охлажденный стакан, одним глотком отпил половину.
– И не спрашиваешь, почему здесь нельзя?
– Мне кажется, я понимаю.
Крыса прищелкнул языком.
– В том-то и дело, Джей. Здесь каждый всё про тебя понимает – уже не надо ни вопросов, ни ответов. И никто отсюда ни ногой. Даже не хочется говорить, но… По-моему, я здесь сильно подзадержался.
– Ну, может быть, – помолчав, сказал Джей.
Крыса сделал еще глоток и начал состригать ногти на правой руке.
– Я ведь много думал. В конце концов, везде то же самое, это наверняка. Но я все равно уеду. Даже если там то же самое.
– И больше не вернешься?
– Ну, вернусь когда-нибудь. Рано или поздно. Это же не побег…
Крыса протянул руку к блюдцу с арахисом, расколол морщинистую скорлупку, бросил в пепельницу. Взял салфетку, вытер место на стойке, запотевшее от холодного стакана.
– Когда уезжаешь?
– Завтра, послезавтра, не знаю. Постараюсь в ближайшие три дня. Уже собрался.
– Не ожидал…
– Ага… Ну, тебе-то от меня одно беспокойство было…
– Всякое бывало, – кивнул Джей, протирая сухой тряпкой стаканы в буфете. – Но ведь прошлое – это прошлое, вспоминается, как сон…
– Возможно. Только боюсь, придется долго ждать, пока я тоже приду к такой мысли.
Джей подумал и усмехнулся.
– Да уж… Иногда забываешь, что у нас двадцать лет разницы.
Крыса перелил остатки пива в стакан и медленно выпил. До такой степени медленно он пил пиво впервые.
– Еще бутылку?
Крыса помотал головой.
– Нет, не надо. Я вот эту выпил как свою последнюю. Как последнюю здесь.
– Больше не придешь?
– Думаю, нет. Тяжело будет.
Джей рассмеялся.
– Но когда-нибудь увидимся еще?
– Когда увидимся, ты меня не узнаешь.
– По запаху пойму!
Крыса еще раз не спеша посмотрел на постриженные ногти. Насыпал в карман остатки арахиса, вытер салфеткой рот – и встал с табурета.
* * *
Ветер дул беззвучно, он будто скользил по просветам в темноте. Мелко тряс ветви деревьев над головой, методично срывал с них листья и бросал вниз. Упав с сухим шорохом на крышу машины и покружив по ней, листья съезжали по лобовому стеклу и скапливались у крыла.
В рощице кладбищенского парка Крыса был один. Растеряв все слова, он глядел сквозь лобовое стекло. В нескольких метрах впереди терраса обрывалась – дальше был темный воздух, море и огни ночного города. Ссутулившись, не выпуская руля и не шевелясь, Крыса безотрывно смотрел на одну точку в пространстве. Кончик незажженной сигареты, зажатой меж пальцев, рисовал в воздухе сложные, бессмысленные узоры.
После разговора с Джеем Крыса снова был в прострации. Плохо связанные друг с другом потоки сознания разбежались в разные стороны, и Крыса не знал, сойдутся ли они снова. Черная река рано или поздно фатально впадает в безбрежное море – тогда ее рукава уже не сходятся. Двадцать пять лет, прожитых только для этого… Зачем? – спрашиваешь самого себя. Не понять… Хороший вопрос, а ответа нет. На хорошие вопросы никогда не бывает ответов.
Ветер усиливался. Он уносил в далекие миры слабое тепло человеческих занятий и зажигал бесчисленные звезды в освободившейся холодной темноте. Крыса оторвал руки от руля, покатал сигарету в губах и, словно вспомнив, чиркнул зажигалкой.
Немного болела голова. И чудились чьи-то холодные пальцы, сдавившие виски. Крыса тряс головой, прогонял мысли. Это помогало.
Вынув большой дорожный атлас, он медленно переворачивал страницы. Вслух зачитывал названия городов – подряд, какие попадались. Большей частью маленькие, с незнакомыми названиями, они тянулись вдоль дорог без конца и края. После нескольких страниц на Крысу вдруг нахлынула гигантская волна усталости, скопившейся за последние дни. В крови поплыли медленные остывшие сгустки.
Хотелось уснуть.
Сон все вычистит, так казалось. Стоит только поспать…
Он закрыл глаза – и в ушах зашумели волны. Зимние волны, что бьются о волнолом, протискиваясь меж бетонных блоков тонкими струями.
Можно больше никому ничего не объяснять, подумал Крыса. Морское дно теплее любого города. Там, наверное, только покой и тишина. Всё, больше ни о чем не хочу думать. Больше ни о чем…
25
Пинбольный гул разом и навсегда исчез из моей жизни. Вместе с ним ушли мысли о тупике. Конечно, это еще нельзя считать Окончательной Развязкой, достойной короля Артура и рыцарей Круглого Стола. До развязки пока далеко. Когда лошади истощены, мечи поломаны и доспехи в ржавчине, я лучше поваляюсь на лугу, сплошь заросшем кошачьей забавой, спокойно слушая ветер. А потом пойду туда, куда должен пойти – будь то дно водохранилища или холодильник птицефермы.
Эпилог здесь возможен разве что символический – как бельевая веревка под грозовой тучей.
Вот он.
Близняшки купили в супермаркете коробку ватных тампончиков. Триста палочек, обмотанных ватой и уложенных в коробку. Когда я вылезал из ванны, девчонки усаживались по обе стороны от меня и принимались чистить мне сразу оба уха. Это у них получалось здорово. Я любил сидеть с закрытыми глазами, прислушиваясь к деловитому шуршанию тампончиков и потягивая пиво. Но однажды случилось так, что в самый разгар процедуры я чихнул. И моментально потерял едва ли не весь слух.
– Меня слышишь? – спрашивала правая.
– Чуть-чуть, – отвечал я. Собственный голос звучал где-то в глубине носа.
– А меня? – спрашивала левая.
– И тебя чуть-чуть.
– Нашел время чихать.
– Дурачина.
Я вздохнул. Точно две кегли разговаривали со мной с другого конца дорожки – самая правая и самая левая. Две кегли, оставшиеся несбитыми.
– Водички попей, вдруг поможет, – сказала одна.
– Какой еще водички!!! – заорал я.
Они все-таки заставили меня выпить чуть ли не ведро воды. От нее только живот раздулся. Боли в ушах не было – наверное, просто серу протолкнуло чихом в глубину. Другого объяснения в голову не приходило. Я достал из шкафа два фонарика, и девчонки долго светили мне в уши, напряженно всматриваясь вглубь.
– Ничего нету.
– Ни сориночки.
– Почему ж они не слышат?! – снова заорал я.
– Срок годности истек.
– Глухой теперь будешь.
Не слушая их больше, я взял телефонную книгу и позвонил ближайшему отоларингологу. Голос в трубке был еле различим, и говорившая со мной сестра посочувствовала мне. Приходите быстрее, – сказала она, – клиника еще открыта. Мы быстро оделись, выскочили на улицу и зашагали по автобусному маршруту.
Врач, женщина лет пятидесяти, вместо прически носила какие-то проволочные заграждения, но все равно выглядела располагающе. Открыв двери приемной, она двумя хлопками заставила девчонок умолкнуть, потом предложила мне стул и без видимого интереса спросила, что случилось.
– Понятно, – сказала она, когда я все объяснил, – больше не кричите. – Достала огромный шприц без иглы, засосала в него побольше жидкости янтарного цвета, вручила мне какой-то жестяной мегафон и велела держать под ухом. Затем ввела шприц. Янтарная жидкость, как стадо зебр, ринулась мне в ухо, переполнила его и полилась в мегафон. Промывание повторилось три раза, потом в ухе потрудился ватный тампончик. Так же обработали второе ухо. Когда процедура закончилась, слух полностью вернулся.
– Все нормально!
– Это сера.
Лаконичный ответ доктора походил на строчку детского стишка. Мы словно играли в рифмы.
– А не видно было…
– Криво.
– ?
– Ушной канал у вас совсем кривой. Обычно прямее.
На спичечном коробке она нарисовала мой ушной канал. Формой он напоминал металлический уголок, какими укрепляют мебель.
– Вот завалится ваша сера за этот угол, тогда уже никто не достанет.
Я застонал.
– Что же делать?
– Что делать… Внимательнее быть, когда уши чистишь. Внимательнее.
– А эта кривизна, она больше ни на что не влияет?
– Как это?
– Ну, например… психически?
– Не влияет.
Домой мы шли четверть часа – окольным путем, через поле для гольфа. На одиннадцатой лунке фервей изгибался «собачьей ногой», напоминая мне об ушном канале. Флажки казались ватными тампончиками. И это еще не все. Закрывшее луну облако напоминало эскадрилью самолетов «В-52», густая роща на западе – пресс-папье в форме рыбы, звездное небо – заплесневелую петрушку… Впрочем, хватит. Самое главное, что мои уши теперь прекрасно различали все на свете. Мир сбросил вуаль. Я слышал, как на многие километры вокруг поют ночные птицы, люди закрывают окна и говорят о любви.
– Как хорошо, – сказала одна.
– И правда хорошо, – отозвалась другая.
* * *
Как отмечал Теннесси Уильямс, о прошлом и настоящем говорят как есть. А говоря о будущем, добавляют «вероятно».
Но когда я оглядываюсь на потемки, через которые мы брели, то не вижу там ничего определенного – только «вероятное». Ведь мало того, что воспринимать нам дано лишь мгновения, именуемые «настоящим», – даже сами эти мгновения проскальзывают мимо нас, почти не задевая.
Вот о чем я думал, когда провожал близняшек. Мы шли через гольфовое поле к автобусной остановке – и всю дорогу я молчал. Было воскресенье, семь утра, над нами раскинулось пронзительно голубое небо. Газон под ногами наполняло предчувствие смерти – впрочем, недолгой, до весны. Скоро траву затянет ледяной коркой; может, даже завалит снегом. И снег заискрится на утреннем солнце. А пока одетый в белое газон хрустит под нашими ногами.
– О чем думаешь? – спросила одна.
– Ни о чем, – ответил я.
На них были подаренные мною свитера. Футболки и прочую мелочь они несли в бумажном пакете.
– И куда вы поедете? – спросил я.
– Обратно.
– Откуда пришли.
Мы перепрыгнули песчаный бункер, прошли по длинному фервею до восьмой лунки, спустились по эскалатору. Огромное количество мелких птиц наблюдало за нами с газона и проволочной сетки.
– Даже не знаю, как сказать, – проговорил я. – Скучать я без вас буду…
– Не только ты!
– Мы тоже!
– И все равно уедете?
Обе кивнули.
– А вам правда есть куда ехать?
– Конечно, – сказала одна.
– Иначе бы не ехали, – добавила другая.
Мы перелезли через сетку, миновали рощу, вышли к остановке и сели на скамейку ждать автобус. В воскресное утро остановка была замечательно тихой, ее заливали мягкие солнечные лучи. Сидя на солнышке, мы поиграли в рифмы. Минут через пять подошел автобус. Я выдал им денег на билеты.
– Увидимся еще? – спросил я.
– Где-нибудь, – сказала одна.
– Где-нибудь, конечно, – добавила другая.
Их слова эхом отозвались у меня в душе.
Двери автобуса захлопнулись, близняшки помахали из окна. Всё повторялось… Я один вернулся той же дорогой. В залитой осенним солнцем квартире поставил «Rubber Soul». Сварил кофе. А потом до самого вечера сидел у окна и смотрел, как мимо проходит день. Прозрачное и тихое ноябрьское воскресенье.
Блюз простого человека
М. Немцов
Занавес
Не я придумал, что проза Харуки Мура ка ми похожа на музыку. Только слышит ее каждый по-разному. Кому-то – веселый горячий джазец, кому-то – прохладная медленная импровизация. Кто-то видит Джона Траволту, танцующего перед зеркалом во вспышках стробоскопа, кто-то сам начинает колотить по приборной доске, не попадая в такт «Лавин Спунфул» или «Бич Бойз» из хриплого динамика старенькой «субару».
Я вижу, как на сцену просто выходит человек. В луче фонаря ставит допотопную магнитолу на пол, нажимает стертую кнопку «play». И, чуть покачиваясь под дисгармоничные воспоминания о чем-то далеком, рассказывает нам свою историю. Всем нам, застывшим в темноте холодного зала. И мы смотрим на него, стараясь не растаять в этой пустоте…
Ложа
Критики называют Харуки Мураками «современным молодым писателем», нагляднее прочих отразившим Дух Метрополии. Под «Духом Метрополии» понимаются отнюдь не чувства, переживания и запахи обитателей больших городов, но сам воздух пространства «бетонных джунглей» – уже после того, как в нем стерты все следы пребывания людей. Совершенно неорганической и дегуманизированной Метрополии, в которой больше не осталось никаких «я» или «мы». В этом двумерном абстрактном городском пространстве неоновой информации и пиктограмм не живут люди – и даже персонажи не живут. Так называемые «живая реальность» и «человеческое существование» стали раритетами, а мы в своей повседневности касаемся лишь мусора, исторгаемого на нас телеэкранами, радиоприемниками, уокмэнами, газетами и журналами. Реальность «нормальной» жизни практически кончилась. Поздравляем, говорят критики. Городские обитатели утратили опыт живого общения с себе подобными – они лишь способны впитывать холодную информацию, к примеру – о новой марке растворимой лапши или последней раскрашенной иллюзии японской мыльной оперы с уместным названием «дорама».
Литература едва ли способна угнаться за отражениями быстро меняющихся сцен городского распада. Язык подлинной плоти и крови, которым пользовались писатели прошлого, уже немеет от неспособности описать то, что видят глаза и слышат уши.
Не таков Мураками, говорят нам критики. Дух Метрополии растворен в самом его стиле – там не найдешь приемов «живой реальности» или «подлинных чувств», которые ранее поддерживали писателей традиционных школ. Мураками, кажется, всерьез заинтересован внешним лоском Метрополии, его радует счастье городского потребительства. Вернее – он притворяется. И само притворство его наслаждения становится особым и весьма выразительным литературным языком.
Книги Мураками изобилуют названиями пластинок и рок-групп, именами кинорежиссеров и джазовых исполнителей, брэндами стиральных порошков и марками машин. Это не намеренный прием – просто автор считает, что эти знаки и символы культуры и цивилизации больше знакомы обитателям Метрополии, чем так называемая «жизнь». Из них легче создать коллаж моментальных снимков, нежели живописное городское полотно. И уж конечно он гораздо вернее отразит первоисточник, правдивее покажет модель.
В своих романах Мураками выбирает из кучи разноцветного яркого хлама городских информационных помоек то, что ему нравится, и одновременно видоизменяет эти знаки. Его герои, например, по большей части, не говорят на том языке, какой использовался бы в нормальном повседневном общении, – они предпочитают перебрасываться цитатами из любимых писателей всего мира и строчками популярных песенок, становясь ходячими каталогами потребительских товаров и носителями рекламных плакатов. Их реплики превращаются в монологи закоренелых аутистов, в крайние выражения клаустрофобии. В романах «Слушай песню ветра» и «Пинбол-1973» большинство диалогов, происходящих преимущественно в баре Джея, в машинах или постелях, отнюдь не касаются тем «живой реальности». Герои вольготно обсуждают лишь писателей, сновидения, кинофильмы и книги. И – почти не движутся. Они обязательно должны лежать или сидеть: в современной городской среде «живой круг» сузился неимоверно, почти до точки, а информационное поле – расширилось чуть не до бесконечности.
Мир по Мураками очень часто пассивен и крохотен; пуще всего автор боится изобразить сцену, которая может вызвать хаос. Как и его герои за стенами и экранами пластинок, комиксов и постеров, он прячется в своих книгах только за самыми любимыми вещами и интерьерами. И эти символы только подчеркивают внутреннюю клаустрофобию, хватают за горло, душат…
Сам автор, правда, не согласен с критиками: «Я не беззаботен, и я – не певец Метрополии. Есть вещи, которые мне категорически не нравятся, я живу в плоти и крови, и у меня есть реальный жизненный опыт. Я обманывал других людей, люди обманывали меня… Однако я считаю: стоит критиковать какие-то аспекты наших современных городов. Такая жизнь потребления и наслаждения не может продолжаться вечно. Настанет день, и она рухнет и исчезнет…»
Школьные годы «послевоенного ребенка» Харуки Мураками пришлись на 1960-е – эру вьетнамской войны, студенческих диспутов и оголтелого политиканства. А кроме того – беспрецедентного эмоционального выплеска, своим носителем нашедшего универсальное средство: рок-музыку. О раскрепощении чувств, символическим пиком которого стало «лето любви», мы скромно, как и сам Мураками, умолчим. Это поразительное сочетание несвободы (политика) и свободы (музыка) и породило на свет тот поверхностный безбашенный и бесшабашньтй нигилизм, под которым таилась бездна отчаянья.
В 1968—69 годах идеологические распри японских университетов вылились в создание «Все-студенческого Конгресса Разногласий», активное участие в деятельности которого принимал Харуки Мураками: в отличие от существовавших тогда органов студенческого самоуправления, это были дискуссионные группы, основанные новыми политическими партиями левого толка и неорганизованными одиночками. Старшее поколение родителей в то время утверждало: «У нас есть только политика», – а молодежь резонно отвечала: «А мы еще слушаем “Битлз”». Однако уже следующему поколению «молодой шпаны», свято верившей, что у нее есть только музыка и ничего кроме, «бэби-бумеры» могли, не кривя душой, сказать: «Но у нас есть еще и политика». К началу следующего десятилетия такие актуальные вопросы выдохлись окончательно. Пришла пора выпускных экзаменов.
Протагонисту Мураками в 1967 году исполнилось 20 лет, в 70-х он откроет то ли переводческую, то ли рекламную компанию, возненавидит свою работу, поскольку она станет его единственной точкой контакта с обществом. Мальчик так и не повзрослеет. Мальчик не захочет взрослеть никогда. Такое вот замедленное развитие. И хотя все книги Мураками – в сущности, об этой «поре взросления», мы почти не видим в них родителей или семей героев – вообще никого из «поколения отцов». В феврале 1980 года он так писал об американском фильме «Молодое поколение» в журнале «Кинема», считая, что появление родителей в нем уничтожило его: «Юность или так называемое отрочество основаны на вымысле. Навязывать им окружающую реальность чревато полным провалом. Нужно не описывать ее, а выражать – и как можно точнее». Чем не исчерпывающее толкование «Ветра» и «Пинбола»? Связь времен? Ну-ну… Питеру Пэну это в голову не приходило.
И не забудем об отчаянии. Водораздел «бэби-бума» пришелся в аккурат на пору взросления: 1970 год, точка отсчета «Трилогии Крысы». Заметим, что именно тогда, вместе с необходимостью дальнейшего выбора «жизненного пути», в теле Крысы начинает формироваться «овца» – трагический символ, который отдельные критики интерпретируют как позыв к традиционно японской авторитарной власти. Решительностью и мужеством (т. е. – самоубийством) Крысе удается спасти мир от нечисти. История «овцы», разумеется, на этом закончиться не могла, но генезис образа, обозначенный в «Ветре» и «Пинболе», достигший кульминации в «Охоте на овец» и еще отдающийся смутными реверберациями в «Дэнсе», по словам Кавамото Сабуро, подвел Мураками к необходимому ключевому выводу: «Овца равна революции и самоотрицанию».
В такой атмосфере эмоционального бреда отчасти и формируется стиль Харуки Мураками. Он отказывается от методов выражения и манеры презентации поколения родителей, коллекционирует символический городской хлам настоящего и немедленного, надевает саркастическую маску натужного веселья. И принимается «рассказывать истории», превращая ужас современного мира, с которым сталкивается любой выпускник университета, в простое и понятное «счастье» нескончаемого потребления. Казалось бы, его собственные чувства и совесть остаются под личиной «адвоката дьявола», а нам показывают зеркало, в котором не отражается ничего, кроме плоской реальности дорожных знаков и рекламных вывесок более не одушевленного, зато очень современного настоящего.
Наступает Эра Пустоты, в которой парит Дух Метрополии.
Не только японцы называют нынешнее время «Эрой Пустоты» – в 1980 годах в Соединенных Штатах даже сочинили термин «нет-поколение», удобно обозначив им тех, кто ни к чему не стремится: они не курят и не пьют, воздерживаются от мяса и даже не носят никаких украшений. Такие люди слишком отчетливо осознают себя крохотными незначительными сущностями гигантского социального института Метрополии, а потому им нет нужды слишком явно выражать свои эмоции и пристрастия.
У персонажей Харуки Мураками есть, разумеется, любимые джазовые пластинки, иностранные романы, марки пива – тривиальные игрушки, которых хватает лишь на то, чтобы оборудовать «детскую комнату», где можно жить в полном довольстве и счастье. Например, в «Пинболе» герой – «я» – живет с сестрами-близнецами, и ему завидуют окружающие, но едва ли их отношения можно назвать нормальными взаимоотношениями полов. Безымянные пронумерованные сестры в одинаковых майках из нового супермаркета сильнее всего напоминают куколок Барби. «Мы» в романе не занимаемся любовью – «мы» лишь убаюкиваем друг друга. Неплохо, конечно, и так…
Да и отношения «меня» с Крысой очень похожи на дружбу Снупи и Вудстока – наверное, самых любимых у автора персонажей комиксов, созданных Чарльзом Шульцем в 1950 году. Девиз Снупи: «Мне наплевать на тебя, поэтому и ты меня не трожь, будь добр». Явных родителей у него тоже нет – как и у Чарли Брауна. Снупи не любит спорить, он только валяется на крыше своей булки, смотрит в небо или просто спит. Герои Мураками не любят спорить, сидят в машинах, смотрят на море или просто спят. Правда, они еще любят готовить себе еду, но все равно – если хотите сделать Харуки Мураками комплимент, не говорите: «Ваши романы отражают ментальность молодого поколения». Скажите просто: «Ваши герои похожи на Снупи». Ему это больше понравится. Наверное.
Японский молодежный журнал «Эй-Джи» однажды представил книги Мураками своим читателям так: «Детали очень ярки, стиль письма – гладкий. Даже чужеродные эпизоды не нарушают этой гладкости, а лишь прибавляют эластичности и создают эффект жизнеподобия. Однако общую картину едва ли можно охватить взглядом… Но у некоторых все равно возникает вопрос: насколько соотносится эта беззаботность в отношении к жизни с реальностью нашей необходимости выжить в ней? Тем не менее, уже слишком много романов сплетено из языка такой реальности. Почему же мы не можем быть более открытыми, почему нельзя шире и глубже исследовать возможности такого анти-традиционного романа?»
И на самом деле: счастливый альянс языка и рассказчика к настоящему времени совершенно распался, и насколько же пустой предстала перед нами эта так называемая «живая реальность». Реальность мира и жизни намного отстала от реальности знаков и символов. Тем незначительным «маленьким людям», кто это понимает, язык больше не кажется принадлежностью сюжета – он сам становится сюжетом: минимальный «аварийный запас» выживания городского обитателя, кольчуга урбанистического Дон Кихота, сплетенная из цитат и имен, головоломка из очеловеченных фраз – «я тебя люблю», «больно», «одиноко». Их все, вместе с именами «культурных икон», с готовностью вербализует городская элита – и, как рекламные слоганы или брэнды товаров, сложенные вместе или сопоставленные друг с другом, они имеют очень мало смысла. Ибо под ними – все та же серая клубящаяся пустота автостоянок и брошенных строек.
Видимо, из Харуки Мураками получился бы хороший джазовый критик или дизайнер. Иноуэ Хисаси так описывал роман «Пинбол-1973»: «Ежедневные эпизоды осени, выраженные через хорошо продуманную аранжировку, но без претензии – как готовая джазовая пьеса». «Слушай песню ветра», с другой стороны, Кавамото Сабуро считает не «художественным романом» в полном смысле слова, но книгой разговорной, болтливой. Мы просто болтаем о том, что приходит в голову, пока перед нами и с нашим участием проходят эпизоды нашего существования. День за днем. Только части головоломки все же не до конца совмещаются друг с другом, и цельной картинки в конце мы не получаем. Работы Мураками фрагментарны навсегда – осколки, просто упавшие на землю перед первыми заморозками и вмерзшие в лужи вместе с бурыми листьями осени. Картину какого цельного мира, в самом деле, можно представить по ним?
Если читателя трогают эти книги, то явно не верностью цветопередачи и реалистичностью взгляда – скорее искусным использованием белого цвета и пустого пространства, паузами между музыкальными фразами. Разум читающего погружается в атмосферу разрозненных эпизодов – точно так же наша повседневная жизнь транслируется множеством каналов, и мы поглощаем отдельные сцены и фрагменты. Они проникают в нас и точно так же исчезают без следа. И мы точно так же не находим в этом смысла и уж подавно не можем контролировать процесс. Время – настоящее неопределенное. Связь времен не просто распалась – она оборвана намеренно; перед нами – лишь плоская урбанистическая поверхность жесткого настоящего.
Об американском писателе-фантасте Харлане Эллисоне Мураками как-то сказал, что его стиль можно назвать «машинописным»: «Определить машинопись довольно трудно. Б общем и целом, мне представляется, что суть письма как такового – сосредоточенность и сходимость сознания. Языком машинописи, напротив, становится рассеянность и разобщение сознания. Иными словами, чтобы стало яснее: в хаосе и смешении ценностей современного мира та сущность, которая называется писателем, должна что-то упускать из виду в том, что она пишет. Выразительными становятся сами пробелы. Именно это я и называю машинописью».
Мураками – писатель не нудный, этого не отнять. Он не желает развивать какую-то одну тему с непреклонностью бронепоезда – конечно, вытаскивать кусочки головоломки и весело их разбрасывать гораздо приятнее. Но он и не мечется из стороны в сторону. Романы его обычно строятся на параллельных и противоположных эпизодах, точно он сам боится свалиться в пропасть «одиночества» и «абсолюта». Потому и книги его заканчиваются беззаботно и легкомысленно – но в то же время остается непереданная и непередаваемая горечь. Оттого ли такая отстраненность, что его собственные лучшие времена – позади? Или это обычная меланхолия жителя большого города, знающего, что сколько бы он ни брился по утрам, к вечеру щетина все равно вылезет наружу?
Главная причина, однако, наверное, все же в том, что ему слишком хорошо известно о существовании современного «эпизодического ада», по необходимости противопоставляемого «аду личному». Хотя ему самому – его герою – «я» – удается довольно успешно и счастливо выживать в хаосе фрагментов нынешней Эры Пустоты, раздробленность и противоречивость этих фрагментов истощают силы, срывают по ночам с якорей, насколько хорошо бы ему ни удавалось к утру перезаряжать аккумуляторы и снова насвистывать в ванной веселенький мотивчик. Все как у нас, в общем. От пустоты и суетной бессмысленности не убежать. На выездах из города затруднено движение.
Стиль Харуки Мураками сейчас довольно безошибочно можно определить даже по одной странице. Знаки и сигналы просты: например, крайняя абстрактность диалогов его персонажей – до афористичности. В реальной жизни такие реплики, наверное, звучали бы претенциозно, но в разреженной атмосфере книг Мураками они до предела реальны, они звучат живее и естественнее, чем многие из наших разговоров перед телевизором или на кухне. Но автор пускается еще на одну хитрость: такие диалоги встраиваются в антиреалистическую повестовательную канву.
Наверное, так и нужно: тот, кто стремится воссоздать «внутреннюю реальность» своих персонажей, неизбежно в языке предпочтет абстракцию и антиреализм. Нагой индивид в современном урбанистическом обществе так лучше кристаллизуется. В аллегорию или афоризм – итог определенных наблюдений, теоретических выкладок банальных и стертых фраз.