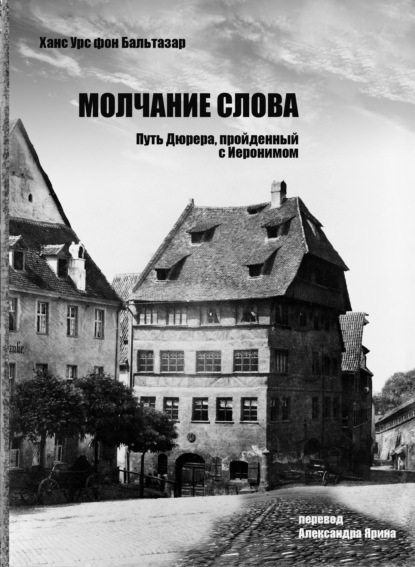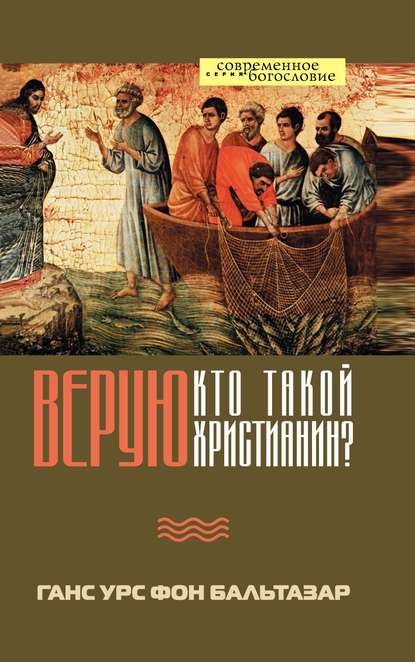Полная версия:
Ханс Урс фон Бальтазар Истина симфонична
- + Увеличить шрифт
- - Уменьшить шрифт

Ханс Урс фон Бальтазар
Истина симфонична
© Johannes Verlag, Einsiedeln, 1972
© Институт философии, теологии и истории св. Фомы, 2008
© Александр Ярин, перевод с немецкого, 2008
Пролог. Истина симфонична
1
Симфония означает «созвучие». Мы слышим звуки. Нечто звучит. Разные звуки смешиваются. Бас-трубу невозможно спутать с флейтой-пикколо, виолончель – с фаготом. Контраст между различными инструментами может быть сколь угодно велик, у каждого из них – свой неповторимый тембр, для каждого композитор старается сочинить такую партию, чтобы этот тембр достиг наибольшей выразительности. Бах в этом отношении, возможно, подает не лучший пример, когда лишь с небольшими изменениями адаптирует свой скрипичный концерт для клавесина. Непревзойденным мастером был Моцарт: в его концертах все инструменты – будь то виолончель, рожок или кларнет – выражают звучанием самую свою сущность. Однако подлинная симфония собирает все инструменты в единое целое. Моцарт имел настолько тонкий слух, что мог записать целую музыкальную фразу из партии отдельного инструмента, поскольку в общем звучании был способен расслышать каждый отдельный голос. Чтобы развернуть все богатство целого, звучащего в ушах композитора, оркестр должен быть плюралистичен.
Мир похож на огромный оркестр, настраивающий свои инструменты: из оркестровой ямы доносятся разрозненные звуки, между тем как публика заполняет театр, а дирижерское место еще пустует. И все же пианист извлекает из фортепиано звук ля, чтобы установить вокруг согласованное звучание, само же ля настраивается по некоему таинственному источнику. Также и выбор самих инструментов отнюдь не случаен: их качественные характеристики различаются между собой ровно настолько, чтобы образовать подобие координатной системы. Гобой, возможно, при поддержке фагота, составит хорошее дополнение к группе смычковых, но этого может оказаться недостаточным, если духовые не обеспечат связующий фон для этих противоположных партий. Выбор осуществляется исходя из единства, которое до поры до времени заключено в безгласной партитуре, но скоро, когда дирижер постучит по пюпитру, оно начнет все стягивать к себе, все увлекать за собой, и тогда станет ясно, зачем была нужна каждая отдельная часть.
Своим откровением Бог исполняет симфонию, относительно которой даже трудно определить, что богаче: единая мысль, выраженная в ее композиции, или полифонический оркестр, т. е. все творение, которое он приготовил для исполнения этой симфонии. Прежде чем Слово Бога стало человеком, мировой оркестр – многочисленные мировоззрения, религии, государственные проекты – наигрывал вразнобой, без всякого плана. Иногда возникало предчувствие, что эта какофония и сумятица – лишь «притирка» инструментов и что ля пронизывает все эти звуки, словно обещание. «Бог, многократно и многообразно говоривший издревле отцам в пророках…» (Евр 1, 1). Затем пришел Сын, «наследник мира» (Рим 4, 13), ради которого и был составлен этот оркестр. И по мере того как под его управлением этот оркестр исполняет симфонию Бога, обнаруживается смысл оркестрового многообразия.
Единство композиции определяется Богом. Поэтому мир был и останется впредь столь же – а быть может, и более – плюралистичным. Конечно, сам мир не может охватить взглядом эту свою множественность, поскольку единство ему внеположно. Однако смысл его плюрализма состоит в том, чтобы не отвергать это лежащее в Боге и сообщаемое Богом единство, но симфонически настроиться на него и достичь согласия с этим всепревосходящим единством. Никаких других слушателей, кроме самих музыкантов, у этого оркестра нет: лишь исполняя божественную симфонию – чья композиция не может быть угадана ни по отдельным инструментам, ни по их совокупности – участники начинают понимать, зачем их собрали вместе. Поначалу они сидят и стоят друг подле друга отчужденно и разрозненно. И неожиданно, когда игра начинается, им становится ясно, что́ их объединяет: не унисон, но – что гораздо прекрасней – симфония.
2
Ситуация нынешнего времени, с которой мы должны считаться, такова, что ансамбль единого целого воспринимается, как темница, и потому его с нетерпением рушат. Разве это не свидетельство поражения: заключать мелодию в тесные рамки трехголосой фуги? Ведь развитие и даже сама исходная форма фуги изначально определяется особым законом ее построения. Мелодия сама рвется наружу из всех условных границ, чтобы явить и излить себя в «чистом виде».
Сегодня возобладал властный порыв к Иисусу Христу, к его пленяющему образу; Иисуса хотят постичь в его изначальном, «чистом» виде, свободном от тягостных уз институциональной церкви, от слоя малопонятных догматов, архаических обычаев и окостеневших традиций. Мы ждем, что он восстанет из-под двухтысячелетних завалов истории каким был – в первозданном сиянии и наготе. И именно сегодня научная экзегетика уверяет нас, что наши знания о Иисусе Христе определяются лишь свидетельством веры, принесенным ранней Церковью, и что рассказ о его жизни несет отпечаток этой веры. И нам, таким образом, не суждено совлечь с него церковные одежды. Поскольку это найдено невозможным, разворачивается битва за другое: теперь хотят снять покровы с современной Церкви, накопившей за долгие века множество традиций, очистить и упростить ее до такой степени, чтобы в ней воссияла слава Иисуса Христа, какой мы ее себе заранее представляем. Вдобавок следует поставить под вопрос изначальные формулы веры, выработанные древней Церковью: не являются ли и они лишь новообразованиями, оболочкой истины? Слой за слоем очищая луковицу, мы в результате утрачиваем сердцевину.
Но разве те и другие не правы? Церковь должна как целое быть прозрачной и не заслонять собою Христа, никакой иной она и быть не может. Если же она потеряла прозрачность, то ничего удивительного в том, что мы стремимся пробиться к чему-то существенному, скрытому за ней. С другой стороны, если Иисус пошел на смерть, чтобы воскреснуть по ту сторону смерти и предстать перед учениками, истолковывая им самого себя как целое, чтобы они могли его понять, то разве Церковь не есть избранное им самим место, где он всегда присутствует и всегда доступен? То, что мы называем «вочеловечением Бога» в Иисусе из Назарета, совершилось в общине верующих, которые чувствовали возложенное на них поручение: возвестить и, свидетельствуя, представить это событие миру. И никто не может сказать, с какого момента первую общину можно назвать «раннекафолической». С самого начала – при Петре и с небывалой строгостью при Павле – в Церкви присутствовала иерархия должностей, с самого начала в центре общины – под крестом, рядом с Иоанном – стоит в молитве Мария. С самого начала в общине наличествовало крещение, преломление хлеба, помазание больных, возложение рук, раздаяние точных указаний верующим, поставление пресвитеров, сакральный суд, авторитет традиции. И уже тогда разные мотивы сплетались, взаимно настраивались друг на друга – фуга обретала свой голос.
Мы не можем оторвать Христа от Церкви и не можем растворить Церковь в Христе. Если мы вообще хотим расслышать что-то удобопонятное, нам придется охватить слухом всю полифонию откровения. Прозрачность, позволяющая увидеть Христа, достигается не разрушением Церкви или заменой ее некими нами же придуманными общинными формами, но тем, что люди, составляющие Церковь, по мере сил сливаются с ее реальностью: ведь они сами суть тело Христа и тем воплощают его телесное присутствие. С другой стороны, стремление «постичь» Христа тоже отдает глупостью: он всегда ускользает от тех, кто хотел бы его постичь, ведь сам он, во всей его реальности, есть только сущая прозрачность: «Видевший Меня видел Отца» (Ин 14, 9), «исповедующий Сына имеет и Отца» (1 Ин 2, 23), «Мое учение – не Мое, но Пославшего Меня» (Ин 7, 16), «не прикасайся ко Мне, ибо Я еще не восшел к Отцу Моему» (Ин 20, 17). Лишь дав увлечь себя к источнику, мы сможем узнать тайну Христа. Вводит нас в эту тайну Дух, исходящий от Отца и от Сына, поскольку он не Отец и не Сын, но их взаимная любовь. Даже вечная истина симфонична.
3
Можно задаться вопросом, была ли ранняя Церковь менее плюралистична, чем нынешняя, в которой ведется так много разговоров о плюрализме. Многочисленные лозунги и программы подаются так, словно они являются универсальным средством, могущим вывести Церковь из кризиса. Церковное сообщество надеется, что улучшения будут достигнуты благодаря демократизации и привлечению к принятию важных решений как можно большего числа верующих; этому должны сопутствовать «структурные изменения», только и могущие освободить простор для деятельности в демократическом духе. Общество вне Церкви столь же неукоснительно требует от нее участия в судьбе бедных и обездоленных – притом участия политически ангажированного, легко доходящего до революционности. Социальная и политическая деятельность – и есть подлинное служение Богу, настоящая молитва, и наконец, основательная школа самоотречения и жертвенности.
Все это – своевольно суженное понимание учения Христа и поданного им примера, равно как церковной теологии Нового Завета и программы Второго Ватиканского собора, призванной сделать Церковь открытой миру. Ибо, привлекая внимание к необходимым вещам, все эти призывы с монотонной регулярностью заглушают другое, противоположное, – с христианской точки зрения, столь же необходимое. Разве нельзя возвышать достоинство брака, иначе как принижая достоинство безбрачия? Разве необходимо, отстаивая политическую вовлеченность «Церкви» (которая может быть вовлечена в политику лишь в лице отдельных своих членов), отвергать ценность созерцательной и покаянной жизни как чего-то бесцельного и устаревшего? Сто́ит ли сейчас, когда любовь к ближнему заново открыта как главная христианская заповедь, всякий раз падать в обморок при слове «внутренняя жизнь» и пренебрежительно трактовать непосредственное общение человека с Богом как проявление эскапизма и отчуждения? Зачем, превознося истинно добрые деяния (ортопраксию), заповеданные Иисусом («…но исполняющий волю Отца Моего Небесного», Мф 7, 21), забывать о том, что Новый Завет столь же настоятельно требует от человека истинной веры (ортодоксия) («Всякий, преступающий учение Христово и не пребывающий в нем, не имеет Бога», 2 Ин 1, 9)? Заповедь терпимости проповедуется с нетерпимостью, евангелие плюрализма – с таким рвением, которое отдает сектантством, поскольку тех, кто ему не привержен, проповедники сочувственно трактуют как людей безнадежно отсталых.
Что же с нами происходит? Мы не можем вынести превосходящее нас единство, частью которого – всего лишь частью – мы являемся вместе с полученным от него даром милости и поручением для каждого. Поэтому мы отказываем в единстве целому и наделяем этим единством отдельную часть. Мы не хотим симфонии и требуем унисона. На платоническом языке это – тирания, на современном – тоталитаризм, внутреннее противоречие между однопартийной системой и претензией на непогрешимость. Это – идеологии одномерных людей, которые надеются охватить весь мир своей «лягушачьей перспективой». Некоторые пытаются даже a priori набросать общую модель святости, одинаково пригодную для настоящего и для будущего, не понимая, что святость прежде всего состоит в том, что, вселившись в тело, состоящее из многих членов, спорящих друг с другом, она дает в этом теле действовать божьей воле, причем в каждом – абсолютно по-своему. Ни один святой никогда не утверждал, что делать надо что-то единственно верное. Мать Тереза в Калькутте делала одно, Жюль Моншанен в той же стране – нечто совершенно другое. И оба они – истинное олицетворение «необходимого». Каждый, кто пытается жить христианской любовью, горит между Богом и миром: с Богом – ради мира, как представитель мира – ради Бога, и все они горят в сообществе святых. Они знают, что всякое служение нуждается в остальных служениях. Священник в миру нуждается в кармелитке, которая за монастырской стеной молится за него и приносит покаяние. Но он нуждается и в мирянине, которые со свойственной ему компетентностью в мирских делах может исполнить то, с чем священник обращается к нему, руководимый христианским образом мыслей. Священник не политизируется на мирской лад, а мирянин не пытается исполнять священническое служение. «Тело же не из одного члена, но из многих… А если бы все были один член, то где [было бы] тело?» (1 Кор 12, 14. 19).
4
О том, что христианская истина симфонична, следует говорить во всеуслышание, доносить до сердца каждого – сегодня это, быть может, более необходимо, чем когда-либо. Но симфония – это отнюдь не сладостная и бесконфликтная гармония. Великая музыка всегда драматична, в ней постоянно нарастает, концентрируется напряжение – и разрешается на все более высоком уровне. Однако диссонанс – это не то же, что какофония. Но это и не единственный способ создать и поддержать симфоническое напряжение. Моцарт умел придавать своим простейшим мелодиям (как часто он работал с простыми гаммами!) свойство настолько полного, стимулирующего внутреннего согласия и слаженности отдельных частей, что сила, по которой узнаешь его музыку уже через несколько тактов, кажется исходящей из какого-то неисчерпаемого резервуара блаженной напряженности, и сами члены тела наполняются бодростью и свежестью.
Резервуар Церкви – это «бездна богатства… Божия» (Рим 11, 33) в Иисусе Христе, сокрытая в церковной глубине. И Церковь дает этой полноте господствовать во всем ее многообразии, которое неостановимо изливается из ее единства.
В первой части этой книги мы – в свободной форме обзора – наметим различные аспекты теологического плюрализма, постоянно имея в виду его средоточие и источник – христианское откровение. Во второй части на некоторых примерах будет показано, как из единства постоянно изливается многообразие, которое имеет оправдание в этом единстве и всегда снова может быть в нем интегрировано.
Обзор видов теологического плюрализма
а) Израиль
Истина – это не вещь и не система. Это – некто, точнее, некто Единственный, кто, будучи бесконечно свободным, сам собою владеет и сам себя определяет. Причем определяет в подлинном смысле – держа себя собранно, не давая себе растечься подобно бесформенному и безграничному морю. Когда в Ветхом Завете мы читаем: «Я Бог; от [начала] дней Я Тот же, и никто не спасет от руки Моей; Я сделаю, и кто отменит это?» (Ис 43, 12 сл.), в каждом слове чувствуется напряженная сила этого самоопределения. Нелепо было бы думать, что подобная свобода может быть сведена к каким бы то ни было формулам и законсервирована в них. Мы даже не знаем, не заблагорассудится ли вдруг этому Богу – возможно, через несколько десятилетий или столетий – вновь изречь «слово Господне», сказав или сделав такое, что никому не может прийти в голову, что ниоткуда логически не вытекает (ведь «ему подобает» так говорить), – и от чего тем не менее исходит осуждение человека за то, что он преступно предал это забвению, ибо нечто в сказанном должно звучать для него знакомо, как язык давно оставленного им детства… Бог, который постоянно все обновляет, вместе с тем есть Бог верности, всегда остающийся верным Самому Себе, а потому и Израилю. Его свобода – это не произвол, а истина; его господство – не прихоть тирана.
Соответственно в Ветхом Завете противостоят друг другу две нераздельные сферы, каждая из которых отсылает к противоположной, при этом не сливаясь с ней в единый шар: там – сфера свободного и всеопределяющего Бога, который в самых разных выражениях с победительной очевидностью являет себя как единого, живого, действующего и актуально присутствующего;
здесь – все эти бесчисленные указания, вмешательства, наказующие и милующие приговоры, обетования, напоминания о сделанном и сказанном, предостережения от бездействия – одним словом, не поддающееся никакой систематизации переплетение, образующее жизненное пространство Израиля, в котором Израиль уже является, становится или мог бы стать «народом Божьим». Идейная и жизненная структура Ветхого Завета есть абсолютный плюрализм, который – как таковой – обеспечивает абсолютное единство и единственность всеопределяющего в своей свободе Бога. Отдельные деяния и слова Бога, разумеется, не составляют взаимного противоречия – такое мог бы допустить лишь «безумец», хотя и мудрец бывает подвержен искушению предположить подобное, – однако отношение Бога к Давиду уникально, о нем невозможно догадаться, зная его отношение к Езекии, Седекии или Моисею. На одной стороне – преломляющая призма с полным спектром цветов, – однако не столь совершенная, чтобы позволить каким-либо ухищрениям ума воссоздать по ним чистую белизну света. На другой – неприступный источник света, проникающего сквозь любую призму, но уже в преломленном и фрагментарном состоянии. Источник, в который человек – если хочет остаться в живых – не должен пытаться заглянуть (Исх 33, 20). Израилю жизнь Яхве дана в виде многоцветных отблесков – но это именно реальная жизнь Яхве, с которой Израиль то и дело соприкасается посредством жизненных «опытов», которых он зачастую предпочел бы избежать, но которые недвусмысленно ему доказывают, что в своей вере в Бога он не впадает ни в безумие, ни в идеологическую абстракцию. Эта тревожащая нераздельность плюрализма откровений, не допускающего никакой редукции, и их источника, суверенно свободного и потому не могущего быть сконструированным, составляет жизненную школу Израиля, которую ему необходимо было пройти, чтобы сначала уяснить себе, кто есть Бог, благоволивший сделать себя понятным человеку, а затем, исходя из постигнутого, открыть перспективу нового замысла являющего себя Бога – вочеловечения.
b) Бог и его Слово
Слово Бога не похоже на стрелу, выпущенную из засады: та может достичь цели, но кто выстрелил, остается неизвестным. Всякий бог, обращаясь к человеку, выдает ему нечто свое – это неизбежно, поскольку не существует языка, общего разным богам, каждый говорит своим языком, выговаривает себя, т. е., говоря, выдает свое имя, непохожее на другие. Отсюда смешение, почти до полного слияния, двух представлений, об имени бога и о волшебстве: когда бог говорит, он выдает важную тайну – человек неким образом узнает, как его зовут, и тем самым получает власть над ним. Не будем насмехаться над простодушием древних народов, иначе нам докажут, что подобное волшебство практикуется как раз христианами: обратить раскрытую тайну Бога против него самого, т. е. разоблачить его, а затем победить с помощью теологического рационализма и идеализма, и в конечном счете атеизма – все это вполне в духе истории Нового времени, постхристианского, хотя и не порвавшего с христианством.
Моисей тоже спрашивает Бога о его имени. Это выглядит наивно, во всяком случае, архаично. Может ли Единственный, который «есть всё» (но при этом больше, чем квинтэссенция мира, т. к. «Он превыше всех дел Своих», Сир 43, 27 слл.), быть обозначен одним именем как одна из вещей мира, которую следует назвать, чтобы определить ее место в родовидовой структуре мира? Разве он не обладает необходимо всеми именами, коль скоро ни одно имя его не вмещает? И все же: когда он говорит, то всегда нечто определенное и понятное, следовательно, сам он обладает определенностью. Но, будучи Богом, он не может получить определение от чего-то другого, но лишь от самого себя. В этом состоит его свобода – не вообще свобода, к которой он причастен наравне с другими, но исключительно его собственная свобода. Его свобода, его само-определение и его имя – суть одно и то же. Поэтому когда Бог говорит к Моисею, то в определенности его слова нельзя не услышать звучание свободы: по этому звуку – безошибочно! – узнается Бог. Мы знаем, кто говорит, и ровно постольку, поскольку мы это знаем, имя Бога открывается в его слове. Бог дает Моисею в путь для передачи народу двоякий дар: «имя», которое несет в себе непреходящее сообщение, присутствие, сопутствие, выраженное в деятельном слове, – и подтвержение, что Сопутствующий (под каким бы именем он ни выступал) всегда был рядом с отцами народа. Это – новое определение, которое всегда содержит в себе нечто бывшее «испокон века». И народ отвечает на это всегда новым и живым приятием и уверенностью в своей изначальной защищенности. Но защищенность эта даруется народу через постоянно живое и новое приятие.
Вот труднейшее, чему должен научиться Израиль: чистому приятию Всеопределяющего (ибо совершенно и несказанно свободно определенного в себе самом), который дарует себя в этом определении – своем слове. Дарует сполна и не прячась в засаде, но так, что никто не может наложить на него руку, если же кто-то пробует это сделать, то остается ни с чем – хватает пустые слова. Так значит, Бог не позволяет человеку ничего взять из своего слова? Не позволяет поймать себя на слове? Позволяет, но не иначе как тем же способом, каким сам всегда давал и дает себя: ожидая от человека приятия и не давая себя захватить. Человек может напомнить Богу о великих деяниях, совершенных им, Богом, в прошлом, и о его обетованиях, указующих в будущее. Но человеку будет позволено это сделать, лишь если весь этот временной диапазон окажется вмещенным в узкое, как разрез, пространство его решимости и готовности к приятию, т. е. к послушанию. Мы не можем, опираясь на вчерашнее, довериться Богу на завтра, если сегодня встречаем его сомнениями, неверием и непослушанием.
То же самое относится к диапазону божьего слова как высказывающего нечто о Боге. Попадая в поток времени, одно слово становится множеством слов. Человек узнаёт о Боге многое: он могуществен, справедлив, милосерд, он всегда выдвигает определенные и очень точные требования, держит свои обещания, воздает людям за дела до четвертого поколения, наказывает врагов Израиля, но наказывает и Израиль руками его врагов, он вкладывает свое слово в уста избранных, и эти избранные, носители его слова, обладают таинственной властью у Бога: они могут вымолить спасение, но могут и низвести с Неба проклятье… Все это и многое другое человек знает о Боге. Сложился определенный плюрализм высказываний и утверждений: человек накопил о Боге знания исторического, профетического и законоустановительного характера. Но вот что странно: все эти утверждения говорят не столько о том, что такое Бог, сколько о том, кто он. Мы все остаемся в некоем ожидающем бездействии перед лицом его свободного откровения. («Номиналистам» отчасти удалось верно почувствовать это, но они не смогли этого правильно выразить.) Часто эта свобода Бога кажется похожей на произвол (potentia absoluta). Бог, например, может гневаться, но затем умягчиться в ответ на слово Моисея. Он может объявить о разрушении Ниневии – и, к досаде пророка, простить ее. Может велеть помазать человека на царство и потом из-за небольшого, казалось бы, проступка его низвергнуть. В действительности, однако, это не произвол, но совершенная и суверенная свобода, которая ни одним словом себе не противоречит – это доказывает Павел на примере отвергнутого Израиля и помилованных язычников (Рим 11, 29). Однако в каждом новом случае невозможно, должным образом упорядочив высказывания, заранее сказать о том, как именно в этом парадоксальном отношении Бога выявятся и подтвердятся его неизменные «свойства» (истинность, благость, справедливость, верность, милосердие). Именно беззаботность, с которой его слово изливает множественные, на поверхностный взгляд, не сводимые воедино сведения об отношении Бога к миру (и тем самым о самом Боге), свидетельствует о его неслыханной суверенной и абсолютной самоопределенности, которую можно заподозрить в самопротиворечии, лишь впав в противоречие с самим собой. Человеку всегда хотелось упорядочить многообразные аспекты истины согласно какому-нибудь удобному принципу. Если, однако, свобода говорящего Бога (которая есть также его истина и его верность) с очевидностью является единственным принципом, в соответствии с которым это слово может быть понято и раскрывает свой смысл, то человекдолжен отказаться от исключительного обладания этим принципом. Он может получить его не иначе как посредством непрекращающегося дарения и должен, поскольку этот принцип является свободным всеопределяющим Богом, именно с Богом соотносить множественность Божьего слова, данную в единстве веры, послушания и понимания.
Вера предполагает в человеке сдержанность, самоотречение, полное принятие всех действий говорящего Бога. Лишь предоставив простор божьему слову во всей его множественности, верующий может уловить смысл, который вложил в него Говорящий. Этот смысл есть не что иное, как сам Говорящий, поскольку он желает себя сообщить. Это – всеобъемлющий, всепроницающий и в конечном счете всеосмысляющий смысл каждого отдельного слова (при этом мы всегда исходим из того, что все слова Бога деятельны и действенны). Для обозначения такого свободного самосообщения у нас есть слово любовь. Итак, это единственный герменевтический принцип, необходимый для понимания Библии. Если о нем забыть или отстранить его ради другого принципа, мы тотчас же потеряемся в лабиринте предметных толкований, из которого нас, как нить Ариадны, способен вывести лишь персоналистический принцип толкования. Израиль хорошо понимал это, когда сформулировал «наибольшую» заповедь как ответ на откровение Бога: как любовь – всем сердцем, всей душой, всей крепостью человека. И дал понять прекрасной в своем благоговении недоговоренностью, что этот всеобъемлющий ответ есть не что иное, как только эхо смысла божьего слова, точнее, общего смысла всех его слов.