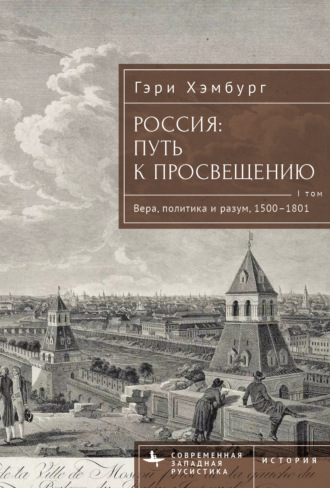
Гэри Хэмбург
Россия. Путь к Просвещению. Том 1
Метафора правителя как кормчего предполагает не только единоличную царскую власть, но и необходимость защиты государственного корабля от внутренних врагов в качестве первоочередной задачи правителя. Агапит пишет, что правитель должен «показать власть» врагам и победить их «силою оружия» [Писарев 1771: 12]. Чтобы непогрешимо управлять государством, утверждает Агапит, правитель должен твердо стоять на пути благочестия, украшаться благочестием как венцом [Писарев 1771: 9]. На практике христианское благочестие требовало от императора совершать добрые дела, такие как: внимать бедным [Писарев 1771: 5], перераспределять доходы от богатых к бедным [Писарев 1771: 10] и любить обездоленных [Писарев 1771: 23]. Человеческая сущность императора, считает Агапит, требует от него всегда быть «удобоприступным имеющим… нужду» [Писарев 1771: 5]. По Агапиту, благочестивый правитель должен быть беспристрастным при вынесении судебного решения [Писарев 1771: 21], внимательно вникать в суть судебного дела и никогда не обижать подданных [Писарев 1771: 21, 24]. Вводя новые законы, правитель сам не должен действовать вопреки им [Писарев 1771: 24]. Император должен «понуждать сам себя сохранять законы», ибо так «ты законам честь воздашь, яко прежде других сам оныя почитающий» [Писарев 1771: 15]. По мнению Агапита, благочестивый государь «солнца еще светлее», так как не терпит алчности злых людей и «светом истины изобличает скрываемыя обиды» [Писарев 1771: 24].
При рассмотрении государственных дел, утверждает Агапит, правителю необходимо «уклонение от обхождения с людьми нечестными» [Писарев 1771: 16], он должен «отвращаться от льстивых слов ласкателей, как от врановых хищных нравов» [Писарев 1771: 7], и принимать «хотящих советовать благая» [Писарев 1771: 12], считая «друзьями истиннейшими не тех, которые все твои слова хвалят; но оных, которые по справедливому рассудку производить все дела тщатся» [Писарев 1771: 17].
Подобно Богу, император управляет своими подданными, потому что, подобно Богу, любит их и хочет делать то, что идет им на пользу [Писарев 1771: 4]. Подданные императора должны подчиняться законам и поступать справедливо, но правитель должен превзойти их всех в творении добрых дел [Писарев 1771: 26]. Он должен быть самым послушным из подданных Бога – тем, кто лучше всех осознает необходимость благоразумия, благочестия, благотворительности, справедливости и мудрого совета. Короче говоря, «Государем над всеми есть Царь, но со всеми раб он есть Божий» [Писарев 1771: 33]. Другими словами, по утверждению Агапита, власть хорошего правителя ограничена не юридически, а нравственно.
Почему «Поучение» Агапита понравилось московской элите? Один из ответов заключается в том, что Агапит усматривал основу политической власти в Божьей воле, что отвечало древнерусским размышлениям об обязанностях князя, согласно которым хорошее правление предполагает неуклонное повиновение Божьим заповедям. Другой, более циничный ответ состоит в том, что в «Поучении» Агапита каждый находил что-то близкое для себя. Как и другие авторы «зерцал правителя», Агапит изображает праведного царя обладателем целого ряда добродетелей, каждая из которых соответствует определенному аспекту или функции царского правления. Царь одобрил бы метафору Агапита о кормчем, который самовластно ведет корабль государства через волны беззакония. Бояре и думные чины нашли бы причины, по которым к их советам государю стоит прислушаться. Представители Церкви согласились бы с Агапитом в том, что царь должен быть покорным Богу, благочестивым и не отвергать духовных наставлений. Как мы увидим ниже, русские XVI века цитировали Агапита с разными целями: Иосиф Волоцкий – чтобы польстить князю, напомнив ему в то же время о долге перед бедными, автор «Жития митрополита Филиппа» – чтобы уличить Ивана IV в тирании. В целом представление Агапита о праведном государе, в котором сочетаются внушающая благоговение суверенная власть князя и необходимость смиренно выслушивать прошения подданных, существенно не отличалось от других «зерцал», распространенных в киевский и раннемосковский период. Если Агапит и подтолкнул Ивана IV к абсолютизму, как полагают некоторые историки, то это «влияние» было результатом избирательного прочтения «Поучения».
Иосиф Волоцкий: сращивание церкви и государства
Самым выдающимся русским церковным деятелем конца XV века был Иосиф Волоцкий (1439 или 1440–1515). С юных лет воспитанный в монастырских школах, в 1460 году он принял постриг в небольшом монастыре близ города Боровска в Калужской земле. Там он прожил 18 лет под духовным руководством преподобного Пафнутия, который наставлял его в простой жизни, что сводилась к самоотверженному труду и непрестанной молитве, внушил милосердие к нуждающимся, уважение к справедливости и любовь к соблюдению монастырского устава [Булгаков 1865: 21–22]. После кончины преподобного Пафнутия Иосиф отправился посетить другие монастыри в надежде найти образец общежительного устава. Изучив в течение года несколько общин, он пришел к выводу, что устав Кирилло-Белозерского монастыря ближе всего соответствует тому образу благочестивой жизни, который он искал. Однако повсюду в монастырях, даже в Белозерском, он видел бесчиние, леность и произвол [Булгаков 1865: 25–32]. Иосиф решил основать новую общину, где строго соблюдались бы благочестие и христианский идеал равенства перед Богом. В 1479 году при содействии местного князя он основал с немногими разделявшими его взгляды монахами монастырь к западу от Москвы, недалеко от слияния рек Сестры и Струги, в окрестностях города Волока Ламского. К концу его жизни, почти четыре десятилетия спустя, Волоколамский монастырь стал средоточием религиозной и политической жизни Руси. На протяжении всего XVI века он останется одной из ведущих религиозных общин России.
В Волоколамске Иосиф намеревался учредить христианское братство, основанное на «всей истине от Божественных Писаний пророческих и апостольских и евангельских», ибо только в таком братстве можно было противостоять искушениям мира. Там же, считал Иосиф, легче всего разоблачить ложь ереси [Зимин, Лурье 1959: 296]. Монастырский устав Иосифа (составлен после 1479 года, записан в 1514 году, опубликован в 1959-м) требует, чтобы «чин церковной службы» соблюдался «благообразно и по чину» [Зимин, Лурье 1959: 297], чтобы монахи во время молитвы отлагали «всякое земное дело и попечение и леность» [Зимин, Лурье 1959: 298], чтобы, готовясь к «божественному пению и славословию», братья пеклись «прежде о телеснем благообразии и благочинии… потом же и внутреннем хранении и внимании» [Зимин, Лурье 1959: 300]. Он призывал монахов питаться простой пищей, избегать обжорства, «держати чрево и собрати сердце» [Зимин, Лурье 1959: 303–304] и отсечь «всех лютейшую страсть и начало всем злым, …еже есть тайноядение» [Зимин, Лурье 1959: 305]. Он требовал, чтобы братья носили простую, грубую одежду, призывая их избегать излишества и роскоши, ибо тот, у кого «смиренная и худейшая… одежда, на небесех славу себе притворяет» [Зимин, Лурье 1959: 306]. В пятом «слове» монастырского устава Иосиф увещает придерживаться общего жития, продать имущество, соблюдать нестяжание, «отречься всякия вещи», ибо «вещелюбие и стяжание» порабощают монаха. Иосиф наставляет собратьев, что «лучше есть оскудение имети и со Христом быти, нежели кроме того приобщениа всеми житейскими богатети, и с теми осуждену быти» [Зимин, Лурье 1959: 308].
Монастырский устав Иосифа Волоцкого запрещал присутствие женщин и детей на территории монастыря. Он опасался, что вид таких посетителей может соблазнить монахов на похотливые помыслы или даже на сексуальные связи [Зимин, Лурье 1959: 318–319]. Он хотел, чтобы монастырь был местом, свободным от чувственных отвлечений, но также и от всех внешних различий между людьми. Иосиф задумал Волоколамский монастырь как христианскую утопию, достигаемую за счет устранения поведенческих, материальных и гендерных различий.
Конечно, для соблюдения устава нужна была иерархия, и для решения этой задачи Иосиф, как и многие главы религиозных общин на протяжении веков, призвал избрать настоятеля и совет из 12 старцев. За нарушением устава в Волоцком монастыре могли последовать различные наказания. Мелкие и невольные проступки могли быть прощены по усмотрению настоятеля. Более серьезные, преднамеренные нарушения устава влекли за собой телесные наказания (многократные поясные поклоны, ограничения в питании – хлеб и вода) или духовную епитимью (отлучение от таинств), но только по усмотрению настоятеля и старцев. Самые тяжкие нарушения влекли за собой заключение в кандалы или даже изгнание из монастыря, опять же по усмотрению настоятеля и старцев [Булгаков 1865: 206–207]32. По мнению Иосифа, самым серьезным наказанием в этой шкале было изгнание из монастыря. Он считал его оправданным, когда нарушители предпочитали свои индивидуальные желания общему благу. По его мнению, индивидуальные действия не приносят ничего, кроме «безчинства и преслушания» [Булгаков 1865: 208].
Монастырский устав Иосифа Волоцкого предполагал постоянное наблюдение старцев за рядовыми монахами. Денно и нощно старцы наблюдали за насельниками, чтобы убедиться, что все они заняты трудом, не разговаривают и не смеются на службах, смирно стоят на своих местах в церкви и не имеют недопустимых контактов с мирянами [Булгаков 1865: 205–206]. В итоге, однако, соблюдение устава опиралось не на внешние правила, а на внутреннее осознание монахами того, что мирской и духовный порядки незримо взаимосвязаны. Иосиф призывал собратьев помнить: «Ты же Небесному Цареви предстоя, ему же аггели трепещуще предстоят… И как не боишися, ниже трепешещи, окаянне» [Зимин, Лурье 1959: 301]. Он также предупреждал монахов: «Диавол бо лукав сый и весть, яко вместо малых трудов Царствия небеснаго наследие прииметь, аще кто потщится и понудит себе на дело Божие» [Зимин, Лурье 1959: 298–299].
Благодаря исключительной дисциплине и упорному труду Волоколамский монастырь постепенно достиг процветания. Уже через несколько месяцев после основания монастыря монахи построили небольшую деревянную церковь в честь Успения Божией Матери. В последующие десятилетия монастырь построил четыре каменные церкви, трапезную и кухню, склады, монашеские кельи [Булгаков 1865: 38–39]. Растущий монастырь получал много даров, деньгами и землей, от богатых местных семей, от новгородского архиепископа Геннадия (Гонзова) и от великого князя Ивана Васильевича. К концу жизни Иосифа Волоцкого монастырь владел землями, на которых жило более 11 тысяч крестьян [Булгаков 1865: 35–38].
Ресурсы монастыря не только давали монахам возможность вести религиозную жизнь: через них община вовлекалась в экономику и политику Московского государства. Однажды Иосиф подсчитал, что монастырь кормит ежедневно «иногда шесть сот, а иногда семь сот душ». В голодные годы он занимал деньги, чтобы купить зерна и накормить голодающих местных крестьян. Щедрость его милостыни в голодные времена даже вызывала у братии ропот, что он разорит монастырь [Булгаков 1865: 50–51]. В 1512 году Иосиф умолял соседнего князя Юрия Ивановича помочь страдающим крестьянам, раздавая им зерно бесплатно или продавая его по разумной твердой цене33. Славясь своей милостыней бедным, монастырь, как магнит, притягивал к себе беглых крепостных. Иосиф склонялся к тому, чтобы принимать беглецов в общину, если они просили пострига, напоминая их бывшим хозяевам «имети попечение о рабех… и наказывати их всегда на благая дела на Божий путь спасеный…»34. Просьбам вернуть беглецов хозяевам Иосиф противился. Более того, в одном печально известном случае, связанном с жестокостью господина, Иосиф бранил хозяина за его «немилосердие… и нежалование… к рабом и сиротам домашним». Он писал виновнику: «И ты, господине, зри о сем, какой Божественное писание страшно претит и глаголет: есть беда велика и страшна и мучение бесконечное, еже не пекутся, ни имеют печали о домачных своих сиротах»35.
Милосердие Иосифа Волоцкого по отношению к бедным и его готовность защищать крепостных перед их хозяевами поднимают вопрос о его отношении к общественному строю Московской Руси. С одной стороны, он формально признавал «факт» существующего общественного устройства: разделение людей на господ и крепостных, необходимость для Волоколамского монастыря полагаться на крестьянский труд. С другой стороны, он напоминал власть имущим об их обязанностях перед слугами и использовал богатства монастыря для иллюстрации того, как можно улучшить жизнь на Руси при помощи христианской милостыни. Из-за этой двойственной позиции Я. С. Лурье различал «объективный смысл» идей Иосифа, которые косвенно поддерживали существующий общественный строй, и его «субъективные симпатии» к бедному крестьянству [Зимин, Лурье 1959: 66–67]. Однако нравственное порицание Иосифом социального угнетения простиралось дальше, чем полагает Лурье. Иосиф Волоцкий считал, что милостыня может не только помочь утолить голод, но и способствовать исправлению порочной жизни36. Дела праведности он считал шагом к установлению Царства Божьего на земле. Более того, в одном из своих писем он заметил:
…на страшнем судищи Христове несть раб, ниже свободна, но кождо по своим делом приимет; и аще будет князь или властелин благ, и праведен, и милостив и имел раб тако, яко же и чада, и пеклъся душами их, якоже Божественное Писание повелевает, за то примет Царства небеснаго наследие37.
Эти замечания показывают, что Иосиф рассматривал социальную несправедливость не столько как оскорбление его личных «субъективных симпатий», сколько как преступление против объективного, утвержденного Богом нравственного устройства. Если Иосиф был прав, утверждая взаимопроникновение духовной и мирской сфер, то его социальный идеал предполагал абсолютное равенство душ перед Богом.
Н. А. Казакова обратила внимание на житие Иосифа Волоцкого, написанное его почитателем. В нем автор повторяет доводы Иосифа в пользу милосердия к крепостным. По словам автора, Иосиф утверждал, что хозяева богатеют, если их крестьяне («тяжари») производят хороший урожай, но и страна в целом выигрывает от благоденствия народа. Люди, живущие при «тихом и кротком» князе, по словам Иосифа, будут молить Бога о даровании ему многолетнего правления, кроме того, «тем богатеющим умножат казну его частостию тамги и дани». Иосиф спрашивает: «Откуда бо… имение приимет казна ему, не сущу богатству в народех?» [Казакова 1958: 242–243]. Если этот анонимный источник отражает действительные взгляды Иосифа, то его отношение к существующему социальному порядку было многогранным: он принимал социальное разделение как «факт», с которым русские должны были считаться, но критиковал социальную несправедливость с нравственной и практической точек зрения.
Отношение Иосифа Волоцкого к политической власти никогда не было простым, – отчасти потому, что великий князь Московский Иван III пытался упрочить свою власть над соперниками, а отчасти потому, что эта политическая борьба происходила одновременно с распространением «ереси» в русских землях. Вначале у Иосифа были теплые отношения с Иваном III. Он несколько раз встречался с ним в 1478 году, и великий князь привечал его и провожал «с великой честью». Однако отношения между Иосифом и Иваном начали портиться уже в 1479 году, когда Иосиф перешел под покровительство соперника Ивана, князя Волоцкого Бориса Васильевича. Лурье трактует «переход» Иосифа к князю Борису Волоцкому как «разрыв» с Иваном III [Зимин, Лурье 1959: 42]. К 1490 году Иосиф начал подозревать, что Иван III привечает в Москве еретиков. Он полагал, что решение Ивана III назначить архимандрита Зосиму митрополитом Московским равносильно тому, чтобы поставить еретика во главе православной церкви [Булгаков 1865: 66–67]. В письме к епископу Нифонту Суздальскому Иосиф писал, что Зосима – «скверный злобесный волк, оболкийся в пастырскую одежду», «Июда предатель и причастник бесом» [Зимин, Лурье 1959: 160–161]. К 1494 году Иосиф считал Ивана III князем-убийцей [Зимин, Лурье 1959: 43]. Политическую и религиозную ситуацию, в которой оказались русские, Иосиф называл «бедой», «злым временем», предвидя скорый конец света. По его мнению, из-за своего отступничества Зосима стал «антихристовым предтечей» [Зимин, Лурье 1959: 161]. Обличение Иосифом митрополита более чем на столетие предвосхитило яростную критику Аввакума в адрес патриарха Никона.
С 1490 по 1504 годы иерархи Русской православной церкви сосредоточились на обвинениях в ереси, выдвинутых новгородским архиепископом Геннадием и Иосифом Волоцким против так называемых жидовствующих – небольшого сообщества священников и мирян. Жидовствующие якобы стремились реформировать православие, отрицали Святую Троицу и божественность Христа, отвергали идею, что Бог Отец послал Своего Сына на землю, чтобы искупить человечество от греха, не признавали воскресения Христа из мертвых. На основании этих предпосылок жидовствующие якобы заключили, что Христос не был Мессией, что таинства не имеют духовной силы, являясь лишь утешением или воспоминанием, что святых и иконы почитать не следует, а монашеская жизнь – это либо явное отклонение от Божьей воли, либо грубое лицемерие, неугодное Богу. Жидовствующие якобы отрицали телесное воскресение в конце времен и загробную жизнь. Их обвиняли в том, что они предпочитают иудейский календарь христианскому, «искажают» псалмы, пытаясь восстановить их оригинальные тексты, и предпочитают иудейское благочестие православному38.
С точки зрения христианских традиционалистов, каким был и Иосиф Волоцкий, все выглядело так, как будто жидовствующие хотят полностью уничтожить церковь как институт и богословие, на котором зиждется спасение христиан. Однако если жидовствующие действительно придерживались взглядов, которые им приписывал Иосиф, их конечной целью могло быть не уничтожение христианства, а его реформирование в пророческую религию путем приближения образа Иисуса к Его историческим корням и «очищения» христианской практики от дополнений, которых нет в Писании. «Программа» жидовствующих, даже в том виде, в котором ее описал Иосиф, была примером ультра-традиционализма в том смысле, что она предполагала «возвращение» к прежним верованиям и практикам, но также она была примером рационалистического реформизма, поскольку стремилась очистить христианство от «иррациональных» суеверий. По заключению Иосифа, учение жидовствующих угрожало церкви и общественному устройству Московской Руси, вызывало отвращение у большинства церковных иерархов. Однако некоторые его аспекты, особенно неприятие монастырского землевладения, несомненно, склонили Ивана III к тому, чтобы смириться с существованием ереси.
Однако вполне вероятно, что реальные убеждения жидовствующих в значительной степени отличались от тех, которые обычно вменялись им Геннадием, Иосифом и другими церковными авторитетами. По мнению Моше Таубе, «ересь» жидовствующих, вероятно, выросла из переводов на русинский язык ряда ивритоязычных текстов. Сами тексты были переписаны или переведены киевским евреем Захарией Ха-Коэном, который в середине XV века посетил Новгород и, возможно, ввел эти тексты в обращение на Руси. Тексты предположительно включали фрагмент астрономического трактата Аль-Фергани «Книга о сфере» и, возможно, его же «Книгу о небесных движениях и свод науки о звездах» (комментарий к «Альмагесту» Птолемея); редакцию «Трактата о сфере» Иоанна де Сакро-Боско; так называемый «Шестокрыл» Эммануеля бар Якоба Бонфилса из Тараксона; перевод «Тайная тайных» («Secretum Secretorum»); этические и философские работы школы Маймонида [Taube 1995: 168–198].
В «Книге о сфере» Земля описывается как «самый центр Небес, не отклоняющийся от своего положения». Небесные сферы состоят из «верхнего» неба и «нижнего» неба, а движения планет соотносятся с их расположением на этих небесах. Также в трактате предпринята попытка описать физические причины лунных затмений [Taube 1995: 184–189]. «Шестокрыл» – это метод расчета периодичности лунных и солнечных затмений, но его математика исходит из того, что мир приближается к концу седьмого тысячелетия своего существования – то есть, по мнению русских читателей, к концу света39. Предположительно среди жидовствующих, а затем среди русских христиан ходили оба эти текста, поскольку тема Апокалипсиса пользовалась большим интересом.
«Тайная Тайных» – арабский текст, широко известный в Европе в латинском переводе, приписывавшийся Аристотелю, который якобы в письме к Александру Македонскому давал ему наставления по самым разнообразным вопросам, от астрологии и ботаники до политической этики и души. В славянской редакции «Тайная тайных» большой интерес представляет упоминание о «двух кругах»: круге мира и круге души. В ивритоязычном источнике славянской редакции круг мира состоит из восьми частей, или максим. В переводе Таубе с иврита круг мира выглядит следующим образом:
1. Мир есть сад, огражденный владычеством. 2. Владычество – это господство, возвышенное законом. 3. Закон – руководство, управляющее царем. 4. Царь – это пастух, собирающий войско. 5. Войско – драконы, вскормленные деньгами. 6. Деньги – это пища, собранная народом. 7. Народ – слуги, подчиненные правосудию. 8. Правосудие – счастье и утверждение мира [Taube 1994: 343].
В славянском переводе текст о круге мира был просто опущен, хотя переводчик обещал включить его, поскольку он имеет отношение к «царским делам».
Текст о круге души также был исключен из славянского перевода, но Таубе утверждает, что он соответствует «Поэме о душе», которую обычно приписывают московскому дьяку Федору Курицыну, одному из сторонников жидовствующих. Курицын сохранил «Поэму о душе» в зашифрованном виде. Таубе реконструировал ее следующим образом:
1. Душа – отдельная субстанция, предел которой – религия. 2. Религия – руководство, установленное пророком. 3. Пророк – это вождь, которого узнают по чудотворению. 4. Чудотворение – дар, подкрепленный мудростью. 5. Мудрость – сила ее – жизнь в воздержании. 6. Воздержание – это путь жизни, цель которой – знание. 7. Знание преблагословенно – через него мы достигаем страха Божьего. 8. Страх Божий – это начало добродетели, которым назидается душа [Taube 1994: 346–347].
Если характеристика литературы жидовствующих, данная Таубе, верна, то мы, вероятно, должны предполагать, что они ожидали скорого конца света. Свой эсхатологизм они обосновывали математическими расчетами и научными данными того времени, а также словами пророков. Они не отвергали ни бытия Бога, ни возможности чудес: более того, их понимание пророчества допускало чудотворение. Их религиозные взгляды были основаны на разуме, мудрости, трезвении и самодисциплине. Душу они считали «отдельной субстанцией», то есть элементом, автономным от тела и мира.
Возможно, русские жидовствующие не знали о политических идеях книги «Тайная Тайных», представленных в «круге мира», поскольку эта часть текста была исключена из славянского перевода. Однако можно хотя бы предположить, что это знание передавалось устно. Из восьми максим круга мира наиболее спорными в контексте Московской Руси были третья (о подчинении царя законам) и пятая (сравнивающая войско с паразитирующими «драконами»). Максима восьмая, описывающая справедливость как «утверждение мира», могла вызвать возражения двоякого рода. С одной стороны, с православной точки зрения утверждение мира – Бог, Христос – «столп и утверждение истины». С другой, не так уж часто в русских текстах «правосудие» и «счастье» приравнивались друг к другу. В целом и «круг души», и «круг мира» основывались на рационалистическом мировоззрении. Такой взгляд на вещи в сочетании с математико-астрономическим эсхатологизмом движения побудил русские церковные круги противостоять эзотерическим текстам «извне».
На церковном соборе 1490 года по меньшей мере девять человек были осуждены как еретики, причем все осужденные, кроме двоих, были из Новгорода. Иосиф Волоцкий выразил недовольство таким исходом по двум причинам: во-первых, он считал, что на самом деле еретическое сообщество намного обширнее; во-вторых – полагал, что наказания, вынесенные еретикам, были мягче, чем они того заслуживали40. За чересчур мягкие приговоры он порицал митрополита Зосиму, а также некоторых придворных Ивана III, например Федора Курицына. Задачей Иосифа на последующее десятилетие стало обеспечить себе сотрудничество Ивана III в подавлении оставшихся в государстве еретиков, после того как события 1490 года показали, что великому князю в этом доверять нельзя. Лишь в 1503 году, когда Иосиф приехал в Москву на церковный собор, посвященный вопросам о вдовствующих священниках и монашеской жизни, ему удалось достичь согласия с Иваном. Великий князь признался Иосифу, что раньше он «ведал новгородцких еретиков», и теперь просил Иосифа: «…и ты меня прости в том». Иосиф Волоцкий ответил Ивану: «Государь! Только ся подвигнешь о нынешних еретикех, ино и в прежних тебе Бог простит». По словам Иосифа, Иван III тотчас же решил разыскивать еретиков в Новгороде и других городах [Зимин, Лурье 1959: 175–176]. Начатые в 1503 году расследования закончились тем, что проведенный в следующем году церковный собор осудил множество еретиков: нескольких сожгли, другим вырезали языки, третьих отправили в монастырские тюрьмы [Голубинский 1900, 2: 582].
Несмотря на соглашение с Иваном III, Иосиф Волоцкий с подозрением относился к московскому великому князю до самой его смерти в 1505 году, и перенес эту же подозрительность на преемника Ивана Василия III. Лишь в 1507 году, когда Волоколамский монастырь испытывал давление князя Ф. Б. Волоцкого, Иосиф обратился за защитой к Василию. Разворот Иосифа Лурье расценил как «новый этап в биографии Волоколамского игумена» [Зимин, Лурье 1959: 84]. Либеральный историк П. Н. Милюков рассматривал обращение Иосифа к Василию III как доказательство поддержки им московского политического устройства и как средство установить «тесный союз церкви с государством» [Милюков 1899, 2: 27]. Зимин считает, что в течение всего периода с 1507 года до своей смерти в 1515 году Иосиф «развивает теорию теократического происхождения самодержавия» [Зимин 1953: 174]. На самом деле, однако, даже после «перехода» Иосифа к Василию в его отношениях с великим князем сохранялась напряженность [Зимин, Лурье 1959: 88–89].
Коварные извивы московской политической жизни между 1479 и 1515 годами и меняющееся на их фоне отношение Иосифа к государству объясняют, по крайней мере частично, кажущуюся непоследовательность его политических учений. Свои взгляды на такие проблемы, как подчинение светской власти и христианский долг противостоять нечестивым правителям он излагал во-первых, в коротких «посланиях», во-вторых, в официальных проповедях («словах»). Короткие послания, как правило, были адресованы тому или иному церковному деятелю или князю. В них Иосиф затрагивал вопросы, представляющие интерес для его монастыря, либо конкретные вопросы религиозного значения. Поскольку он обычно стремился убедить своего читателя совершить конкретное действие или принять определенную позицию, его эпистолярный стиль часто описывается как «деловой», лаконичный, практический. Но такие характеристики слишком просты, хотя бы потому, что свои советы он подкреплял ссылками на Священное Писание и другие религиозные источники. На самом деле в его стиле несентиментальный практический ригоризм неуклюже сочетался с моральным увещеванием. Его интонации были уверенными, необычайно властными, но в письме великому князю он уничижительно пишет о себе: «нищий… грешный чернец Иосиф з братьею челом бью» [Зимин, Лурье 1959: 178]. Историки идентифицировали более двух десятков писем, написанных Иосифом между 1478 и 1515 годами41.
Между 1490 и 1511 годами Иосиф написал 16 проповедей, посвященных ереси жидовствующих и ее подавлению. В первых 11 «словах», написанных между 1490 годом и церковным собором 1504 года, он обличал догматические ошибки еретиков, а также излагал основные доктрины Церкви о Троице, об Иисусе как Мессии, о роли Церкви в спасении, о воплощении Иисуса, о почитании икон, о христианской эсхатологии и о роли монастырей в православной жизни. Последние пять проповедей Иосиф написал после подавления ереси, вероятно, в 1505–1511 годах. В 12-м «слове» рассматривался вопрос о том, обладают ли еретики, наделенные высоким церковным саном, духовной властью. В «словах» 13–16 обсуждались этические проблемы, связанные с подавлением еретиков и отступников: обязаны ли церковные чины и светские служащие судить и наказывать еретиков; какая степень бдительности необходима при расследовании ереси; на каких условиях раскаявшиеся еретики могут быть приняты в Церковь.
Иосиф писал проповеди в разное время, но впоследствии расположил их не в хронологическом порядке. Например, «слова» с пятого по седьмое он, вероятно, написал между 1502 и 1504 годами, незадолго до церковного собора, хотя можно предположить и гораздо более раннюю датировку. «Слова» первоначально имели другой порядок: первое и второе, о почитании икон, стали шестым и седьмым в окончательной нумерации Иосифа; третье «слово» об иконах стало пятым. Для наших целей важно как решение Иосифа объединить первые 11 «слов» в сборник «Против ереси новгородских еретиков», так и его последующее решение, принятое, вероятно, в 1510 или 1511 году, добавить к сборнику остальные проповеди. В XVII веке книга Иосифа Волоцкого против еретиков ходила в рукописи под названием «Просветитель». Православные традиционалисты до сих пор считают «Просветитель» шедевром Иосифа. Историки смотрят на сборник как на одну из самых влиятельных русских книг XVI века.
Нашего внимания заслуживают несколько аспектов «Просветителя». Во-первых, «Просветитель» как краткое изложение христианских догм и их обоснований может сравниться лишь с немногими произведениями православной литературы. Иосиф четко выделил основные положения христианской веры и подробно процитировал тексты Писания, на которых они основаны. Поскольку книгу он задумывал как опровержение жидовствующих, многие цитаты он взял из Ветхого Завета. Он не изучал оригинальные еврейские тексты, но приводил цитаты из современного ему церковнославянского перевода Библии. Еврейские Писания Иосиф покрывал христианским глянцем, воспринимая цитируемые отрывки как выражение христианского учения до появления самого христианства. Тем не менее его толкования догматов в большинстве случаев были тщательно укоренены в Писании. В «Просветителе» также искусно использовались святоотеческие творения. Русским «Просветитель», должно быть, казался удивительно ученой и убедительной книгой.



