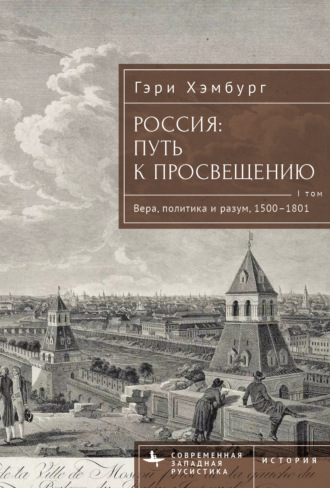
Гэри Хэмбург
Россия. Путь к Просвещению. Том 1
Определения
В настоящей книге некоторые ключевые термины используются в особом смысле, поэтому остановимся, чтобы дать рабочие определения.
Вера
Вера – это одновременно и условие верности, и набор действий, вытекающих из этой верности17. В Древней Руси и Московском государстве иметь веру означало, как правило, исповедовать православное христианство и участвовать в православных обрядах. В православном благочестии была эмоциональная составляющая: верующий должен был любить Бога и доверять Ему, почитать Богородицу, восхищаться святыми и подражать им, а также отвращаться от дьявола и всех его дел и суеты. Поскольку многие православные склонны думать о христианстве как о практической живой религии, а не как о догме, они не считают необходимыми какие-либо эзотерические знания, помимо основ веры, утвержденных древними христианскими Соборами. По этой причине многие православные мыслители с недоверием относились к эзотерическим знаниям и считали их обладателей еретиками, действительными или потенциальными. Для православных источником авторитетного учения было откровение и Писание, истолкованное Церковью. Церковная власть не обязательно принадлежала какому-то отдельному епископу, митрополиту или патриарху, но скорее заключалась в постановлениях церковных соборов. Такая децентрализованная модель церковной власти способствовала возгоранию ожесточенных споров о последствиях действий церковной иерархии, как, например, спор XVII века об «исправлении» патриархом Никоном православных богослужебных книг. Поэтому, например, протопоп Аввакум, порицая церковную иерархию, при этом прибегал к авторитету Церкви как источнику толкования веры. Конечно, в допетровской России православие было доминирующей конфессией, но все же не единственной. Поэтому на практике православные иногда проявляли ограниченную веротерпимость к религиозным общинам, которые они считали еретическими или сектантскими18. Сосуществование господствующей Церкви и иноверцев, как правило, усиливало культурное беспокойство по поводу положения православия в религиозном сообществе России, вызывало ожесточенные «споры о границах» – о том, что является истинно православным, а что нет, – но также способствовало осторожному сближению между православными и иноверцами.
Разум
И в Московской Руси, и в молодой Российской империи большинство политических мыслителей считали религиозные обязанности разумными, – в той мере, в какой они соответствовали учению Церкви, общепринятой христианской практике, добродетелям, предполагаемым христианской верой, или накопленной человечеством мудрости. Большинство этих русских жили до выхода в свет «Критики чистого разума» Иммануила Канта (1781), в которой Кант решительно отверг догматическое знание и то, что он считал духовным деспотизмом. Поэтому они не видели смысла в противопоставлении разума и веры, как того, что основано на интуиции или на некоем сверхчувственном восприятии, источнике тайного знания. Более того, они считали, что сверхчувственный духовный мир и физический мир, в котором обитают люди, взаимопроницаемы, и утверждали, что эти взаимосвязанные миры живут по законам божественной логики, которая по своей природе разумна. Большинство православных мыслителей полагали, что разум соотносится с логикой, которую можно проследить в сочетании повседневного человеческого опыта и истины откровения, содержащейся в Писании и святоотеческих текстах. Для православных магия и ересь были иррациональны, поскольку они отклонялись и от общечеловеческого опыта, и от Писания.
С конца XVII века русские мыслители начали переосмыслять значение эрудиции в толковании Писания и учения Церкви. Они стремились понять, насколько классические греческие и римские представления о добродетели совпадают с православными, то есть разумны ли они в той же мере. Они пытались решить, до какой степени можно руководствоваться западной политической философией в управлении Русской Церковью и государством. По сути, эти вопросы поднимали проблему того, может ли разум, а значит, и авторитет, существовать вне Церкви. Как мы увидим ниже, дебаты по этим вопросам указывали на противоречие между двумя различными концепциями Просвещения, которые сосуществовали в России XVIII века: одна из них была основана на православной идее духовного просвещения; другая вытекала из попыток определить Просвещение как рациональность. По ряду причин, однако, различия между ними были скорее скрытыми, чем явными, так что большинство русских политических мыслителей послепетровского периода считали себя и православными, и рациональными.
Секулярность
Историки часто описывают российское государство XVIII века как светское. Считается, что петровское государство приобрело светский характер, когда в ходе церковной реформы 1721 года Петр в административном отношении подчинил церковь государству, учредив Святейший Синод. При невнимательном знакомстве с реформой 1721 года можно сделать вывод, что отныне государство контролировало церковное имущество и что Петр объявил себя духовным главой Православия. Однако оба этих вывода ошибочны, хотя петровская церковная реформа действительно коренным образом изменила отношения между Церковью и государством. Более проблематичным является предположение о том, что Просвещение в России способствовало процессу секуляризации и ускорило его, – то есть, что оно привело к упадку православных верований, практик и институтов, а также к «маргинализации» религии, к ее вытеснению из общественной жизни в частную19. На самом деле, нет достоверных статистических данных в пользу того, что в раннюю эпоху Российской империи произошла дехристианизация. Нет и доказательств формирования частной сферы в области веры, хотя по меньшей мере один мыслитель конца XVIII века и выступал за ее создание через закрепление принципа свободы совести. На самом деле в имперской России разграничение «частного» и «общественного» никогда не было четким20.
В этой книге мы будем следовать идее Чарльза Тейлора о том, что светское общество – это современное общество, «в котором вера, даже для самого непоколебимого верующего, является одной из многих человеческих возможностей» [Taylor 2007: 3]. По определению Тейлора, ранняя императорская Россия была традиционным религиозным обществом, а не современным светским. Среди русских мыслителей конца XVIII века, пожалуй, только Александр Радищев прямо выступал за светское общество в понимании Тейлора.
Политика
Писатели Древней и Московской Руси часто упоминали как обязанности христианского князя, так и обязанность подданных повиноваться ему. В настоящей книге таким авторам дается широкое определение политических мыслителей, а совокупность действий и замыслов, относящихся к княжеской власти, понимается как политика21. В древнерусских текстах, однако, для обозначения механизма государственного управления не использовались слово «политика» и термин «государство». Обычно древнерусские авторы называли область, в которой правил князь, его землей. Термин государь, который первоначально означал «рабовладелец», вошел в обиход в качестве наименования князя лишь в конце XIV века [СДЯ 1989, 2: 373–374]. Титул царь не использовался Московскими князьями до XVI века, хотя и был опробован в XIII веке по отношению к татарским ханам [Срезневский 1895, 2: 1433–1434]. Термин царствовати впервые встречается в источниках конца XV века и стал обычным в XVI веке – то есть именно в рассматриваемый нами период. Русские XVIII века, с другой стороны, обычно использовали существительные политика и политик для обозначения, соответственно, науки государственного управления и государственного деятеля, а также прилагательное политический – относящийся к управлению государством [Словарь Академии Российской 1793: 965–966].
Просвещение
В декабре 1784 года Иммануил Кант опубликовал эссе под названием «Ответ на вопрос: что такое Просвещение?» [Kant 1784: 481–494], в котором дал определение просвещению («выход человека из состояния своего несовершеннолетия, в котором он находится по собственной вине» [Кант 1994, 8: 29]) и предложил программу его осуществления («свобода во всех случаях публично пользоваться собственным разумом» [Кант 1994, 8: 31], «надежно и хорошо пользоваться собственным рассудком в делах религии» [Кант 1994, 8: 35] и принятие законов, позволяющих подданным короны «публично пользоваться своим разумом и открыто излагать свои мысли относительно лучшего составления законодательства» [Кант 1994, 8: 36]). Высказанные им мысли повлияли на все последующие представления о просвещении, по крайней мере в Западной Европе. Концепции Канта о господстве над собой как цели жизни, его враждебность к религиозным «предрассудкам» и деспотическому правительству как к угрозам личной свободе, его одобрение дискуссионной среды в публичной сфере при благожелательности государства, его зарождающийся республиканизм и вера в исторический прогресс – все это находится в центре многих дебатов о признаках просвещенных обществ, и в той или иной степени повлияло на формирование личности многих интеллектуалов, считающих себя «просвещенными».
Однако определение Кантом религии как «основного момента просвещения» и его трактовка религиозной незрелости как «не только наиболее вредной, но и наиболее позорной» [Кант 1994, 8: 36] заслуживают критического внимания по трем причинам. Во-первых, Кант полагал, что при исполнении своих обязанностей священнослужители не вправе излагать учение, расходящееся с доктринами религиозной общины. Он признает, что священник «…не свободен и не может быть свободным, так как он выполняет чужое поручение» [Кант 1994, 8: 33]. Идея Канта о том, что ученый может быть свободен в общественной сфере, но обязан подчиняться в сфере частной, основывается на странном представлении об интеллектуальной свободе, согласно которому мы должны говорить правду перед равными нам интеллектуалами, но не внутри иерархических организаций, в которых работаем22. Во-вторых, обоснование Кантом абсолютной свободы в публичной сфере очень странно сочетается с его защитой авторитета монарха, который, «не боясь собственной тени», скажет интеллектуалам: «рассуждайте сколько угодно и о чем угодно, только повинуйтесь!» [Кант 1994, 8: 36]. Такая позиция Канта подразумевает, что на практике публичное выражение идей не имеет отношения к политическому повиновению, – такого мнения не придерживался ни один крупный мыслитель XVIII века, и, надо сказать, оно противоречит здравому смыслу. В-третьих, презрение Канта к религиозным догмам было спорным в XVIII веке даже среди высокообразованных людей, которым были важны прочие ценности Канта – самообладание, управление на основе консенсуса, свободная общественная сфера, правовое государство и исторический прогресс. Его взгляд на религию и просвещение был, возможно, логическим следствием политики, проводимой Фридрихом II при жизни Канта, но не каждый пруссак согласился бы в трактовке религии как формы «незрелости» или недостаточного самообладания. Стоит подчеркнуть, что с точки зрения большинства русских конца XVIII века концепция просвещения Канта выглядела спорной, неправдоподобной или просто ложной.
Чтобы реконструировать русские представления о просвещении, проделаем обратную работу от современных значений термина «просвещение» к более ранним. Оксфордский русско-английский словарь (1972) определяет глагол «просветить» как «to educate, to enlighten» («образовывать, просвещать»), а существительное «просвещение» как «education, instruction» («образование, обучение») или как «эпоху Просвещения» [Wheeler 1972: 638–639]. В этих определениях отразилось как академическое, так и разговорное словоупотребление XX столетия, хотя они лишены политических коннотаций, присущих этим словам в советский период. «Толковый словарь русского языка» Д. Н. Ушакова (1939) определяет просвещение как «образование», ассоциируя этот процесс с «политическим образованием», проводимым коммунистическим правительством. Кроме того, просвещение определяется как «период развития буржуазной философии и науки в Западной Европе XVIII века» [Ушаков 1939, 3: 996]. «Русский толковый словарь» В. В. и Л. Е. Лопатиных» (1994) также устанавливает связь между образованием и передачей прогрессивных политических ценностей. Согласно словарю, «просвещать кого-либо» означает «сообщать кому-либо знания», «распространять знания или культуру». Просветитель – это «прогрессивная общественная фигура, распространитель прогрессивных идей и знаний» [Лопатин, Лопатина 1994: 539–540].
Однако в более ранних словарях мы обнаруживаем, что этот комплекс терминов имел иные коннотации. В великолепном труде М. И. Михельсона «Русская мысль и речь» (1912) отмечается связь между «просвещением» и здоровой нравственностью: «Просвещение без нравственной жизни – не просвещение» [Михельсон 1912: 709]. В «Толковом словаре живого великорусского языка» В. И. Даля (1882) просвещение определялось как «свет науки и разума, согреваемый чистой нравственностью», «развитие умственных и нравственных сил человека», «научное образование при ясном сознании долга своего и цели жизни». По мнению Даля, просветитель – это «наставивший в истинах». Учить или просвещать кого-либо означало «даровать свет умственный, научный и нравственный, поучать истинам и добру; образовать ум и сердце» [Даль 1882: 508]. Таким образом, в словаре Даля подчеркиваются нравственные коннотации просвещения. Как выясняется, эти коннотации – отголосок более ранних денотативных и коннотативных употреблений термина «просвещение».
В литературном языке киевского и раннемосковского периодов нравственное содержание таких терминов, как «просветитель», «просвещати» и «просвещение», было весьма ощутимо. Просветитель – это «тот, кто духовно наставляет другого». Просвещати означало «светить», обычно с помощью разума или рассуждения; «освещать, озарять» верой; «делать светлее или благоообразнее», как, например, украсить монастырь; «совершать обряд крещения»; или «наставлять в духе истинной веры», «улучшать, просветлять, совершенствовать». Просвещение означало «свет», «сияние», «озарение», «просвещение» в смысле нравственного знания или рассуждения, «совершение обряда крещения» и «Праздник Крещения Господня» [СДЯ 2012, 9: 151–156].
Таким образом, в истории русского языка мы сталкиваемся с тремя различными понятиями просвещения: первоначальная религиозно-нравственная идея, связанная с христианской верой, означающая «духовное просвещение»; понятие XIX века, смешивающее науку, разум и этический долг; и понятие XX века, связанное с процессом образования, означающее «рациональное обучение», «прогрессивное политическое образование» или просто «рациональность». Говоря языком Хайдеггера, под «шелухой» светского слова XX века «просвещение» скрывалось «зерно» первоначального нравственного смысла.
В рассматриваемых нами текстах XVI–XVIII веков термин «просвещение», как правило, нес в себе нравственный заряд в полной мере, но начиная с конца XVII века идея духовного просвещения подверглась проверке разума, так что к середине XVIII века в слове «просвещение» одновременно присутствовали коннотации духовного просвещения и этически обоснованной рациональности. Благодаря такому семантическому сдвигу некоторые мыслители, например Платон Левшин, могли употреблять этот термин в двояком смысле. В целом на лексическом уровне в нашем 300-летнем периоде происходила медленная трансформация слова «просвещение», в результате которой понятия духовного просвещения и этической рациональности в литературном употреблении слились.
Прирастание смыслов этого слова наводит нас на более общий вопрос о просвещении в России как историческом процессе: имела ли место медленная эволюция православных представлений о вере, политике и разуме в просветительские представления об этике, справедливом обществе и рациональности? Иначе говоря, было ли явление, которое мы называем русским Просвещением, в такой же степени следствием исторической преемственности в восприятии мира русскими мыслителями, как и разрыва в историческом развитии – петровской «революции сверху»?
Структура
Мы попытаемся ответить на эти вопросы в процессе трехчастного анализа. В первой части книги, затронув предшествующие византийский и древнерусский периоды, мы исследуем веру, политику и разум в Московской Руси, обратив внимание на ее «боголюбивых» мыслителей, на дебаты XVII века о Церкви и государстве и на попытки выяснить, когда оправдано сопротивление нечестивым правителям. В главах этого раздела мы совершим воображаемое путешествие из картины мира «охотника за еретиками» конца XV века (Иосифа Волоцкого) в картину мира «еретика» конца XVII века (Сильвестра Медведева), отслеживая в процессе, как менялось русское понятие просвещения. Во второй части мы исследуем связи между добродетелью и политикой в бурную эпоху Петра Великого, когда в представления русских о политике и религиозной жизни внедрялись новые идеи об отношениях Церкви и государства, новые концепции экономической жизни и новое ви́дение взаимозависимости России и других государств. Мы также рассмотрим нескольких русских философов-моралистов середины XVIII века: Дмитрия Голицына, Василия Татищева и ученого-энциклопедиста Михаила Ломоносова – мыслителей, сочетавших традиционные идеи о праведной жизни с современными европейскими представлениями о добре и зле. На протяжении всей второй части мы проследим, как менялись русские представления о политике, этике и «просвещении». Часть третья, самый большой раздел книги, представляет собой серию глав об этике и просвещении в конце XVIII века. В этом разделе мы проанализируем вклад Екатерины Великой в русскую мысль, границы просвещения в России, «умеренные» и «радикальные» направления в русской мысли конца XVIII века, а также происхождение просвещенного консерватизма в конце XVIII века. В заключении книги будут проиллюстрированы как преемственность, так и разрывы в российских представлениях о справедливости и идеальном обществе начиная с XVI века.
Стоит повторить, что цель книги состоит не в том, чтобы дать полный обзор русской мысли на протяжении трех столетий, а в том, чтобы выделить ее наиболее интересные черты и задокументировать ее необычные повороты и изгибы. Основное название книги – «Путь России к Просвещению» – не означает, что в России с 1500 по 1801 годы происходил целенаправленный процесс, в ходе которого религиозное мировоззрение русских было вытеснено «просвещенным» светским мировоззрением. В течение этого периода происходило нечто более сложное и гораздо более интересное. У православных христиан слово «просвещение» означало «духовное озарение» – просветленность души, воспитанной Церковью и направляемой к спасению. В конце XVIII века такие мыслители, как Екатерина Великая и Александр Радищев, использовали то же самое слово для обозначения «этически обоснованной рациональности», которую отстаивали Вольтер, Монтескьё, Адам Смит и другие. Однако иногда русские – например, митрополит Платон Левшин – утверждали, что они просвещены в обоих смыслах одновременно – явление весьма любопытное и занимательное.
Часть I
Мудрость и нечестие
1500–1689
Глава 2
Бог и политика в Московском государстве
Каждое исторически известное крупное общество обладало политической системой, с помощью которой оно управлялось. Система могла быть более или менее централизованной, более или менее формализованной, более или менее консенсусной. Но не в каждом обществе политика осмыслялась систематически, как особый набор действий и норм для ведения общественных дел. На европейском Западе со времен так называемого «макиавеллизма» государственные деятели и мыслители часто, хотя и не повсеместно и не последовательно, рассматривали политику как светское занятие, отдельное от религиозных установок и, следовательно, в значительной степени независимое от них. Более того, преобладала тенденция рассматривать политику как систему внутренних и международных взаимодействий, в которых проявляются воли суверенных государей или суверенных республик, не сдерживаемые моральными или этическими преградами. Таким образом, с точки зрения Макиавелли, Гоббса, Ламетри, Дидро, Гольбаха, Константа, Гегеля (в позднем прусском периоде), Маркса и его последователей, Милля, Ницше, Хайдеггера, национал-социалистов, большинства фашистов и современных политических «реалистов», критерии политического успеха имели мало (или ничего) общего с соображениями откровенно религиозного характера. Политика в их представлении была сферой власти, материализованной воли, конкретизированного интеллектуального творчества, контроля над природными ресурсами и над народами. Конечно, не все на Западе рассматривали политику подобным образом. Назовем лишь нескольких мыслителей: гуманисты эпохи Возрождения Пико делла Мирандола, Марсилио Фичино и Лоренцо Валла, французский скептик Монтень, Спиноза, Монтескьё, Вольтер, Руссо, Адам Смит, Уильям Уилберфорс, Шатобриан, Кант, Маколей, Гавел, Ролз и Чарльз Тейлор, каждый из которых по-своему предположил, что политика неизбежно имеет этическое измерение. Этический элемент при этом имеет свое основание либо в какой-то религиозной системе, либо в постулате о Боге, либо в предположении о человеческом альтруизме, чувствах или добродетели за пределами сферы материального. Для этиков политика – это область долга, уважения к человеческому достоинству, общего дела, подчиненного моральным императивам. Тем не менее характерно, что и западные политические реалисты, и политические этики рассматривали отношения между этикой и политикой более или менее систематически.
Живость западной политической мысли обусловлена многими факторами. Среди них мы должны помнить о влиянии ранних политических мыслителей: Платона и Аристотеля, которые сформировали политическую философию как метод упорядоченного исследования; римских стоиков, которые представляли взаимодействие между политикой и этикой как внутреннюю драму; Августина, который в полемике против Рима учил, что град Божий управляется по иным законам, нежели мирские империи; и схоластов, чей метод постановки вопросов придал этическому мышлению диалектический оттенок, превратив политическое исследование в бесконечный диалог. Но мы также должны учитывать, что образ современной западной политической мысли складывался под воздействием европейской государственной системы с ее политическими границами, поразительными различиями в способах управления и избирательной лояльностью граждан. Мыслитель, желающий критиковать политическую систему или культуру определенной страны, иногда мог это сделать, находясь в относительной безопасности в другом государстве. Так, Вольтер и Маркс написали свои лучшие книги о политике в эмиграции. Дидро, Вольтер и Гавел публиковали важнейшие работы за пределами стран проживания и могли благодаря своей высокой репутации в других странах надеяться, что им удастся избежать ареста за инакомыслие у себя дома. Барух Спиноза, понимавший, как важно не попадаться на глаза цензорам, опубликовал свой шедевр «Богословско-политический трактат» (1670) анонимно, на латыни, а не на родном голландском языке, с фальшивым именем издателя и фальшивым местом публикации (Гамбург, а не Амстердам или Роттердам).
Русские к политическим темам подходили с совершенно иных позиций. Начнем с того, что направленность их мышления в основном была задана византийским христианством, в котором государь воспринимается как член православной церкви, обязанный отстаивать справедливость, благотворить бедным, защищать церковь от врагов, внутренних и внешних. В московский период, как мы увидим, для русского человека было практически немыслимо размышлять о политике как о занятии, отдельном от религиозных соображений. Даже после «петровской революции» в начале XVIII века политика и религия были неразрывно связаны друг с другом. Можно сказать, что, как правило, русская политическая мысль до конца XVIII века была ответвлением прикладной христианской этики, либо находилась под ее сильным влиянием. Поэтому было бы принципиальной ошибкой рассматривать русскую политическую мысль до XIX века как исключительно светское явление.
В целом русская политическая мысль не была систематической в западном понимании. Часто говорилось, что русской философии и русскому богословию не хватает формальных качеств западного мышления, – абстрактности, умозрительной точности, строгого логического изложения. Это отчасти объясняется тем, что свои философские идеи большинство русских строили не на логических основах, заложенных Аристотелем, Платоном или римскими стоиками, а теологию – не на фундаменте Августина, схоластов или (до XIX века) гуманистов эпохи Возрождения. Также это происходило еще и потому, что русское правительство не оказывало последовательной поддержки гуманистическому образованию: первый русский университет появился лишь в XVIII веке. Кроме того, русское государство скорее стремилось к заимствованию западных технических и научных знаний, чем к внедрению в стране западной философии или теологии. Профессиональная философия пустила прочные корни в России лишь во второй половине XIX века, а расцвет академической философии начался не ранее чем в 1890-х годах. Помимо упомянутых факторов, препятствовавших систематическому развитию политической мысли, российское государство было самодержавным, – унитарным централизованным режимом, который, как известно, подозрительно относился к политическому инакомыслию. До 1905 года российская цензура была в целом более жесткой, чем в Европе. Кроме того, до середины XIX века русских за границей жило не так много, чтобы эмигрантские публикации себя оправдывали. Таким образом, по целому ряду причин развитие систематической политической философии в России было резко ограничено.
Тем не менее, несмотря на сложности, с которыми столкнулись русские, и, возможно, благодаря тому, что они смешивали политику и нравственность, между 1500 и 1801 годами в России были созданы богатые, интеллектуально насыщенные произведения в области политической мысли, опирающейся на веру. В этой главе мы исследуем первоначальную историю русской мысли о вере и политике. Сначала рассмотрим несколько (из многих!) древнерусских текстов, затрагивающих проблему праведного правления, а также переведенный на древнерусский язык византийский текст, который стал ориентиром в дискуссиях о политике XVI века. Затем мы проанализируем несколько литературных памятников XVI века, освещающих такие вопросы, как место России в мире, оправданность повиновения государственной власти и сопротивления ей, роль веры в политике, отношение Церкви к государству и возможность построения Царства Божьего на земле.



