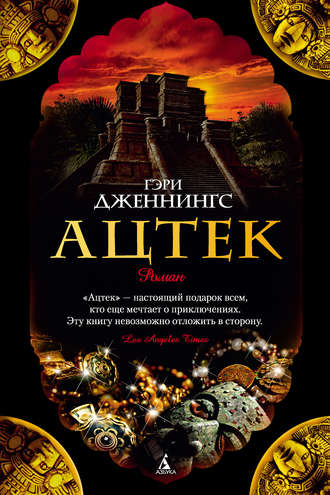
Гэри Дженнингс
Ацтек
Это давало Шалтокану возможность приобретать привозимые купцами товары и пригодные для обмена ценности, которые наш текутли распределял среди своих подданных согласно их положению и заслугам. Кроме того, он разрешал всем жителям острова, кроме, разумеется, рабов и прочих представителей низших каст, строить свои дома из добываемого ими известняка. Таким образом, Шалтокан отличался от большинства наших земель, где жилища в основном сооружались из дерева, высушенных на солнце глиняных кирпичей или тростника. В некоторых общинах много семей селилось под общей крышей одного большого жилища, а кое-где в горных краях люди обитали в пещерах. Только представьте, пол нашего дома, пусть в нем имелось всего три комнаты, был вымощен гладкой белой известняковой плиткой. Лишь немногие дворцы Сего Мира могли похвастаться тем, что на их строительство пошел материал лучшего качества. Однако, хотя жилища свои мы предпочитали строить из камня, остров наш в отличие от некоторых иных населенных долин вовсе не был лишен деревьев.
В то время нами правил Тлакухолтцин, владыка Красная Цапля. Когда-то его далекие предки были в числе первых поселенцев племени мешикатль на острове, а теперь этот человек стал первым среди местной знати. Это по обычаю, принятому в большинстве земель и племен нашей страны, обеспечивало ему пожизненное пребывание в должности нашего текутли, представителя Изрекающего Совета, возглавлявшегося Чтимым Глашатаем. Владыка Красная Цапля был полновластным правителем и распорядителем каменоломен, озера, острова и всех его обитателей, за исключением, пожалуй, жрецов, которые подчинялись одним только богам.
Далеко не каждой провинции повезло с вождем так, как нашему Шалтокану. Выходцу из знати подобало жить в соответствии со своим положением, то есть служить образцом благородства, однако на деле отнюдь не все люди высокого происхождения соответствовали этому требованию. Тем паче что пили, принадлежавший по рождению к высшей касте, уже не мог стать простолюдином, сколь бы низким и неблаговидным ни было его поведение, хотя равные ему пипилтин имели право сместить недостойного с занимаемой должности и даже, если находили его проступки непростительными, вынести ему смертный приговор. Добавлю также, что, хотя большинство сановников оказывались на высоких постах благодаря своему происхождению, путь наверх не был закрыт и для простонародья.
Я помню двоих жителей Шалтокана, которые возвысились из масехуалтин до пипилтин и получили соответствующее пожизненное содержание. Мицтль, немолодой отставной воин, удостоился имени Свирепого Кугуара за подвиги, совершенные в ходе какой-то давней войны против давно забытого врага. Это стоило ему таких шрамов, что на беднягу было страшно смотреть, но зато он обрел право добавить к своему имени столь желанное для многих «цин», после чего стал именоваться господин Мицтцин Кугуар. Другим человеком, удостоившимся причисления к знати, был Куали-Омеятль, Благой Источник, молодой зодчий с прекрасными манерами, под руководством которого были разбиты замечательные сады, украсившие дворец правителя. Правда, Омеятль был столь же красив, сколь Мицтцин безобразен, так что за время работы во дворце он завоевал сердце девушки по имени Росинка, оказавшейся дочерью правителя. Женившись на ней, зодчий тоже стал именоваться господином. Обращаю ваше внимание на то, что наш владыка Красная Цапля был человеком сердечным и великодушным, но самое главное, справедливым. Когда его дочери, уже упомянутой Росинке, наскучил ее низкорожденный муж и она вступила в связь со знатным юношей, владыка Красная Цапля повелел предать смерти обоих виновных в прелюбодеянии. Многие знатные люди упрашивали его пощадить девушку и ограничиться изгнанием ее с острова, эта просьба была поддержана даже обманутым супругом, но правитель остался непреклонен, хотя все знали, как он любил дочь и сколь нелегким стало для него такое решение.
– Нарушив ради собственного ребенка закон, исполнения которого требую от своих подданных, я лишился бы права называться справедливым правителем, – ответил он представителям знати, а господину Источнику сказал: – Люди будут думать, что ты простил ее не по доброй воле, не по велению сердца, а из желания угодить мне и из страха перед моим саном.
По приказу владыки Росинка была казнена публично, а присутствовать при этом было предписано всем женщинам и девушкам Шалтокана, прежде всего – уже вступившим в пору цветения, но еще не вышедшим замуж, ибо Красная Цапля сказал:
– Их кровь бурлит, и они, возможно, сочувствуют моей дочери или даже завидуют тому, что она нашла свою любовь. Пусть же зрелище ее смерти послужит для них уроком и покажет, к каким последствиям приводит распущенность.
Моя мать пошла посмотреть на казнь, взяв с собой Тцитцитлини, а по возвращении рассказала, что неверная жена и ее любовник были удушены веревками, замаскированными под цветочные гирлянды. Росинка держалась плохо: рыдала, вырывалась, молила о пощаде. Даже обманутый муж плакал, жалея свою беспутную супругу, а вот владыка Красная Цапля не выказал никаких чувств. Тцитци своими впечатлениями от этого зрелища делиться не стала, но зато рассказала, как встретилась у дворца с Пактли, младшим братом приговоренной и сыном Красной Цапли.
– Ты только представь себе, – с дрожью в голосе сказала сестренка, – он уставился на меня, долго смотрел, а потом ухмыльнулся. Оскалил зубы. И это в такой-то день! Не зря его назвали Весельчаком! У меня аж мурашки пошли по коже.
Думаю, из моего рассказа вы поняли, почему все жители острова так высоко ценили нашего беспристрастного, справедливого правителя. По правде говоря, мы все надеялись, что господин Красная Цапля доживет до самых преклонных лет, ибо перспектива оказаться под властью Пактли никого не вдохновляла. Имя юноши означало Весельчак. Но это был как раз тот случай, когда имя плохо подходит своему владельцу. Он был злобным, деспотичным мальчишкой уже задолго до того, как стал носить набедренную повязку. Разумеется, недостойный отпрыск столь почтенного отца не водился с незнатными ребятишками вроде меня, Тлатли или Чимальи, да и был он на год или два нас постарше. Но по мере того как моя сестра Тцитци расцветала, превращаясь в настоящую красавицу, а Пактли начал проявлять к ней повышенный интерес, мы с ней стали относиться к нему со все большей настороженностью. Впрочем, рассказ об этом еще впереди.
В ту пору наше сообщество процветало, наслаждаясь довольством и покоем. Боги даровали нам возможность не тратить все свои телесные и душевные силы на добычу средств к пропитанию, что позволяло простым людям мысленно тянуться к дальним горизонтам и вершинам, не предназначавшимся им по рождению. Среди нас, детей, тоже появлялись мечтатели – такими, например, были друзья моего детства Чимальи и Тлатли. Отцы у того и другого были скульпторами-камнерезами, и оба мальчика в отличие от меня собирались пойти по стопам родителей. Причем они мечтали превзойти в этом искусстве своих отцов.
– Я хочу стать самым лучшим скульптором, – сказал мне как-то Тлатли. Он скоблил осколок мягкого камня, который уже начинал напоминать сокола – птицу, в честь которой паренек и получил свое имя. – Ты же знаешь, – продолжил мой товарищ, – статуи и резные отделочные плиты увозят с острова неподписанными, так что их создатели остаются неизвестными. Наши отцы получают за свои труды не больше славы, чем какая-нибудь рабыня, которая плетет коврики из озерного тростника. А почему? Да потому, что наши статуи и узорчатые панно, как и циновки рабыни, ничем особенным не выделяются. Каждый Тлалок, например, выглядит точно так же, как и всякий бог дождя, изваянный на Шалтокане с тех пор, как отцы наших отцов занялись этим промыслом.
– Но, должно быть, – заметил я, – именно такими их хотят видеть жрецы Тлалока.
– Нинотланкукуи тламакацкуе, – пробурчал Тлатли, умевший оставаться внешне невозмутимым. – Насчет этих жрецов скажу так: разжевать и выплюнуть. Лично я делаю изваяния по-новому, не так, как изготовляли их до меня. Да что там до меня: даже две статуи одного и того же бога, сработанные мною, будут хоть чем-то, но различаться. А главное, все они будут узнаваемы как мои творения. Увидев их, люди воскликнут: «Аййо, вот изваяние работы Тлатли!» Мне не придется даже помечать их своим символом сокола.
– Ты, я вижу, хочешь создавать вещи, равные по мастерству Солнечному Камню, – предположил я.
– Еще лучше, – упрямо заявил мой товарищ. – А насчет Солнечного Камня скажу так: разжевать и выплюнуть.
Мне показалось, что это уже с его стороны дерзость, ибо пресловутый Солнечный Камень я видел собственными глазами.
Однако наш общий друг Чимальи устремлял свой взор еще дальше, чем Тлатли. Он намеревался усовершенствовать искусство живописи так, чтобы оно не ограничивалось раскраской скульптур или рельефов. Его мечтой было писать картины и фрески на стенах.
– О, я раскрашу Тлатли его статуи, если он захочет, – сказал Чимальи. – Но скульптура требует лишь плоских красок, поскольку ее форма и объемность сами по себе уже придают краскам свет и тень.
К тому же мне надоели вечно одни и те же, никогда не меняющиеся цвета, которыми пользуются старые мастера росписи. Смешивая различные красители, я пытаюсь получать новые, нужные мне оттенки, чтобы плоское изображение казалось объемным и глубоким. – При этих словах Чимальи оживленно жестикулировал, словно пытаясь создать изображения из воздуха. – Когда ты увидишь мои картины, тебе покажется, будто горы и деревья на них настоящие, хотя объема в них будет не больше, чем в самой панели.
– Но зачем это нужно? – спросил я. – Затем же, зачем и мерцающая красота и изящная форма колибри! – заявил он. – Послушай, представь себе, что ты жрец Тлалока. Так вот, вместо того чтобы затаскивать огромную статую бога в маленький храм и тем самым сужать и без того тесное помещение, жрецы Тлалока могут просто поручить мне нарисовать на стене изображение бога – каким я его себе представляю, – причем на фоне проливного дождя. Храм будет казаться гораздо больше, чем на самом деле: в этом-то и кроется преимущество тонких плоских картин над объемными, громоздкими скульптурами.
– Да, – сказал я Чимальи, – щит, как правило, достаточно тонкий и плоский. – Это была шутка: имя Чимальи означало «щит», а сам он был долговязым и худым.
Честолюбивые планы, а порой и безудержная похвальба приятелей вызывали у меня снисходительные усмешки, не лишенные, впрочем, оттенка зависти, ибо они в отличие от меня знали, кем хотят стать и чем будут заниматься в жизни. А вот я еще не определился, и ни один бог, как назло, не пожелал послать мне на сей счет знак или знамение. Наверняка я знал только две вещи. Во-первых: я не хочу работать каменотесом в шумном, пыльном да вдобавок еще и опасном карьере. И во-вторых: какой бы путь я ни выбрал, будущее мое не будет связано с Шалтоканом, жить в провинции мне не хотелось.
С соизволения богов я намеревался попытать счастья в месте, предъявлявшем к своим жителям самые высокие требования, но зато и открывавшем самые широкие возможности. В столице, в резиденции юй-тлатоани, где соперничество честолюбивых людей было безжалостным, но где истинно достойный мог снискать достойную его награду. Я хотел отправиться в великий, прекрасный, полный чудес и внушавший благоговейный трепет город Теночтитлан.

Так что если я пока и не знал, какому делу собираюсь посвятить свою жизнь, то по крайней мере насчет того, где мне бы хотелось ее провести, сомнений не было. Теночтитлан сразу покорил мое сердце, хотя я побывал там один-единственный раз. Поездку туда отец подарил мне на седьмой день рождения, в который я получил свое взрослое имя.
Перед этим событием мои родители вместе со мной отправились к жившему на нашем острове тональпокуи, знатоку тональматль, «книги имен». Развернув слоистые страницы огромной, занимавшей большую часть пола его комнаты книги, старый ведун долго, пожевывая губу, внимательно изучал каждое содержащееся в ней упоминание о расположении светил и деяниях богов, имевших отношение к дню Седьмого Цветка месяца Божественного Вознесения года Тринадцатого Кролика, а потом кивнул, бережно закрыл книгу, принял вознаграждение (рулон тонкой хлопковой ткани), побрызгал на меня своей освященной водой и заявил, что отныне, в память о грозе, сопутствовавшей моему появлению на свет, я буду носить имя Чикоме-Ксочитль-Тлилектик-Микстли, то есть Седьмой Цветок Темная Туча. Это если полностью, а уменьшительно меня будут звать Микстли.
Новое имя звучало мужественно и мне понравилось, а вот сам ритуал его избрания впечатления не произвел. Даже в семь лет я, Темная Туча, имел по некоторым вопросам собственное суждение. Я сказал вслух, что это мог сделать любой, причем быстрее и дешевле, за что на меня строго шикнули.
Ранним утром того памятного дня меня отвели во дворец, где нас, с соблюдением церемониала, милостиво принял сам владыка Красная Цапля. Он погладил меня по голове и с отеческим добродушием сказал:
– Еще один мужчина вырос к славе Шалтокана, а? Правитель собственноручно начертал символы моего имени (семь точек, трехлепестковый цветок и серый, как глина, гриб-дождевик, знак темного облака) в токайяматль, книге записей, куда заносились имена всех жителей острова. Моя страница должна была оставаться там до тех пор, пока я буду жить на Шалтокане, ее могли изъять лишь в случае моей смерти, изгнания за какое-либо преступление или переселения в другое место. Интересно: как давно удалена из этой книги страница Седьмого Цветка Темной Тучи?
Как правило, день получения имени праздновался шумно и многолюдно, как это было, например, у моей сестры. Тогда к нам с подарками явились все наши родственники и соседи. Мать подала на стол множество праздничных угощений. Мужчины курили трубки с пикфетлем, старики пили октли. Но я не возражал против того, чтобы пропустить все это, ибо отец сказал мне:
– Сегодня в Теночтитлан отплывает судно с украшениями для храмов, и на борту найдется местечко не только для меня, но и для тебя. К тому же прошел слух, что в столице должна состояться пышная церемония – в честь какого-то нового завоевания или чего-то в этом роде. Но этот праздник так ловко подгадал и к твоему дню получения имени, Микстли, что мы можем считать, будто его устроили в твою честь.
Вот так и вышло, что после того, как мать и сестра поздравили меня, поцеловав в щеку, я последовал за отцом к грузовому причалу.
На всех наших озерах постоянно царило оживленное движение: каноэ сновали во всех направлениях, словно стайки водомерок. Правда, по большей части то были маленькие, одно– или двухместные скорлупки птицеловов и рыбаков, выдолбленные из древесных стволов в форме бобового стручка. Но попадались и суда покрупнее, вплоть до военных каноэ, рассчитанных на шестьдесят человек, или наших грузовых акали, состоявших из восьми почти таких же больших челнов, борты которых скрепляли между собой. Наш груз, резные известняковые плиты, был аккуратно уложен на днища, причем каждый камень на всякий случай тщательно завернули в толстую циновку.
Понятно, что столь громоздкое судно, да еще с таким тяжелым грузом, двигалось очень медленно, хотя гребли на нем (сменяя на мелководье весла на шесты) двадцать человек, включая моего отца.
Плыть пришлось зигзагом: сначала по озеру Шалтокан на юг, к проливу, оттуда в озеро Тескоко и уже по нему – снова на юго-запад, к городу, так что общее расстояние, которое мы должны были преодолеть, равнялось примерно семи долгим прогонам (эта мера длины приблизительно равна вашей испанской лиге), а наша большая неуклюжая шаланда редко двигалась быстрее, чем человек, идущий пешком. Мы покинули остров задолго до полудня, но в Теночтитлане пришвартовались лишь поздней ночью.
Некоторое время я не видел вокруг ничего особенного: лишь озеро с красноватой водой, которое я так хорошо знал. Потом мы вошли в южный пролив, по обеим сторонам от нас сомкнулась земля, а когда она расступилась вновь, вода постепенно стала приобретать серовато-коричневый оттенок. Мы вошли в великое озеро Тескоко, простиравшееся на юг и восток так далеко, что берега его скрывались за горизонтом.
Мы плыли на юго-запад еще какое-то время, но когда солнце-Тонатиу стал окутывать себя светящейся пеленой ночного наряда, наши гребцы начали табанить, подавая неуклюжее судно к причалу у Великой Дамбы. Эта преграда представляла собой двойной частокол из вбитых вплотную друг к другу в дно озера древесных стволов, пространство между параллельными рядами которых было плотно засыпано землей и гравием. Плотина служила препятствием для волн, которые при сильном восточном ветре грозили низко лежащему на берегу городу-острову затоплением. В запруде через равные промежутки были проделаны ворота, и служители держали их открытыми почти в любую погоду. Однако число лодок и суденышек, направлявшихся в столицу, было столь велико, что нам пришлось занять место в очереди и ждать.
Тем временем Тонатиу уже набросил на свое ложе темное покрывало ночи, окрашенное в пурпурный цвет. Очертания высившихся на западе, прямо перед нами, гор неожиданно приобрели особую четкость, но лишились объемности, словно это были лишь силуэты, вырезанные из черной бумаги. Над их контурами проступало робкое свечение, а потом, заверяя нас в том, что наступившая ночь отнюдь не последняя и не вечная, ярко воссияла звезда Вечерней Зари.
– Теперь, о сын мой Микстли, открой пошире глаза! – воззвал ко мне отец.
Если звезда над горизонтом явилась как бы сигнальным огнем, то спустя несколько мгновений из тьмы под зубчатой линией гор стала выступать целая россыпь огней, которые на первый взгляд тоже могли показаться звездами.
Вот так впервые в жизни я увидел Теночтитлан.
Он предстал передо мной не городом каменных башен, резного дерева и ярких красок, но городом огней. По мере того как зажигались лампы, фонари, свечи и факелы – в оконных проемах на улицах, вдоль каналов, на террасах, карнизах и крышах, – отдельные точки света складывались в светящиеся линии, вырисовывая в темноте очертания города.
Сами здания с такого расстояния виделись темными пятнами с почти неразличимыми контурами, но светочи, аййо, сколько там было светочей! Желтые, белые, красные, гиацинтовые – самые разнообразные оттенки пламени! То здесь, то там виднелись огни – зеленые или голубые: это жрецы бросали в алтарные курильницы щепотки окрашивающих пламя солей. И каждая из этих светящихся бусинок, гроздьев и полос света сияла дважды, ибо каждый огонек отражался в озере.
Даже на каменных мостах, дуги которых соединяли остров с сушей, даже над их пролетами, на одинаковом расстоянии друг от друга были расставлены столбы с зажженными фонарями. С нашего акали я видел лишь две дамбы, протянувшиеся из города на север и на юг. Вместе они выглядели как изящная, унизанная драгоценными каменьями цепочка, удерживавшая на бархатной груди ночи великолепный, сверкающий кулон города.
– Теночтитлан, Им Кем-Анауак Йойотли, – пробормотал вполголоса мой отец. – Истинное Сердце Сего Мира.
Я был настолько заворожен открывшимся мне зрелищем, что даже не заметил, как он подошел и встал рядом со мной на носу судна.
– Смотри как следует, сын мой Микстли. Возможно, тебе еще не единожды доведется увидеть и это чудо, и много других чудес. Но первый раз, он не повторяется никогда.
Не моргая и не отрывая глаз от великолепия, к которому мы все слишком медленно приближались, я лежал на циновке и таращился вперед до тех пор, пока, стыдно сказать, мои веки не смежились сами собой и меня не сморил сон. У меня не осталось никаких воспоминаний ни о той суете и суматохе, которые наверняка сопровождали нашу высадку, ни о том, как отец отнес меня на ближайший постоялый двор для лодочников, где мы и заночевали.
Я проснулся в ничем не примечательной комнате на соломенном тюфяке, брошенном на пол. Рядом на таких же тюфяках похрапывали мой отец и несколько других мужчин. Сообразив, что мы находимся на постоялом дворе, который, в свою очередь, находится в столице, я опрометью бросился к окну, выглянул… и обнаружил, что каменная мостовая так далеко внизу, что голова моя пошла кру́гом. Впервые в жизни мне довелось оказаться в хижине, поставленной поверх другой хижины. Так, во всяком случае, я решил в тот момент, и уже потом, когда мы вышли наружу, отец показал мне наше окошко, находившееся на верхнем этаже.
Оторвав взгляд от мостовой, я устремил его за пределы причалов, обозревая город. В лучах утреннего солнца он весь сиял, пульсировал, светился удивительной белизной. В сердце моем пробудилась гордость за свой родной остров, ибо даже те здания, которые не были сложены из белого известняка, покрывала белая штукатурка, а я хорошо знал, что бо́льшая часть этих материалов добывается у нас на Шалтокане. Конечно, здания здесь были украшены и росписями, и многоцветными мозаичными бордюрами, и панелями, однако преобладающим цветом оставался белый. А первым моим впечатлением стала сверкающая, почти серебряная белизна, от которой у меня чуть не заболели глаза.
Теперь все ночные огни были потушены, и лишь над алтарными курильницами к небу кое-где поднимались струйки дыма. Но взамен огней моему взору открылось новое чудо: над каждой крышей, каждым храмом, каждым дворцом, каждой высокой точкой в городе поднимался флагшток, а на каждом флагштоке реяло знамя. Они не были квадратными или треугольными, как боевые стяги, длина этих знамен во много раз превышала их ширину. На белом фоне красовались цветные символы, в том числе знаки самого города, Чтимого Глашатая и некоторых известных мне богов. Остальные были мне незнакомы: я предположил, что это знаки столичной знати и местных богов.
Флаги белых людей – это всего лишь полосы ткани, и хотя порой на них со впечатляющим искусством изображены сложные геральдические фигуры, они так и остаются лоскутами, то вяло обвисающими на своих флагштоках, то трепещущими и капризно полощущимися, как белье, развешанное женщинами на кактусах для просушки. Эти же невероятно длинные знамена Теночтитлана были сотканы из перьев, тончайших перьев, из которых удалили стержни. Флаги не раскрашивали и не пропитывали красками, ибо белый фон создавали белые перья цапли, тогда как на цветные изображения шли перья других птиц. Красные – ара, кардиналов и длиннохвостых попугаев, голубые – соек и некоторых журавлей, желтые – туканов и танагр. Аййо, там были представлены все цвета радуги, все оттенки и переливы, доступные лишь живой природе, а не человеку, пытающемуся подражать ей, смешивая краски в горшочках.
Но чудеснее всего то, что наши знамена не обвисают, не полощутся – они парят! То утро выдалось безветренным, но одно лишь движение людей на улицах и судов на каналах создавало воздушные потоки, достаточные для поддержания этих огромных, но почти невесомых флагов. Подобно огромным птицам, не желающим улетать, довольствуясь сонным дрейфом, эти знамена, тысячи сотканных из перьев знамен, парили над землей и, словно под воздействием магической силы, мягко, беззвучно совершали волнообразные движения на всех башнях и шпилях волшебного города-острова. Рискнув высунуться из окна, я далеко на юго-востоке разглядел два вулканических конуса, называвшихся Попокатепетль и Истаксиуатль, что означает гора, Курящаяся Благовониями, и Белая Женщина. Хотя уже начался сухой сезон и дни стояли теплые, обе горы венчали белые шапки (впервые в жизни я увидел снег), а ладан, тлевший глубоко внутри Попокатепетля, воспарял вверх струйкой голубоватого дыма. Ветерок сносил эту струйку в сторону, и она тянулась над пиком, как знамена из перьев над Теночтитланом. Отпрянув от окна, я бросился будить отца. Он, надо думать, устал и хотел поспать, но прекрасно понимал, что ребенку не терпится выбраться наружу, а потому и не думал меня бранить.
Поскольку за разгрузку баржи и доставку груза по назначению отвечал тот, кому этот груз был предназначен, мы с отцом получили в свое распоряжение целый день. Правда, мать дала ему поручение, велев сделать какую-то покупку. Что именно следовало купить, я уже забыл, помню только, что первым делом мы направились на север, в Тлателолько.
Как вы знаете, почтенные братья, эта часть острова, которую вы теперь называете Сантьяго, отделена сейчас от южной части лишь широким каналом, через который перекинуто несколько мостов. Однако в прошлом Тлателолько являлся независимым городом с собственным правителем и дерзко соперничал с Теночтитланом, стараясь превзойти его великолепием. Долгие годы наши Чтимые Глашатаи относились к этому снисходительно, но когда бывший правитель города Мокуиуи имел наглость построить храмовую пирамиду выше, чем любая в четырех кварталах Теночтитлана, юй-тлатоани Ашаякатль с полным на то основанием возмутился. А возмутившись, приказал своим магам воздействовать на безмерно возгордившегося соседа.
Не знаю, правда ли это, но говорят, что вырезанное на стене тронного зала каменное лицо Мокуиуи неожиданно заговорило с живым правителем, причем высказалось относительно его мужского достоинства столь оскорбительно, что Мокуиуи схватил боевую дубинку и обрушил ее на рельеф. Но потом, ночью, когда он отправился в постель со своей Первой Госпожой, с ним завели беседу на ту же самую тему срамные губы его супруги. Эти удивительные события страшно напугали Мокуиуи, не говоря уж о том, что действительно лишили его мужской силы, так что правитель перестал уединяться даже с наложницами. Однако он по-прежнему ни в какую не желал уступить и признать свою зависимость от Чтимого Глашатая. Кончилось тем, что незадолго до того, как отец меня повез в столицу, Ашаякатль занял Тлателолько силой, применив оружие.
Он собственноручно сбросил Мокуиуи с вершины его непристойно высокой пирамиды и вышиб тому мозги. Таким образом, ко времени нашего с отцом прибытия, случившегося всего-то через несколько месяцев после этого события, Тлателолько, оставаясь по-прежнему чудесным городом храмов, дворцов и пирамид, вошел в состав Теночтитлана и стал его пятым, торговым кварталом.
Тамошний гигантский открытый рынок показался мне по размеру таким же большим, как весь наш остров Шалтокан, но только более богатым и многолюдным и несравненно более шумным. Пешеходные проходы разделяли рынок на участки, где торговцы выкладывали свои товары на лавки или подстилки. Каждый участок предназначался для торговли определенным видом товаров. Там имелись ряды для продавцов золотых и серебряных украшений, перьев и изделий из них, овощей и приправ, мяса и рыбы, тканей и кожевенных изделий, рабов и собак, посуды глиняной и металлической, медных изделий, лечебных снадобий и снадобий, дарующих красоту, веревок, канатов, пряжи, певчих птиц, обезьян и различных домашних животных. Впрочем, этот рынок был восстановлен, и вы наверняка его видели. Хотя мы с отцом заявились туда рано утром, торг уже шел вовсю. Большинство покупателей были масехуалтин, как и мы, но встречались и представители знати, властно указывавшие на интересовавшие их товары, предоставляя торговаться сопровождавшим их слугам.
К счастью, мы пришли достаточно рано, чтобы застать на месте торговца, чей товар был настолько скоропортящимся, что к середине утра его уже не оставалось. Среди всей предлагавшейся покупателям снеди это лакомство считалось самым изысканным деликатесом, ибо то был снег, снег с вершины горы Истаксиуатль. Доставленный быстроногими гонцами с расстояния в десять долгих прогонов, он сохранялся в толстостенных глиняных горшках, под кипами циновок. Одна порция снега стоила два десятка бобов какао, что составляло среднюю поденную плату работника во всем Мешико. За четыреста бобов можно было купить здорового, крепкого раба, так что если мерить по весу, снег оказывался дороже даже лучших изделий из золота и серебра. Позволить себе столь редкостное освежающее лакомство могли лишь немногие богатые люди, однако торговец заверил нас в том, что его товар всегда распродается, прежде чем снег успевает растаять.
– А вот я, – проворчал отец, – хорошо помню, как в Суровые Времена, в год Первого Кролика, снег падал с неба аж шесть дней кряду. Его можно было брать даром, сколько угодно, но люди считали это бедствием.
Однако продавец на эти его слова никак не отреагировал, да и сам отец тут же смягчился и сказал:
– Ну что ж, раз сегодня у мальчика седьмой день рождения… Сняв наплечную суму, он отсчитал двадцать бобов какао и вручил их торговцу. Тот осмотрел их, удостоверился, что ни один из бобов не выдолблен изнутри и не наполнен для веса землей, а потом открыл свой кувшин, зачерпнул оттуда столовую ложку драгоценного лакомства, вложил его в сделанный из свернутого листа кулек, полил сверху сладким сиропом и вручил мне.
Я нетерпеливо впился в угощение зубами и от неожиданности чуть не выронил его. Лакомство оказалось таким холодным, что у меня заломило нижние зубы и лоб, но за всю свою жизнь мне не доводилось пробовать ничего более вкусного. Я протянул кусок отцу, предлагая попробовать. Он лизнул его разок языком, явно посмаковал и насладился не меньше меня, но сделал вид, что больше не хочет.
– Не кусай его, Микстли, – сказал он. – Лучше лижи: и зубы не заболят, и на дольше хватит.
Затем он купил то, что велела мать, и отослал носильщика с покупкой к нашей лодке, после чего мы с ним снова пошли на юг, к центру города. Многие из самых обычных домов Теночтитлана имели по два, а то и по три этажа, но некоторые были еще выше, ибо почти все здания там, дабы уберечься от сырости, были построены на сваях. Дело в том, что остров нигде не поднимался над уровнем озера Тескоко выше чем на два человеческих роста. В те времена Теночтитлан во всех направлениях пересекали каналы, которых было почти столько же, сколько и улиц, так что сплошь и рядом люди, идущие по мостовой, запросто могли разговаривать с плывущими по воде. На одних перекрестках мы видели сновавшие туда-сюда толпы пешеходов, на других – проплывавшие мимо каноэ. На некоторых из них шустрые лодчонки перевозили людей по городу быстрее, чем те могли передвигаться пешком.
Попадались и личные акалтин знатных людей: вместительные, ярко разрисованные и великолепно украшенные, с балдахинами, защищавшими от солнца. Улицы имели гладкое, прочное глиняное покрытие, берега каналов были выложены кирпичом. Во многих местах, где вода в канале стояла почти вровень с мостовой, переброшенные через протоку мостки можно было откинуть в сторону, чтобы дать пройти лодке.


