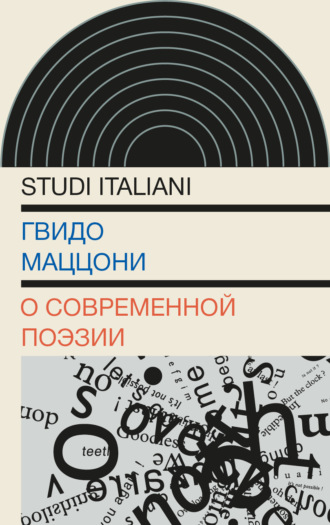
Гвидо Маццони
О современной поэзии
2. Лирика и поэзия в античной поэтике
В трудах, заложивших фундамент античной поэтики, – «Государстве» Платона и «Поэтике» Аристотеля – речь идет о трех теоретических жанрах, однако критерий их выделения совершенно другой, чем у романтиков. Согласно Платону, то, что излагают поэты и мифотворцы, – это рассказ; при этом рассказ может представлять собой простое повествование, подражание или смешанную форму: в простом повествовании поэт говорит от первого лица, при подражании он воссоздает выказывания персонажей, в смешанном – перемежает собственный рассказ чужими словами46. Если трагедия и комедия являются подражательными, потому что персонажи в них говорят сами, без посредника в лице повествователя, то эпопея – смешанный жанр, поскольку слова повествователя чередуются со словами персонажей. Лишь дифирамб представляет собой рассказ в чистом виде:
Один род поэзии и мифотворчества весь целиком складывается из подражания – это, как ты говоришь, трагедия и комедия; другой род состоит из высказываний самого поэта – это ты найдешь преимущественно в дифирамбах; а в эпической поэзии и во многих других видах – оба этих приема47.
В «Поэтике» Аристотеля размышления о жанрах становятся сложнее, в них появляются переменные, которые Платон не принимал во внимание. Поскольку поэтическое искусство – это мимесис, то есть подражание, Аристотель полагает, что для классификации произведений нужны три критерия: средства подражания, предметы подражания, а также способы подражания48. Первый позволяет провести различие между искусством поэзии, с одной стороны, и музыкой с живописью – с другой, а также отличить подражание в стихах от подражания в прозе; второй упорядочивает произведения по тематике, поскольку подражатели могут представлять тех, кто лучше нас, тех, кто равен нам, и тех, кто хуже нас; третий позволяет отличать драматические произведения от повествовательных и смешанных, поскольку поэт способен подражать, высказываясь напрямую, поручая высказываться персонажам или чередуя то и другое49. По сути, Аристотель заимствует категории у Платона. Он разделяет пространство литературного мимесиса на два крупных теоретических жанра, а между ними оставляет третью возможность, рожденную пересечением этих двух чистых форм. Оба классифицируют поэтические произведения, обращая внимание на формальные различия и исходя из простейшего вопроса, на который можно дать только объективный ответ: кто говорит в тексте? Возможностей три: говорит только рассказчик, говорят только персонажи, говорят и рассказчик, и персонажи. Решающее различие скрыто в степени подражания, на которое способны жанры: наибольшая – в драматической поэзии, где персонажи высказываются и действуют без посредников; наименьшая – в чистых диегетических формах, которые представляют действительность при помощи посредника-рассказчика; средняя в смешанной форме, где два названные выше способа чередуются. Поскольку общественная жизнь, состоящая из действий и высказываний, соприродна театру, сценическое искусство может достигать чистой иллюзии реальности, в то время как диегезис вынуждает выражать высказывания и поступки персонажей, прибегая к посреднику, то есть передавая слово рассказчику.
Эта схема, занимавшая преимущественное положение в античной поэтике50 и в литературной культуре латинского Средневековья51, не позволяла оценить категорию лирики так, как мы представляем ее после романтизма: если принять за единственный критерий различения способ высказывания, эпика и лирика оказываются неразличимы. Это подтверждают разнообразные примеры, использовавшиеся для того, чтобы проиллюстрировать понятия диегетической и нарративной поэзии: Платон относит к чистому повествованию отрывок из «Илиады» и дифирамб52; Диомед, переработавший платоновские понятия спустя семь веков, называет «О природе вещей» Лукреция примером идеального диегезиса, а стихотворения Архилоха и Горация – примерами смешанного жанра53. Так что это более чем оправданные колебания, ведь если взглянуть на структуру высказывания, если ограничиться вопросом «кто говорит?», лирика и художественная проза в нашем сегодняшнем понимании неизбежно будут путаться – и в дифирамбах, и в «О природе вещей» всегда звучит только один голос.
Тем не менее современное литературное сознание ощущает глубокий разрыв, который очень трудно описать. Вне всякого сомнения, речь идет о различии в содержании, хотя и менее очевидном, чем может показаться на первый взгляд. Ясно, что Вергилий рассказывает не автобиографическую историю, в то время как Гораций обращается к Меценату, чтобы поведать о себе, однако не менее ясно, что есть много примеров автобиографической поэзии, тяготеющей к повествованию. Вероятно, различие связано не только с выбором тематики, сколько с целью высказывания: можно сказать, что звучащий в «Энеиде» голос хочет пробудить интерес к событию внешнему по отношению к «я», в то время как голос, звучащий в «Одах», хочет привлечь внимание к личному опыту, то есть, как утверждал Гегель, художественная проза – это «само объективное в его объективности», в то время как лирика выражает «внутренний мир, размышляющую и чувствующую душу»54. Однако в подобном рассуждении присутствует асимметрия. Если различие между эпикой и драмой бесспорно и укоренено в структуре высказывания, то про различие между эпикой и лирикой этого сказать нельзя. Современная романтическая система жанров накладывает друг на друга две различные переменные: граница между драматическим и недраматическим текстами проводится на основании формальных критериев, присутствующих в структуре высказывания и подразумевающихся в ответе на вопрос «кто говорит?», однако граница между лирикой и художественной прозой устанавливается согласно другому критерию, в большей степени на основании содержания, чем формы. Чтобы счесть его важным, нужно понимать, что в некоторых стихотворениях главное не рассказанная история как таковая и не описанный предмет как предмет, представляющий интерес, а соотношение между содержанием произведения и внутренней жизнью литературной личности, которая в тексте говорит «я» и которая вне текста совпадает с подлинной личностью автора, с именем, указанным на обложке книги стихов. Следовательно, лирика – это жанр, в котором изложение фрагментов автобиографии (маленькие или большие факты внешней жизни, а также страсти, мысли, неожиданные размышления) сочетается со стилем, созданным, чтобы привлечь внимание к «я» писателя, который выражает в тексте себя самого: это жанр, в котором первое лицо рассказывает о себе в личной форме, так, что «не само происшествие составляет средоточие, но душевное состояние, в нем отражающееся»55. В современной эстетике и в нашем читательском опыте «автобиография», «самовыражение», «субъективность» – общеизвестные понятия; однако в такой поэтике, как античная, держащейся за представление, что поэзия – это мимесис действительности, осуществляемый согласно определенному ритуалу, а не свободное творение «я», высказывание того, кто рассказывает об объективном в его объективности, и высказывание того, кто, рассказывая о внешнем мире, на самом деле пытается подарить голос собственному внутреннему миру, практически неразличимы. Не случайно в греческой и латинской культурах не было современного, синтетического, широкого понятия лирической поэзии.
3. Александрийские, латинские и средневековые категории
Слово lyrikoi появляется в Александрийскую эпоху, между III и II веками до н. э., и обозначает девятерых поэтов, составивших канон архаичной лирики: Алкман, Сапфо, Алкей, Стесихор, Ивик, Анакреонт, Симонид, Пиндар и Вакхилид. Изначально это слово обозначало авторов произведений, которые относятся к melike poiesis (мелической поэзии), затем, c появлением названного канона, оно постепенно вытеснило более древнее название melopoios; с I века до н. э. произведения lyrikoi стали называть lyrike poiesis, «поэзия, которую поют под звуки лиры»56. В то время как архаические поэты не придумали названия для своего жанра, в диалогах Платона часто упоминаются melopoioi и класс текстов, которые называются melon poiesis, чаще – melos и mele57. В отрывке из «Законов» приведен перечень лирических поджанров: гимны, пеаны, френы, дифирамбы, номы58. Из этих терминов понятно, что общий критерий принадлежности к мелосу – связь с музыкой, пением и танцем. Из дошедших до нас свидетельств ясно, что деление на поджанры проходило совсем не так, как в современной эстетике, а с опорой на критерии публичности, социального предназначения и объективности: цель высказывания, божество, которому посвящен текст, метрика, хореография, диалект, тип музыки59.
Первыми теоретическое обоснование античных категорий предложили александрийские грамматики и филологи, которые установили каноны, определили образцы и сгладили различия. Заметные следы этой огромной систематизаторской работы можно увидеть в отрывке из «Библиотеки» Фотия, где изложены таксономии, содержащиеся в «Хрестоматии» Прокла – вероятно, грамматике II века н. э. В свою очередь, Прокл опирался на более старую теорию, восходящую к трактату Дидима «Peri lyrikon poieton» [«О лирических поэтах». – Прим. пер.]60. Воспроизводя теоретические классификации Платона и Аристотеля, «Хрестоматия» подразделяет поэзию на диегетику (diegematikon) и миметику (mimetikon), к которой относятся театральные жанры (трагедия, сатировская драма и комедия), к диегетике же относятся эпос, ямб, элегия и мелическая поэзия. Внутри мелики можно выделить четыре семейства поджанров, которые определяются тематикой: сочинения, посвященные богам, сочинения, посвященные людям, смешанные стихотворения и стихотворения на случай. При этом единство категории обеспечивает отнюдь не субъективность автора. К этому прибавляется то, что для Прокла мелическая, ямбическая и элегическая поэзия – это три разных жанра, что совпадает с разделением, установленным в эллинистических канонах.
Благодаря александрийским филологам латинская, средневековая и ренессансная культуры унаследовали жесткое разделение поэзии на поджанры, при этом сама поэзия с эпохи романтизма стала восприниматься как единая, крупная, синтетическая категория. Со временем к александрийским таксономиям прибавятся и другие, впрочем, они не изменят систему как таковую – она сохранится до второй половины XVIII века. Сегодня мы не замечаем существенных различий между письмом в стихах, как «Новости с Амиаты», и другими стихотворениями Монтале, написанными в тот же период, или между «Отрывком из письма к молодому Кодиньоле» и другими субъективными стихотворениями Пазолини; в лучшем случае мы воспринимаем еле заметную перемену тона – недостаточную, чтобы разрушить единство жанра. Зато античная поэзия не признавала никакого высшего принципа, связывавшего между собой тексты, в которых «я» делится чем-то личным: послание в стихах и лирическое стихотворение в узком смысле – два разных произведения. Хотя сегодня можно интерпретировать античные тексты в свете современного понимания лирики и находить в мелических, элегических и ямбических стихотворениях признаки самовыражения61, греческая и латинская культуры не допускали мысли, что литературный жанр может существовать потому, что во всех относящихся к нему текстах «субъект выражает себя»62.
Латинская литература I века до н. э. существенно обновила формы короткой поэзии, унаследованные от греческой культуры, однако поэтика при этом сохранила верность эллинистическому разделению63. В конце I века н. э. в таком репрезентативном и каноническом произведении, как «Наставление оратору», архитектура литературных форм, по сути, не отличается от александрийской. Знакомя оратора с литературными жанрами, Квинтилиан называет эпику, элегию, ямбическую поэзию, лирику, сатиру, античную комедию, новую комедию, трагедию, историографию, ораторское искусство и философию, описывая их как отдельные формы, каждое со своими правилами и образцами64. В отрывке из «Диалога об ораторах» Тацит в нескольких словах объясняет, как в его время понимали категории коротких поэтических сочинений:
Ведь я считаю все разновидности красноречия священными и заслуживающими величайшего уважения и нахожу, что не только возвышенности вашей трагедии и звучности героических поэм, но и очарованию лириков, и игривости элегий, и горечи ямбов, и остроумию эпиграмм, и любому другому виду поэзии, на какие только распадается красноречие, должно быть отдано предпочтение перед занятиями всеми другими искусствами65.
Всякая форма ассоциируется с определенным отношением к жизни: то, что однажды все эти поджанры войдут в один расширенный жанр, в I веке н. э. невозможно было представить.
Единая категория лирики отсутствует как в системах, зародившихся в лоне филологии, так и в системах, родившихся в лоне философии. При этом филологические и философские категории прекрасно совмещаются, как доказал Прокл, когда, выстраивая архитектуру «Хрестоматии», он организовал мириады мелких эллинистических жанров в крупные платоновские и аристотелевские созвездия. Этому переплетению разных, но совместимых друг с другом критериев была суждена долгая жизнь. Мы находим его в одном из текстов, сыгравших решающую роль в передаче платоновской и аристотелевской таксономии средневековой культуре, – в «Искусстве грамматики» Диомеда, относящемся, вероятно, ко второй половине IV века. Согласно Диомеду, главных жанров три: genus activum или imitativum («активный или подражательный») (также называемый dramaticon или mimeticon) («драматический или миметический»), в котором поэт дает слово dramatis personae («персонажам драмы»); genus enarrativum или enuntiativum (exegeticon или apangelticon) («повествовательный или излагающий», экзегетический или апангельтический), где высказывается только поэт; genus commune или mixtum (koinon или mikton) («общий или смешанный»66), где высказываются и поэт, и его персонажи. К genus imitativum относятся трагедии, комедии, а также первая и девятая эклоги Вергилия; к enarrativum – первая и третья книги «Георгик», начало четвертой и «О природе вещей»; commune имеет две разновидности – heroica species (героическую), куда входят «Илиада» и «Одиссея», и lyrica species (лирическую), куда входят произведения Архилоха и Горация67. Следовательно, Диомед, как и Прокл, накладывает теоретические схемы Платона и Аристотеля на восходящие к александрийцам филологические матрицы, при этом Диомед тоже не находит слов, чтобы вообразить нечто приближающееся к современному представлению о лирической поэзии.
Понятия классической поэтики распространились в средневековой культуре, пусть даже фрагментарно и хаотично. «Античная система поэтических жанров, – пишет Курциус, комментируя трактат «О народном красноречии» и «Письмо к Кангранде делла Скале» Данте, – за тысячелетие уже распалась до чего-то неузнаваемого и невнятного»68; действительно, средневековая поэтика и риторика используют классические категории, создавая путаницу, прибегая к меняющемуся литературному словарю69. Если платоновская и аристотелевская таксономия благодаря Диомеду сумела пережить Средневековье и если различие между повествовательной, драматической и смешанной формами можно найти и у Беды Достопочтенного, и у Иоанна де Гарландия70, категории, при помощи которых обычно классифицировали стихотворения, которые мы сегодня относим к лирике, использовали самые разные критерии – связанные с метрикой (баллата, сонет, канцона) или тематикой (альба, пастораль, дружеские песни, песни о Крестовых походах), лишь a posteriori для них оказалось возможным создать рациональную типологию71. Критерий классификаций остается тем же, что и в античных таксономиях, поскольку средневековая поэтика и риторика продолжают делить сочинения в стихах с учетом их публичности и объективности (тема, внешняя форма, цель высказывания). Как и в латинской культуре I века до н. э., обновлению форм лирики, имевшему место в средневековых романских литературах на вольгаре, не соответствовало обновление теории.
Разрушение структуры, о котором говорит Курциус, продлится по крайней мере еще два столетия после Данте: если взглянуть на историю понятий, риторика и поэтика позднего Средневековья и начала Возрождения мало что добавили к идеям, которые европейская литература унаследовала от античной культуры72. Понятие лирики остается связано с Горацием – поэтом, которого Петрарка в одном письме из «Familiares» называет королем этого жанра73, слава которого еще больше возросла в конце XV – начале XVI века благодаря editio princeps 1470 года и флорентинскому изданию 1482 года под редакцией Ландино и Полициано74. Возрождения новаторских, философских споров придется ждать до второй половины XVI века, когда комментарии Робортелло к «Поэтике» Аристотеля (1548) откроют новый этап в истории литературной теории и в спорах о поэтической форме.
4. Переворот в эпоху Возрождения
Единая категория лирики и современная система жанров утверждаются в Италии около середины XVI века. Окончательно их вводит Минтурно, который в трактатах «О поэте» (1559) и «Поэтическое искусство» (1564) первым предложил различать эпику, сценическую поэзию и мелику (или лирику), а менее крупные формы рассматривать как варианты внутри трех основных классов. Мысль о том, что поэтические сочинения на субъективные темы составляют крупный синтетический жанр, возникла за несколько десятилетий до Минтурно75, она зародилась в первой половине XVI века и распространилась преимущественно во второй половине столетия. Эту мысль можно встретить в «Поэтике Горация» (1561) Пиньи, в «Лекциях о поэзии» Аньоло Сеньи (1573), в «Речах» Джулио дель Бене (1574), в письме Филиппо Сассетти к Джованни Баттисте Строцци (1574) и в труде Джованни Антонио Виперано «О поэтике» (1579)76. В 1594 году Помпонио Торелли, ученик Робортелло, посвятил отдельный трактат новому классу текстов, который он понимал как обширное и разнообразное множество, где оды Пиндара и Горация соседствуют с «Сочинениями» Катулла, с ямбической поэзией и с «Канцоньере» Петрарки77. В 1599 году, спустя сорок лет после появления «О поэте» Минтурно, Алессандро Гварини кратко описывает систему жанров, созданную итальянскими теоретиками во второй половине XVI века:
Существуют три (оставим пока что в стороне прочие, более тонкие различия, которые не очень для нас полезны), итак, существуют три основных вида поэзии, к которым сводятся все остальные. Первая – эпическая, вторая – драматическая, подразделяющаяся в свою очередь на трагическую и комическую, и, наконец, третья – лирическая, к которой древние греки и латиняне относили гимны, энкомии, элегии, оды, дистихи, эпиграммы78.
Новая категория вышла далеко за границы произведений, которые открыто к ней отсылают, – это доказывают тексты, которые, упоминая о лирике лишь во вторую очередь, по ходу размышлений на другие темы, относятся к ее существованию как к чему-то само собой разумеющемуся. Так происходит в «Рассуждениях о поэтическом искусстве» Тассо, созданных в начале 60‐х годов, или в одном из важнейших трактатов o литературе эпохи Возрождения – в «„Поэтике“ Аристотеля, изложенной на народном языке и истолкованной» Кастельветро (1570). Тассо сравнивает стиль лирического поэта со стилем автора героической и трагической поэзии79, в неявном виде принимая трехчастное деление, которому Минтурно пытался дать теоретическое обоснование; Кастельветро сначала возводит к Аристотелю сложную классификацию, в которой лирике как синтетическому жанру не находится места, однако затем признает: «Вообще мы подразделяем все стихотворные произведения на четыре части: под первой мы имеем в виду комедию, под второй – эпопею, под третьей – трагедию, под четвертой – оды, эпиграммы, элегии, канцоны и подобные короткие стихотворения»80.
В поэтиках второй половины XVI века новый класс определяется в соответствии с принципами античных теоретиков, бесспорных авторитетов во всех дискуссиях эпохи Возрождения. Похожее на современное деление на три категории, которые предложил Минтурно, в действительности восходит к каноническому аристотелевскому критерию – анализу средств, которыми пользуется поэт для подражания реальности: эпике достаточно слов, сценическая поэзия пользуется театральным представлением, лирика – словами, которые сопровождаются танцем и пением81. Используя эту схему, нетрудно установить органические отношения между античным мелосом и современными сонетами, баллатами, канцонами и мадригалами82. Но обоснование жанра через связь с музыкой, позволявшее опираться на авторитет древних авторов, оставляло в стороне представление о лирике, свойственное обыкновенному литератору в середине XVI века, когда большинство стихотворений предназначалось для чтения про себя – так же, как и большинство канонических произведений, начиная с «Канцоньере» Петрарки, на которые опирались при определении сути этого класса текстов. Для многих лирические стихотворения объединяла не изначальная связь с пением, а способность пробуждать «переживания души», на которой подробно останавливается Минтурно83. Проблема состояла в том, что античные поэтики не давали опоры для развития подобного подхода: еще Кастельветро осознал, что аристотелевские категории, возникшие для объяснения жанров, предназначенных для публичного чтения, «не рассматривают частные, короткие стихотворения, о которых следовало бы написать другой трактат»84.
Классическая поэтика, сталкиваясь с теорией лирики как выражением чувств, указывала на три рода трудностей, которые я изложу в порядке от частного к общему. Прежде всего, в «Поэтике» есть отрывок, где говорящему от первого лица отказано в звании подражателя: «А нужно поэту как можно меньше говорить самому, ибо не в этом состоит его подражательство», в то время как основанное на подражании произведение должно давать слово персонажам и описывать их действия85. Кроме того, античная литературная система подчеркивала специфические различия между короткими поэтическими произведениями, затрудняя описание лирики как единого жанра. Наконец, в античных поэтиках утверждалось, что тема вербального мимесиса – прежде всего видимые глазу поступки, действия, разворачивающиеся в публичном пространстве, а не скрываемые мысли и страсти. В посвященной трагедии шестой главе «Поэтики» об этом сказано ясно: первейшая задача поэзии – представление того, что делают и говорят люди во внешнем мире; предмет подлинного мимесиса – действия, а не характеры; цель поэта – создать mythos, сюжет, а не изложить ethos – то, что сегодня называется внутренней жизнью. Строго нормативные рассуждения эстетики XVI века отсылают к правилам, которые выводили из канонических античных сочинений по поэтике и которые интерпретировали как цельную систему, закрывая глаза на отдельные противоречия, которые сегодня невозможно не замечать. Внутри этого замкнутого горизонта не отвечающий правилам текст рассматривался как несовершенный, а жанр, не опирающийся на прецеденты и не получающий из‐за этого законного обоснования, отправляли в подгруппу под названием «малые поэтические произведения». По всем этим причинам невозможно было оправдать существование формы, специализирующейся на представлении чувств, опираясь лишь на унаследованные от классической культуры идеи: самое большее, что можно было сделать, – это отстоять достоинство канцоны на вольгаре, рассматривая ее как продолжение оды, куда сложнее было отстоять благородство сонета или заявить, что лирика – крупный синтетический жанр.
Итальянские теоретики второй половины XVI века ввели новую систему жанров, чтобы заполнить пустоту, с которой они не могли мириться, как красноречиво свидетельствуют «Лекции о поэзии» Аньоло Сеньи. Это произведение было написано по инициативе Флорентинской академии, которая нередко обращалась к знаменитым литераторам с просьбой прочесть курс лекций, разбирая стихотворения Петрарки. Отталкиваясь от канцоны «In quella parte dove Amor mi sprona» («Rerum vulgarium fragmenta» [оригинальное название «Канцоньере» Петрарки. – Прим. пер.], CXXVII), Сеньи размышляет о природе поэзии, опираясь на принципы Аристотеля, но еще больше – на Платона. С самого начала Сеньи сталкивается с серьезными теоретическими трудностями: он осознает, что буквальное толкование античных текстов может привести к неприемлемым выводам. Сеньи пишет, что в «Государстве» и в «Поэтике» утверждается, будто «поэт, говорящий от первого лица, не является подражателем», то есть подлинный мимесис несовместим с автобиографическим высказыванием; если бы это было буквально так, мы бы пришли к недопустимому выводу:
Многих <…> нам бы пришлось лишить звания поэта, которое они имели до нынешнего дня, а нашего Петрарку, которого повсюду зовут поэтом, из почти всех мест выгонят и вытолкнут; несчастному придется спрятаться в укромном уголке, где он редко будет давать слово Амору, или дамам его синьоры, или птицам, которых он берет и отправляет представлять не знаю кого86.
Впрочем, итальянскому литератору той эпохи перспектива отнять у Петрарки звание поэта казалась полным абсурдом. Современная категория лирики родилась как раз в XVI веке и именно в Италии, потому что изобретение нового расширенного жанра, который встал бы рядом с эпической и драматической поэзией, – удачная попытка решить грозивший единству литературной культуры эпохи конфликт между auctoritates [лат., зд. авторитетные, образцовые авторы или произведения. – Прим. ред.]. В системе античной поэтики не было места для такого произведения, как «Rerum vulgarium fragmenta», бесспорного образца итальянской поэзии на вольгаре87, в то время как строго нормативная логика ренессансных дискуссий требовала, чтобы канонический текст (в данном случае самый канонический из канонических текстов) соответствовал вечным правилам, установленным древними. Требовалось найти способ примирить две абсолютные модели, храня верность словарю Платона, Аристотеля и Горация и в то же время не поддерживая определенные выводы. Если бы речь шла о менее важном произведении, Сеньи и его современники наверняка выкинули бы его из канона, но авторитет Петрарки был столь велик, что нужно было найти компромисс – таким компромиссом стало изобретение лирической поэзии как единого жанра. Это понятие, чуждое греческой и латинской культуре, связано с тем, что «Канцоньере» имел огромный вес в самой значительной европейской литературе на вольгаре88.
Как обойти ограничения, создаваемые классической поэтикой, и подогнать «Канцоньере» под правила? Первое препятствие, которое древние создавали для современного понимания лирики, было нетрудно преодолеть: достаточно было привести вслед за отрывками из «Государства» и «Поэтики», где говорящему от первого лица отказывали в звании подражателя, другие отрывки из тех же трудов, где утверждалось обратное89. Сложнее было спорить с классической теорией жанров, решительно не принимавшей такое произведение, как книга Петрарки, где присутствуют разные по форме и тематике произведения, а общее единство обеспечивается авторским «я». Литераторы эпохи Возрождения пытались приписать совершенно новое значение категориям, унаследованным от прошлого, и почти отрицали очевидное: когда Гварини в приведенном выше отрывке пишет, что греки и латиняне относят гимны, энкомии, элегии, оды, дистихи, эпиграммы к категории лирики, он не замечает (или делает вид, будто не замечает), что античная поэтика никогда не помещала элегии и эпиграммы в один класс с одами – лирическим жанром в узком смысле. Впрочем, наибольшие трудности создавало третье препятствие. Если было достаточно обратиться к теории и доказать, что, даже говоря от первого лица, можно заниматься подражанием, куда сложнее было примирить современное представление о лирике с теорией поэзии как мимесиса действий – опорным элементом системы понятий, унаследованной от греческой и латинской культуры. Суть проблемы излагает Гварини:
Сомнение в следующем. Достойны ли сонет и прочие лирические произведения звания поэзии и может ли по праву сочинитель лирики зваться поэтом. Пусть не покажутся вам странными эти наши сомнения, ведь многие литераторы и известные люди, выступая судьями в этом споре, вынесли приговор не в пользу лириков. Поначалу кажется, будто они этого не достойны, то есть сочинитель лирики не заслуживает звания поэта, на что есть два основания, заимствованные из учения Аристотеля, которое он изложил в своей «Поэтике». Первое – то, что всякая поэзия есть подобие, или, если угодно, подражание. Второе – то, что поэт является поэтом для сказок. Сила этих принципов такова, что нельзя назвать поэзией то, что ни на что не походит и ничему не подражает, и нельзя назвать поэтом того, кто не сочиняет сказок. <…> Так вот: раз подражание составляет поэзию, а сказка – поэта, как сочинители лирики и их сочинения могут зваться поэтами и поэзией, если они не производят сказок и в них не распознать подражания?90
В то время как в «Поэтике» Аристотеля ясно сказано, что поэзия представляет собой мимесис в силу того, что Гварини называет «сказкой», а Аристотель «mythos», лирических стихотворений, в которых повествуется об объективных событиях и в которых есть сюжет, не так много: отсюда сомнение, достоин ли новый жанр «звания поэзии» и может ли он стоять рядом с эпикой или трагедией как каноническая, совершенная форма.
Самый простой способ обойти букву Аристотеля состоял в утверждении, что рассказ о действиях – разновидность более обширного жанра, включавшего в себя подражание чувствам, а не только подражание деяниям, речам и всему, что воспринимается чувствами91: эпика, трагедия и комедия в таком случае представляют человеческие поступки, а лирика – страсти, однако логика подражания во всех жанрах оставалась бы неизменной. Опираясь на это, можно утверждать, что рассказ о страсти принимает форму mythos – это доказывают Минтурно, Сеньи, Виперано, Торелли и Гварини92. Тем не менее отдельные лирические стихотворения были настолько далеки от мимесиса, что некоторым показалось недостаточным придумать категорию подражания чувствам, дабы примирить авторитет классиков с авторитетом Петрарки: в поисках действенного ответа на возражения нужно было изменить понятия и употребляемые названия. Это попытался сделать Тассо в «Рассуждениях о поэтическом искусстве»93:
Если мы желаем отыскать в лирике нечто, что по пропорциям соответствует сказкам эпиков и трагиков, мы ничего иного не сможем назвать, кроме кончетти: подобно тому, как чувства и обычаи опираются на сказку, так в лирике все опирается на кончетти94.
Для Тассо первейшее в лирике не создание mythos и не подражание действиям, а выражение «кончетти», то есть содержания внутренней жизни95. За несколько лет до Тассо Скалиджеро авторитетно отстаивал близкую теорию: по его мнению, принцип, к которому восходят схолии, пеаны, элегии, эпиграммы, сатиры, сильвы, эпиталамы и гимны, – не подражание, а изложение или объяснение чувств поэта:


