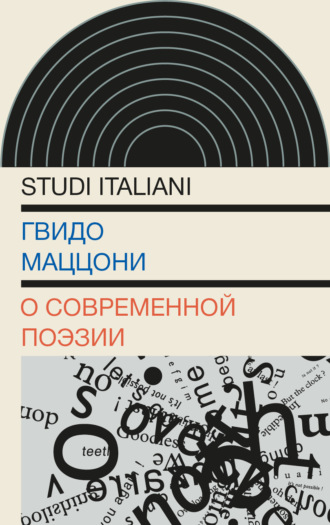
Гвидо Маццони
О современной поэзии
На мой взгляд, тенденция мыслить эпохами не просто отражение молчаливого гегельянства, она обусловлена природой рассматриваемого предмета. Историки культуры мыслят эпохами, потому что обширная территория, которую, используя терминологию Кассирера, можно назвать полем выразительного символизма, – это воображаемое пространство, где лучше всего проявляются общее мнение и общее бессознательное социальной группы, но чаще – общее мнение и общее бессознательное, которые, победив в битве за гегемонию, преобразуются в общепризнанный культурный капитал, в дух времени. Среди всех сегментов этой территории, охватывающей всё, от важнейших искусств до религиозных ритуалов, самая выразительная – эстетическая. На то есть как минимум три причины. Во-первых, ни один другой компонент культуры не выражает настолько непосредственно то, как человек, класс или эпоха интерпретирует важные антропологические константы, формирующие конкретный, человеческий жизненный мир: внутреннее и внешнее существование индивида, первые стадии личных отношений, способ восприятия пространства и времени, отношения с телами и предметами. В формах искусства история человечества зафиксирована правдивее, чем в документах, потому что они придают пластичность способу понимать первичные структуры жизни – это очевидно, если рассмотреть их эволюцию на длительном отрезке времени. К способности выражать образ мира присоединяется репрезентативная сила, которой нет у других форм познания: в то время как философское, историографическое или гуманитарное знание остается прерогативой специалистов, эстетическая культура в целом функционирует как совокупность образов и мифов, понять которые способен каждый, словно это некая новая народная религия. Наконец, репрезентативная сила художественных форм по крайней мере за последние столетия возросла благодаря их кажущейся невинности. История современной культуры – это серия сменяющих друг друга актов нейтрализации и деполитизации, после которых унитарная, теократическая, иерархическая, цензурирующая культура смягчает собственный свод законов, теоретически оставляя за каждым индивидом право выбирать вкус, ценности, стиль жизни, не отчитываясь ни перед кем. Если еще совсем недавно можно быть умереть за религиозные воззрения, за аморальное поведение или политические идеи, сегодня нигилистическая толерантность стала частью писаных и неписаных законов, которые регулируют жизнь западных обществ; расхождения, которые еще несколько веков назад приводили к физическому столкновению или как минимум к напряженной дискуссии, сегодня не представляют никакого интереса в общественной сфере и превратились в предмет личного, не подлежащего обсуждению выбора. Так вот: первая стадия культурной нейтрализации касается эстетической сферы, кратко это можно описать известной сентенцией «о вкусах не спорят»; как протест против нее родилась современная художественная критика, важнейший смысл которой – спорить о вкусах, о которых в принципе спорить не принято. Подобный примат эстетической сферы, которая столетиями оставалась единственной частично деполитизированной территорией в центробежной, нетолерантной культуре, прибавляет символического веса входящим в нее произведениям, ведь долгое время главные и второстепенные виды искусств позволяли вновь и вновь возвращаться к содержанию, которое в иных сферах культуры тщательно подавляли. Таковы, если кратко, положения, на которых основаны мои дальнейшие рассуждения.
3. Теория жанров
То, что формы искусства проливают свет на глубинные структуры цивилизации, по-прежнему истинно, ведь даже малейшие указания, как учат стилистическая критика и насыщенное описание антропологов, помогают понять, как устроена культура изнутри; однако, если взглянуть не на исключения, а на правило, становится ясно, что более сложные и существующее дольше структуры имеют наибольшее значение. Когда Беньямин сравнивал морфологию нарративных форм с морфологией земной поверхности, он представлял себе сложные и с трудом поддающиеся определению группы – жанры. Развивая предложенное им сравнение с геологией, мы можем сказать, что, если литературное пространство некоей эпохи соответствует земной поверхности, жанры – это литосферные плиты, движение которых определяет облик планеты.
Охватывающая длительный период история литературы нередко сводится к истории жанров, однако совершенно неясно, что же представляют собой литературные жанры. За постоянными семантическими колебаниями, отличающими дебаты на эту тему, легко увидеть константу всякой дискуссии о культуре. В силу первичного процесса размытия смысла, имеющего почти физическую природу, всякий раз, когда дебаты принимают массовый размах, обсуждаемые универсалии начинают использоваться во все более неясном значении и утрачивают собственное особое содержание: совершенно естественно, что и рассуждениям о жанрах выпала та же судьба. Стремясь не оставлять в тени фундамент своих рассуждений, я считаю нужным точно определить предмет настоящей книги. Что подразумевают под современной поэзией? Но прежде надо ответить на другой вопрос: что означает говорить о современной поэзии как о «литературном жанре»? Что такое литературные жанры?
Мне кажется, что подобные вопросы должны вызывать три рода сомнений, о каждом из которых следует высказаться отдельно: первое касается критериев, позволяющих провести границы предметов нашего исследования, второе – природы сходства между текстами, обозначенными одной этикеткой, третье – значения, которое имеют подобные семейства текстов. О границах в свое время четко написал Гёте в примечаниях к «Западно-восточному дивану» (1819). По мнению Гёте, рассуждая о жанрах, сразу замечаешь, что для их определения используются неоднородные категории:
Аллегория. Баллада. Басня. Героида. Дидактическая поэма. Драма. Идиллия. Кантата. Ода. Пародия. Послание. Рассказ. Роман. Романс. Сатира. Элегия. Эпиграмма. Эпопея.
Если же представленные выше поэтически виды, расположенные у нас в порядке алфавита, а также и прочие подобные им пытаться упорядочить методически, сталкиваешься с трудностями значительными, какие устранить нелегко. Пристальнее вглядевшись в перечисленные рубрики, находишь, что они наименованы то по внешним признакам, то по содержанию, а немногие по существу формы. Вскоре замечаешь, что одни одноправны, другие – соподчинены17.
Жанры в привычном смысле означают совсем не однородные семейства текстов: аллегория, баллада, кантата, драма, элегия, эпиграмма, послание, эпопея, героида, басня, идиллия, ода, пародия, дидактическая поэма, рассказ, романс, роман, сатира – эти группы несопоставимы друг с другом по размеру, они сформированы то по сходству содержания, то по сходству формы, то всякий раз иным сочетанием содержания и формы. Столь причудливые категории в общей критической практике побуждают нас использовать одно и то же абстрактное название «литературный жанр» для совершенно разных сущностей: сонет, средневековая любовная лирика или лирическая поэзия как таковая; научно-фантастический роман, romance или роман; греческая трагедия, трагедия без определения или корпус текстов для театра и т. д. Чтобы избежать подобной путаницы, Гёте предложил установить иерархию, основанную на более рациональном порядке. Опираясь на логику литературы, нужно было вывести несколько крупных идеальных категорий, к которым сводились бы все запутанные исторические понятия; массу поэтических жанров (Dichtarten) следовало отличать от трех крупных природных форм (Naturformen) поэзии – эпики, лирики и драмы: между ними и поэтическими жанрами установились бы такие же отношения, как между универсальным и частным. Попытка удалась: спустя полтора века, повторяя рассуждение Гёте, Сонди противопоставил эмпирическую поэтику жанров, основанную исключительно на «поверхности позитивного», спекулятивной поэтике, «которая осмеливается шагнуть от данных к идее, от истории к философии»; в то же время Тодоров предложил разделять «исторические жанры», основанные на наблюдении за литературной действительностью, и «теоретические жанры», рожденные путем дедукции, а Женетт – «мелкие» исторические формы и крупные архетипические формы, которые он называет архижанрами (archigenres)18. По сути, это современная версия диалектики, известной еще Платону: в «Законах» он перечисляет категории, которые используют сочинители и публика, чтобы создать классификацию мелической поэзии (гимны, френы, пеаны, дифирамбы, кифародические номы), в то время как в «Государстве» он предлагает разделять все тексты на три категории, сводя «все, о чем бы ни говорили сказители и поэты» к крупным формам «простого повествования» (aple diegesis), «подражания» (mimesis) или «к тому и другому вместе» – это чисто философская таксономия, классифицирующая небольшие эмпирические жанры согласно абстрактным категориям19. Сегодня мы продолжаем называть одним и тем же словом и натуральные формы Гёте (сложные, но, по сути, неисторические), и массу исторических форм (конкретных, но ограниченных): к первым, например, относятся понятия художественной прозы, драмы и лирики, которые определяют архитектуру книг по истории литературы; ко вторым – потенциально бесконечный список категорий, который в разных культурах используется для выделения или группировки произведений: гимны, френы, пеаны, дифирамбы, кифародические номы архаической греческой лирики; рыцарский, исторический, реалистический, фантастический роман, роман воспитания, семейный роман в современной прозе; итальянская, классицистическая, реформированная Гольдони, слезная комедия или трагикомедия в театре XVIII века и т. д. Нам кажется, что, установив подобные границы, можно расположить различные семейства согласно рациональному порядку: наверху – крупные теоретические жанры; спускаясь вниз, мы переходим ко все менее общим и более дробным группам, в которые попадают эмпирические жанры, – например, от художественной прозы в целом к фантастическому роману, проходя через промежуточные формы романа и romance. Так все эти названия обретают собственную логику.
Однако если некоторые из этих категорий, теснее всего связанные с эмпирикой, безусловно соответствуют действительности, скептически настроенный собеседник или номиналист поспорит с существованием более абстрактных совокупностей и с возможностью объединять жанры, опираясь на логику. Действительно, Naturformen обладают смыслом, на который они претендуют, если они на самом деле, путем дедукции, следуют из логики литературы. Однако Женетт доказал, приведя неоспоримые доводы, что единственные подлинные архижанры – диегезис, мимесис и их соединение, известные еще Платону и Аристотелю, но этих трех категорий недостаточно, чтобы основать на них детальную систему. К тому же категории прозы, драмы и лирики, на которых базируются почти все современные классификации, не имеют никакого абсолютного логического основания, но лишь относительное историческое происхождение20. Тем не менее иерархическое различие между разными формами продолжает казаться совершенно очевидным: нельзя отрицать, что семейства текстов, которые мы называем жанрами, обладают различной степенью реальности – некоторые, как говорил Гёте, являются равноправными, между другими существует субординация. Например, когда мы называем фантастический роман, romance, роман и художественную прозу, степень генерализации возрастает, первое – это подмножество второго, второе – подмножество третьего, третье – подмножество четвертого и т. д. Если мы не можем отстоять Naturformen и идею иерархии, вытекающую из логики литературы, возможно, разумно двигаться поступательно от частного к универсальному, от более мелких, конкретных форм к более крупным, абстрактным формам: эпос, romance, novel, комедия, трагедия и т. д. Современная поэзия оказывается одним из таких расширенных крупных жанров.
Но как создать прочный фундамент для подобной дедуктивной цепочки? Подвергнув категории жанров строгому анализу, мы обнаружим, что очень трудно оправдать переход, который пытается обосновать Гёте, – различие между мелкими и крупными формами, если не найти для этого прочной основы. Если строго придерживаться данных истории литературы, придется не только отрицать всякое основание существования таких теоретических жанров, как художественная проза, лирика и драма, но и усомниться в наличии расширенных жанров, таких как эпос, romance, novel, современный роман, современная драма или современная поэзия. К тому же статус этих совокупностей изменился после кризиса европейского классицизма и отхода от нормативной эстетики: в то время как античная поэтика признавала существование крупных синтетических форм (серьезная эпика, комическая эпика, трагедия и комедия), современная литературная эстетика с трудом защищает ценность подобных совокупностей текстов от критики со стороны позитивизма, который признает частное, но с недоверием относится к универсальному. Не совершаем ли мы насилие над фактами, когда, забыв о множестве глубоких различий между лирикой английского романтизма и текстами французского символизма, испанского модернизма, немецкого экспрессионизма или итальянского неоавангарда, рассуждаем о «современной поэзии» в целом? Если же задуматься над глубинным вопросом, нам придется спросить себя: какой степенью реальности обладают фактические данные в истории литературы? Что означает переход от исторического к теоретическому жанру? Единственный надежный водораздел, позволяющий зафиксировать данные и оправдать различия, – то, что разделяет эндогенные (используемые авторами и читателями) и экзогенные (используемые историками литературы) определения. Впрочем, когда мы пытаемся воплотить эту оппозицию на практике, мы видим, что две категории постоянно путаются21. У авторов и читателей теоретические и исторические жанры перемешаны между собой: чтобы убедиться в этом, достаточно взглянуть на полки книжных магазинов, где крупные абстрактные множества «зарубежная проза», «театр» и «поэзия» сосуществуют с маленькими конкретными множествами – «детективный роман», «роман фэнтези» или «любовный роман»; в этом не прослеживается ни какого-либо порядка, ни какой-либо иерархии. На самом деле, как заметил Шеффер, гипотеза существования дедуктивной цепочки, позволяющей перейти от мелких к крупным, расширенным формам, сталкивается со столькими трудностями, поскольку отсылает к более или менее осознанному сравнению между литературными семействами и животными видами, которым общая логика наших категорий отнюдь не исчерпывается22. Стремясь на самом деле уяснить себе смысл жанров, нужно решить вторую проблему, скрытую в вопросе о статусе предмета нашего рассуждения, – проблему природы жанров.
4. Топография жанров
К какому типу сходства отсылают множества, о которых идет речь? Если мы признаем, что жанры не органические группы, которые допустимо сравнивать с животными видами, то с чем мы имеем дело? В первой части работы на эту тему Яусс применяет терминологию диспутов об универсалиях, использовавшуюся в средневековой философии, и различает три точки зрения: для одних жанры воплощают сущности ante rem, то есть трансцендентальные структуры, которые идеально предшествуют эмпирическому существованию текстов; для других они представляют собой таксономические сетки post rem, которые читатели накладывают на литературную реальность, подобную магме и находящуюся в состоянии дисперсии; для третьих они отражают объективную историческую преемственность между произведениями из одного семейства, а значит, в них обнаруживаются следы объективной связи между отдельными текстами, универсалии in re. Яусс отстаивает последний подход: по его мнению, желающий построить теорию, которая окажется на высоте нашего времени, должен пройти между «Сциллой номиналистического скепсиса <…> и Харибдой возвращения к внеисторическим типологиям»23, между близорукостью тех, кто видит лишь дисперсию мелких форм, и наивностью тех, кто с излишней поспешностью растворяет частное в универсальном. Жанры не отражают суть литературы, как предполагала теория натуральных форм, их не свести к чистому flatus vocis [«звучание голоса», см. универсалии у Росцелина. – Прим. пер.], как хотелось бы скептикам; они обозначают множества текстов, исторически породнившихся благодаря сходным чертам. Но кто устанавливает родство? Кто устанавливает, что пучка более или менее очевидных сходных черт достаточно, чтобы объединить массу текстов в общую категорию?
Даже если опираться на неоспоримые сходства, на восприятие родства, а главное – на представление о том, что некие родственные отношения достаточно важны, чтобы оправдать существование жанра, этот вопрос останется спорным для всех социальных агентов, стремящихся навязать определенное видение литературного пространства, – писателей, критиков, институций. Картирование идет постоянно, в разных центрах; в любую эпоху мы видим наложение различных предложений, которые игнорируют друг друга или сталкиваются, их природа непредсказуема, а происхождение не вполне ясно: укоренившиеся писательские привычки, предлагаемая поэтика, издательская таксономия, выбор в рамках школьной политики, критические тексты. Анализ этого поля, покой которого нарушают несоизмеримые между собой категории, помогает многое понять: к примеру, что грубая география литературы, которую предлагают издательства или школьные программы, куда важнее, чем более искусно составленные карты, которые готовит официальная критика. Лишь некоторые из предлагаемых разделений станут гегемонами и завоюют право на гарантированное существование в обществе: сегодня можно оспаривать полезность таких теоретических категорий, как Entwicklungsroman (роман о формировании личности героя) или greater Romantic lyric [термин М. Г. Абрамса. – Прим. пер.], но никто не будет всерьез сомневаться в существовании множеств под названием «современный роман» или «современная поэзия», потому что сеть признанных стилистических сходств, сумма ожиданий, которые уже укоренились в подсознании писателей и читателей, тысячи критических статей и санкция школьных программ делают эти универсалии in re по сути общепризнанными.
Какой бы ни была степень их признания, жанры опираются на два различных элемента: объективное сходство стиля и тематики входящих в них текстов, а также ментальные схемы, которые позволяют читателям ощутить, что произведения принадлежат к некоему континууму. Иными словами, родство возникает как из реально продолжающегося существования формы и содержания, так и из более или менее хаотичной системы теорий, привычек, слов и ожиданий, благодаря которой группа людей в итоге использует одно и то же название для ряда произведений. Если исходить из других теорий, обычаев, слов и ожиданий, то эти же сочинения могут показаться совершенно далекими друг от друга24. Два фактора близости, объективный и культурный, почти во всех случаях соприсутствуют, хотя и в разной степени: когда мы говорим о сонете как жанре, мы имеем в виду объективный метрический континуум; когда же мы говорим о романе в единственном числе, мы улавливаем сходство, укоренившееся прежде всего в нашем общем представлении, то есть пользуемся всеохватывающим определением, дабы обозначить всякое современное произведение художественной прозы определенного объема, реалистическое или фантастическое, правдоподобное или неправдоподобное, выдуманное или документальное, в прозе или в стихах. Хорошая теория жанров обязана прояснить эту двойную генеалогическую связь: обобщающее прочтение романа, например, должно выявить все общие черты у «Эфиопики», «Памелы» или «Войны и мира», а также восстановить систему понятий, которая позволяет нам улавливать сходства и не обращать внимания на различия, возможно объясняя при этом, что в литературах, где нет обобщающего слова «роман», восприятие художественной прозы частично отличается от того, которое есть у нас, итальянцев, – так происходит в англоязычной культурной традиции, где произведения, которые мы называем одним словом, часто, хотя и не всегда попадают в два разных семейства – novel и romance.
Адорно в работе о лирической поэзии и обществе, излагая идею поэзии, закрепившуюся в коллективном представлении современных читателей, опирается на «знакомый нам лирический дух» и на «наше первоначальное представление о лирике»25, то есть на восприятие сходства между текстами, которое вытекает не из механической суммы черт, общих для всех современных лирических стихотворений, а из синтетической, селективной, неустойчивой концепции. Когда мы говорим о современной поэзии в единственном числе, мы имеем в виду два параллельных, различных континуума: первый рожден сходством между стихотворными произведениями последних двух столетий; второй – идеей поэзии, которую оставила нам романтическая культура, неосознанными ожиданиями, с которыми мы листаем сборники стихов, или самим понятием современной поэзии.
Подобная смена горизонта приводит к изменению ментальных схем, которые мы используем, воображая предметы наших размышлений. Историки культуры нечасто определяют природу вопросов, которыми они занимаются, однако, рассуждая о своей теме как об универсалии (романтизм, постмодерн, роман), они неизбежно более или менее осознанно ссылаются на модель единства: суть, которая проявляется в отдельных феноменах, организм, сохраняющий собственную идентичность во всех своих частях, ментальное конструирование фигуры интерпретатора, который собирает и классифицирует a posteriori бесчисленное множество отдельных событий. Если органицистская, эссенциалистская модель предполагает универсалии ante rem, а таксономическая модель предполагает универсалии post rem, единственная ментальная схема, которая подходит универсалиям in re, – это топографическая схема.
Возможно, сущности, которые находятся ближе всего к предмету нашего рассуждения, – универсалии in re, с которыми мы сталкиваемся каждый день, – это города. Наше воображение не представляет их ни как природные организмы, ни как созданные географом абстрактные конструкции, а как системы нередко разнородных зданий, объединенных пространственной близостью, общей историей, общими архитектурными чертами и общим названием. В этом случае впечатление компактности также порождено структурами, которые участвуют и в формировании жанров: континуумом объективных компонентов (архитектура, урбанистика, администрация) и сетью ожиданий, слов, рассуждений, которые стирают различия, подчеркивают сходства и создают норму. Париж не сводится к объективной стилистической спаянности: это еще и идея Парижа, его название, его образ, запечатлевшийся в коллективном воображении и родившийся из слияния реальных и фантазматических элементов. Этот город с поразительно компактным обликом становится еще компактнее благодаря привычкам нашего восприятия, которые различают парижские и непарижские стилемы даже там, где вторые куда многочисленнее и важнее первых. Вот почему имеющийся у нас образ остается унитарным, даже если некоторые кварталы не имеют почти никакого отношения к готике, к архитекторам Людовика XIV или к перестройке, которую осуществил барон Осман. Бульвар Распай, как сказано в одном путеводителе, остается «типичным парижским бульваром», хотя его самое красивое строение, возведенное Жаном Нувелем, здание Фонда Картье, не отражает представлений, которые обычно связаны у нас с этим городом.
Если универсалии in re отражают отчасти имманентный res и отчасти идеальный континуум, это происходит еще и потому, что идеи не только выделяют нормы, но и обладают властью их создавать. Как план застройки исторического центра предписывает новым зданиям подлаживаться под существующий образ города, так и распространенные у читателей ожидания влияют на писателей, которые подстраивают свои произведения под жанровую практику или утверждают собственную индивидуальность, не повинуясь имплицитным нормам, на которые они в любом случае ссылаются, пусть даже отрицая их. В общем, наши объекты отсылают к двойной устойчивости – реальной и воображаемой, записанной в форме текстов и закрепленной в ожиданиях. Нематериальные элементы не менее материальных важны для формирования образа целого. Нередко достаточно изменить название, чтобы полностью изменить восприятие: Петербург, Петроград, Ленинград и Санкт-Петербург не один и тот же город; все крупные городские агломерации распространяются далеко за административные границы, но восприятию пространственного единства мешает осознание отсутствия ономастической непрерывности. Универсалии критики работают точно так же. Например, представим себе, как изменится наше представление о жанре, к которому принадлежит «Неистовый Роланд», в зависимости о того, как мы его назовем: рыцарская поэма и рыцарский роман вовсе не одно и то же. Или вспомним критическую категорию, которую в Италии сделал популярной Джакомо Дебенедетти, – «роман XX века»: она описывает объективные явления и в то же время сглаживает многие различия; если правда то, что наш горизонт ожидания привык к повествовательным стилям, которых не было в XIX веке, справедливо и то, что из канона романов, написанных в XX веке, было бы трудно исключить произведения, напоминающие о повествовательной манере XIX столетия, – «Будденброки» или «Жизнь и судьба». Следовательно, регистрация объективных изменений сосуществует с принимаемыми всеми упрощением, а «роман XX века» отсылает к некоей идее, а не только к совокупности тем и технических приемов.
Как всякое пространство, литературные жанры имеют центр и периферию; в центре находятся произведения, которые читательское ожидание воспринимает как близкие к гипотетическому идеальному типу, на периферии – тексты, которые относят к данному жанру, хотя по отношению к предполагаемой норме они кажутся эксцентричными. В очередной раз критерий, определяющий расположение внутри поля, – это сложное, изменчивое сочетание количества и символического веса, распространенности и гегемонии: можно говорить о «романе XX века», поскольку с высокой вероятностью количество разного рода экспериментальных романов объективно выросло в первые десятилетия XX столетия, а также потому, что новаторские романы оказали настолько мощное влияние, что изменили литературную топографию. После того как некое понятие становится общим представлением, выясняется, что определенные произведения воплощают его лучше других: в центре жанра мы очевидно обнаруживаем «В поисках утраченного времени», «Улисса» или «Человека без свойств», а «Будденброки», «Гепард» [роман Джузеппе Томази ди Лампедузы. – Прим. пер.] и «Жизнь и судьба» располагаются на периферии. Важно подчеркнуть, что пространственные категории не обязательно обладают эстетической ценностью. Произведение может занимать видное место в литературном каноне и одновременно находиться на периферийной территории жанра, к которому оно принадлежит; например, «Бесплодная земля» – один из самых заслуженно знаменитых текстов литературы XX века, но отнюдь не пример типичной формы современной поэзии.


