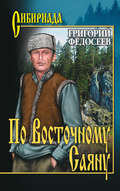Григорий Федосеев
В тисках Джугдыра
Мы медленно подвигаемся вперед, пробиваясь сквозь непогоду. Проводники изредка перебрасываются короткими фразами, после чего обычно караван сворачивает вправо или влево и продолжает путь. Удивительно, как старики угадывали направление! Мы ехали без дороги, вокруг в белесой мгле ничего не видно, но это, пожалуй, вовсе не волновало проводников. Они все чаще покрикивали на оленей и не проявляли сколько-нибудь заметного беспокойства.
Только к вечеру метель стихла и сквозь поредевшее облако показались кусочки голубого неба. Ночевать спустились к реке. Это была первая наша остановка на данном пути, и мы с удовольствием принялись за устройство лагеря: утаптывали снег, выстилали пол хвоей, натягивали на жерди палатку. Через час уж дымилась печь, и, готовя ужин, возле нее суетился Василий Николаевич.
Вечерело. Медленно угасали последние розовые блики на макушках береговых елей. Из боковых ущелий мягко выползала ночь и, пробираясь бесшумными шагами, прикрывала долину тяжелой тенью. Где-то на мари пугливо прокричала куропатка. После бури крепко спал старый лес, не колыхался воздух, но вверху порывисто шумел ветер, будто полчище невиданных птиц проносилось над нами.
– Однако мороз будет, много звезд на небе, все играют, – сказал Улукиткан, пролезая в палатку.
За ним показался и Николай Федорович. Гости уселись в дальнем углу, и Василий Николаевич стал угощать их чаем.
«Вот он, свидетель далекой старины, – думал я, поглядывая на сидящего рядом Улукиткана. – Таких, как он, остается все меньше и меньше. Они уходят из жизни, унося с собою историю и веками накопленный опыт своего народа». Тем более росло желание расспросить старика о жизни эвенков, когда они вели кочевой образ жизни.
Улукиткана не пришлось много упрашивать. Вероятно, ему самому было интересно воскресить в памяти прошлое, и он охотно согласился поделиться с нами своими воспоминаниями.
В палатке было тепло. Чаепитие тянулось долго. Старики, видно, любили понежиться за чаем. Пили медленно, громко втягивая сквозь сжатые губы, и изредка перебрасывались между собой короткими фразами.
– Спасибо, напился. От крепкого чая, что от доброго слова, сердце мякнет, – сказал, наконец, Улукиткан. Он стряхнул в чашку хлебные крошки, туда же вылил из блюдца недопитый чай, все перемешал и выпил.
Свое повествование старик начал без увлечения, но постепенно разговорился.
– Раньше старики так думали: эксери[13] дал эвенкам оленей таскать груз, кормить их мясом, одевать в шкуры, а бабу дал родить детей, обшивать мужа, варить обед, пасти стадо. За нее никто не должен был работать, за бабу тогда платили большой выкуп. Муж только охота знал да ругал жену, что плохо ведет хозяйство, – не торопясь, рассказывал Улукиткан.
Когда бабе приходило время рожать, она делала себе в стороне от становища маленький чум, люди не должны были слышать, как ревет баба в маленьком чуме. Такой дурной обычай был. Трудно было тогда эвенку достать кусок материи. Мать вытирала ребенка сухой мелкой трухой от старого пня, обкладывала мхом, заворачивала в кабарожью шкурку и приносила в большой чум. Если на пупке долго не сохла кровь, прикладывали серу или присыпали золой из трубки. Крикливого ребенка купали в снегу, чтобы он лучше спал. В такое время родился и я. Это было после зимы, у белки уже появились щенки, и мать назвала меня Улукиткан[14]…
Ворон где труп найдет, там и живет. Мы тоже раньше так: где отец зверя убьет, там и ставили свой чум. Только не всегда ему удача была. Другой раз долго в котел не клали мяса, лепешки не было, масло, сахар совсем не знали.
Отец слышал, что у лючи[15] есть белый камень, когда положишь его в рот, он, что твой снег, тает, язык к губам липнет, как еловая сера, а слюна делается слаще березового сока! У купца он сам тогда видел холодный огонь и рассказывал, что его можно носить долго в кармане, а когда он станет горячим, от него зажигается трубка, береста, дрова – так о спичках тогда говорили. Один раз он возил меня далеко в соседнее становище, чтобы показать зеркальце. Чудно было: всего с ладонь, а вмещает больше чума. Смотришь в него, а видишь все, что сзади тебя. Хозяин шибко радовался, обманул купца – за два соболя выменял зеркальце! Так было, это правда…
Когда я уже умел сгонять ножом тонкую стружку с палки и сидеть на олене не привязанным к седлу, это было время ледохода[16], мы стали кочевать к Учурской часовне[17]. Хорошо аргишать[18] на ярмарку, когда в турсуках[19] много соболиных, беличьих шкурок. Радовались, все думали, какой покупка делать будем, – и то надо и другое. Не было припаса, ружья доброго, муки, котла. Все хотели купить. Пушнины хватит, два года собирали. Приехали на ярмарку, купцы-якуты добрые кажутся – ведь по короткому лаю собаку от лисы не отличишь сразу. Вином угощали, хорошо разговаривали, пушнину даром не брали, все меняли: за иголку – белку, за крест – колонка, за топор – соболя, за икону – доброго оленя. Им доход, эвенку диво, и оленям хорошо, возить в тайгу нечего!
Поп ходил по всем чумам, проверял, у кого нет креста, в прорубь таскал крестить. Эвенки ему выкуп носили: кто соболя, кто лису. От хороших подарков размяк поп, как снег от майского солнца. Не таскал в воду, крестил в чуме. Мне сказал: тебе имя Семен. Но мать говорила: какой ты Семен, ты Улукиткан!
Разошлась пушнина за вино, за зеркальца, за бисер. Ясак[20] уплатили, богу дали маленько – он тоже любил соболей – и в тайгу ушли, когда лиственница зеленеет[21]. Ушли легко. Только обидно было. Как так получилось: будто все купец считал правильно, белки даром не брал, а турсуки наши остались пустыми? Мать шибко ругала отца, почему ни муки, ни котла, ни куска материи не брал. Он говорил: ничего, бог лючи нынче обещает хороший промысел, опять приедем ярмарку, купим. Да только не так случилось. Если кремня нет, сколько ни бей кресалом по языку, огня не добудешь. Обманул бог, тайга сильнее его…
У старика оборвался голос низкой печальной нотой. Наступила тишина. Кто-то поправил свечу, Василий Николаевич подбросил в печку дров. Из-за ближнего леса луна осветила палатку.
Рассказчик смочил горло холодным чаем, поправил под собою дошку, свернутую комом, и заговорил медленно и еще более грустно. Он рассказал, что на другой год по тайге прошел страшный мор. Это было немного раньше восьмидесятых годов прошлого столетия. У чумов валялись трупы оленей, погибли звери и птицы. Леса на огромном пространстве оказались опустошенными. Эвенки бежали с насиженных мест в далекие соседние районы. В пути падали олени, терялись люди, жирели собаки, воронье. Семья Улукиткана уходила за Становой. От стариков они слышали, что за хребтом есть река Эникан[22], богатая рыбой и зверем. Нужно было перевалить большие горы. Но где найти перевал? Везде проходы завалены россыпями, сдавлены скалами и крепко заплетены стлаником. Шли наугад, питались травой, корнями. Отец заболел и остался на реке Мулам, где пал последний олень. Семья ушла, не дождавшись развязки. Старику дали небольшой кусок самула[23], половину сыромятной узды от павшего оленя да на три дня запасли дров для костра. С ним была старая собака. Что сталось с ними, никто не узнал. На второй день на поляне, где оставили отца, уже не дымился костер. Не догнала семью и собака. Улукиткан с матерью и сестрой после долгих поисков прохода все же вышли на хребет.
– Тогда только я и переходил Становой, это было шибко давно, – продолжал рассказывать Улукиткан, напрягая свою память. – Когда мы вышли на хребет, в это время сохатый терял жир[24], там нашли много мангесун [25], хорошо кушали, только это и помню, а где лежал перевал, совсем забыл. Не думал остаться живым, смерть так держала меня, – и он растопырил руки, словно коршун крылья, впился костлявыми пальцами в свои сухие бока. – Так крепко! Она хотела меня кончать, а я не хотел, ходил дальше. Спустился к Эникану – увидели след кабарги, сделали там каменный балаган и начали опять жить…
Старик заметно уставал. Голос его все чаще обрывался, а раздумье было более глубоким. Но, передохнув, Улукиткан снова начинал рассказывать о том, что горе, перенесенное эвенкийской семьей через Становой, еще долго продолжало жить с ней в каменном балагане. Не было оленей, одежды, припасов, даже куска ремня, из которого можно было бы сделать тетиву для лука-самострела. И все же тринадцатилетний Улукиткан не сдался. Началась длительная борьба за жизнь, за кусок мяса и шкуру. В лесу появились кабарожьи ловушки, пасти[26] на зайцев. В реке семья добывала рыбу. Но Улукиткан был еще слишком молод, чтобы противостоять нужде. Не выдержал и ушел с семьей в батраки к кулаку Сафронову, занимавшему тогда своим трехтысячным стадом оленей верховья Май с ее притоками: Чайдах, Кукур и Кунь-Манье.
– Стадо пасли на Большом Чайдахе, – продолжал старик после очередной паузы. – Однажды я нашел след, долго смотрел и думал: это какой люди тут ходи, раньше такой след не видел? Мать сказала: тут лючи был, его носит такой большой олочи[27], тяжелый, как зимняя котомка. Через день лючи пришел в наш чум с проводником. Он золото искал. «Ты что так смотришь на меня?» – спросил он. «Моя раньше лючи не видел». – «Понравился?» – «Нет, – говорю. – Твое лицо совсем другое, узкое, все равно что у лисы, нос острый, однако шибко мерзнет зимой, а глаза круглые, как у филина. Ты, должно, плохо днем видишь. Твоя люди некрасивый».
Лючи смеялся. Он хороший был человек. Его палатка долго стояла рядом с нашим чумом. Он говорил мне, что далеко внизу Зея есть большой стойбище, там люди золото копают, шибко звал меня туда. Да как ходить без своих оленей? Бедняку хорошая тропа – хуже болота…
Три года пасли оленей. Стадо разрослось, работы было много. Но скоро умерла мать. Тогда говорили, что пропадает только тело, а душа кочует в другой мир и там ждет. Когда тела не станет, она вернется на землю и поселится к бальдымакту[28]. По тогдашнему обычаю покойника клали в долбленое корыто и поднимали высоко на деревья. Люди не должны были оставаться жить в таких местах: нельзя было своим присутствием беспокоить покойника. Мы с сестрой собрали оленей и ушли со стадом на Кукур, к хозяину Сафронову. «Я больше работать не могу, нас осталось двое, стадо большое, силы не хватает, давай расчет», – сказал я. «Какой тебе расчет? Будем стадо считать, потом посмотрим, кто кому должен». Считали. Он говорит: «Тебе за работу надо отдать тридцать оленей. Верно?» – «Верно». – «Ты потерял моих пятьдесят, верни двадцать или отработай». – «Как так, стадо наполовину больше стало, почему обманываешь?» – «Не могу считать молодой олень, – говорит, – так не договорились».
Долго спорили, напрасно пальмой[29] воду рубили. Волк от голоду воет, а кулак – от жадности. Я говорил ему: «Твой жирный брюхо много чужой олень лежит, клади и мои». На двадцать олень давал ему расписку и ушел…
– Какую же ты мог дать расписку, если был неграмотный? – перебил его Василий Николаевич.
– Эвенкийский расписка была другая, деревянная, так делали ее, – Улукиткан, достав нож, стал выстругивать четырехгранную палочку.
Лицо вдруг стало сумрачным, губы стиснулись, между поседевшими бровями врезались складки раздумья. Расчеты с кулаком Сафроновым он помнил со свежестью вчерашнего дня, – так глубоко запала обида.
Из его слов мы узнали, что своеобразный долговой документ выстругивается из крепкого прямослойного дерева, квадратной формы, длиной примерно десять-двадцать сантиметров, в зависимости от величины долга. На одной стороне палочки делалось столько зазубрин, сколько, скажем, оленей давалось в долг. На нижней стороне грани, под зубцами, вырезались с одного конца олень, с другого – клеймо должника – крестик, веточка, рог или след. Затем палочку раскалывали так, чтобы зубцы, клеймо и олень разделились примерно пополам. Одна половина оставалась у продавца, вторая у должника. Когда же происходили расчеты, хотя бы частично, половинки соединялись и срезалось столько зазубрин, сколько возвращалось оленей или за сколько оленей уплачивалось.
До смешного наивной кажется эта деревянная расписка, но она лишний раз подтверждает житейскую честность лесных кочевников.
Улукиткан унес от Сафронова половинку расписки с двадцатью зубцами. Долго скитался он с сестрой по чужим, незнакомым горам. Ветер показывал путь, роса смывала их след. Лишь на реке Джегорма они встретили первую семью кочующих эвенков. Им отвели место в чуме, в общий котел клали на них мясо, рыбу, дали шкуры починить олочи, – кажется, о большем тогда и не мечтал эвенк. Сестра вышла замуж и осталась в этой семье. А Улукиткан решил вернуться за хребет к родным местам на реку Альгома, где провел детство и где, казалось ему, природа щедра к человеку. Да только и там не нашел счастья, пока не пришла новая власть…
Старик, умолкнув, сидел в темном углу, совсем маленький, ссутулив плечи и сгорбив костлявую спину. Его сухие губы беззвучно шевелились. Видно, быстрокрылая мысль все еще была в прошлом. Но вот он нащупал перед собою чашку, поднес ее ко рту, и в горле хлюпнул тяжелый глоток. От чайного пара размякли морщинистые скулы, посветлели усталые глаза.
– Однако, довольно, еще много ночей впереди… Спать пойдем…
Восход солнца застал нас в пути. Впереди на упряжке Улукиткана монотонно поют колокольчики. Олени бегут натужно, долго. День теплый, в пути хорошо.
У покинутой нами стоянки, кажется, заканчивается широкое ложе Зейской долины. Горы с той и другой стороны заметно сближаются, река глубже зарывается в землю, образуя как бы узкую промоину, обставленную чередующимися обрывами.
В тот же день мы добрались до устья Купури. Там, где эта река впадает в Зею, высятся с двух сторон береговые скалы. Ими обрываются невысокие залесенные отроги, пропуская, как в ворота, воду, собранную с большой территории, ограниченной с севера Становым, с востока Джугдырским хребтами. Междуречье близ слияния этих горных рек представляет пониженную местность с мелкосопчатым рельефом, переходящим дальше в высокогорный.
Пожалуй, тревога наших проводников относительно наледей напрасна. Речной лед, по которому мы едем, слегка запорошен сухим снегом, нарты скользят легко, и лучшей дороги не придумаешь. Да и погода нам благоприятствует: тихая, солнечная.
К концу третьего дня мы достигли устья Лучи – левобережного притока Купури. По пути, кроме береговых возвышенностей, мы ничего не видели и не имели представления о местности, которую пересекали. Продолжать путь вслепую было неинтересно, поэтому вечером, как только все хлопоты по устройству лагеря были закончены, я поднялся на ближнюю сопку, чтобы осмотреться. До темноты оставалось часа полтора.
На юг от меня, за реками Купури и Лучи, раскинулась гористая местность с широкими падями и пологими однообразными сопками, перемежающимися низкими седловинами. Склоны покрыты редким лиственничным лесом, и только далеко, километров за двадцать от нашего лагеря, на Аргинской водораздельной гриве виден хвойный лес, вероятно, сосновый. Горизонт же на северо-западе заполнен высокими гольцами, прочесанными последними лучами заходящего солнца. То, видимо, Окононекий голец, им заканчивается один из мощных южных отрогов Станового хребта.
Хорошо на горе, неохота уходить. Затухает бледная заря. Одинокое облачко, словно волшебный корабль, медленно плывет под звездным небом. И вдруг какой-то протяжный звук, напоминающий флейту, доносится из глубокого лога. Я прислушиваюсь и неожиданно улавливаю такой же звук уже с противоположной стороны. Но это не запоздалое эхо, не крик филина, предупреждающий о наступающей ночи. В звуках было что-то тоскливое, отягощенное безнадежностью. Так и не разгадав, что это, я вернулся в лагерь.
Мартовские ночи длинные. Вечерами мы обычно собирались в нашей палатке и подолгу пили чай. Времени хватало поговорить и выспаться. Едва я разделся и присел, как послышалось повизгивание собак, привязанных к нартам. Коротко тявкнул Кучум. Проводники встревожились.
– Кто-то чужой близко ходит, – сказал Улукиткан и стал поспешно натягивать на себя дошку.
Мы вышли из палатки. С нагретых мест соскочили собаки. Они стояли во весь рост, всматриваясь в темноту и настороженно шевеля ушами.
– Отвязать надо, – сказал я.
Улукиткан схватил меня за руку.
– Пускать нельзя, подожди, надо узнать, кто ходит…
Вдруг из темноты послышался отвратительный вой волка.
Он разросся в целую гамму какого-то бессильного отчаяния и замер в морозной тишине высокой жалобной нотой. Эхо внизу повторило голодную песню. Не успело оно смолкнуть, как до слуха донесся шум. Он увеличивался и ураганом несся на нас из леса. Вот мелькнул один олень, второй, третий – мимо бежало обезумевшее от страха стадо.
Василий Николаевич и Геннадий бросились наперерез, пытаясь задержать оленей. Следом за ними, спотыкаясь, бежал с поднятым кулаком Николай Федорович. А шум быстро отдалялся и вскоре заглох далеко за лесом.
– Эка беда, – говорит Улукиткан, неодобрительно покачивая головой. – Какой худой место остановились ночевать…
– Я, кажется, слышал на сопке, как выли волки, но не догадался.
– Почему не сказал? Надо иметь привычка: что не понимаешь, спрашивать. Мы бы непременно олень караулили, – упрекнул меня старик, продолжая всматриваться в темноту.
Я стал разжигать костер. Бойка и Кучум все еще продолжали посматривать в сторону левобережного лога, откуда донесся вой. Они тянулись туда, нервно визжали и изредка поглядывали на нас, как бы говоря: неужели вы не слышите, что там делается?
– Давай отпустим собак, – настаивал я.
– Нельзя, – забеспокоился старик. – Они уйдут за стадом, а пуганые олени собаку от волка не отличают, далеко убегут.
Из-за макушек елей выглянула луна, и тотчас заметно посветлело. Бойка и Кучум, видимо, доверились тишине, улеглись спать.
Наши вернулись без оленей.
– Что делать будем? – спросил я Улукиткана.
– Немножко спать, потом стадо догонять пойдем. Олень быстрый, далеко уйдет, но след от него не отстанет.
За время нашего отсутствия в палатке потухла печь. Василий Николаевич подбросил стружки, сушняка, и огонь ожил. Мы долго не спали, разговорились о волках…
Плохо волку зимою, нечем поживиться, а голод мучит! Жизнь серого бродяги безрадостна – словом, волчья жизнь! Даже детством ему не похвалиться. Волчица не балует детей лаской. Как только у щенков прорезаются глаза, мать начинает воспитывать в них будущих хищников. Горе волчонку, если он в драке завизжит от боли или проявит слабость, волчица безжалостна к нему. Она будто понимает, что только терпеливый, жестокий и замкнутый в своих стремлениях зверь способен к борьбе за существование. Может, поэтому волк с самого детства и бывает откровенен только в своем бешенстве, доброе же чувство никогда не проявляется у него даже к собратьям. Достаточно одному из них пораниться или заболеть, как его свои же прикончат и съедят.
Ляжет на землю зима, заиграют метели, и с ними наступает голодная пора. Зимой волку невозможно пропитаться в одиночку. Не взять ему сохатого. Да и зайца трудно загонять одному. Звери соединяются и стаей рыщут по тайге, наводя страх на все живое.
В волке постоянно борются жадность и осторожность. И надо отдать справедливость хищнику, он умеет пользоваться этими врожденными качествами. Посмотрите, как осторожно идут волки вдоль опушки леса. Стаю ведет матерый волк против ветра – так он дальше чует добычу или скорее разгадает опасность. Все идут строго одним следом, и трудно угадать, сколько же их прошло: три или пятнадцать, – так аккуратно каждый ступает в след впереди идущего собрата. Поступь у всех бесшумная; глаза жадно шарят по пространству, задерживаясь на подозрительных предметах, а уши подаются вперед, выворачиваются, настороженно замирают, улавливая тончайшие звуки. При остановке зверь пружинит ноги, готовые при малейшей опасности отбросить в сторону короткий корпус или нести его вдогонку за жертвой.
Копытного зверя волки гоняют сообща, не торопясь. Пугнут и рысцой бегут его следом. Снова пугнут и так сутки-двое не дают жертве отдохнуть и покормиться. Чем сильнее животное поддается страху, тем быстрее оно изматывает свои силы и напрасно ищет спасения в беге.
Едят волки много, жадно. Путешествуя зимой по Подкаменной Тунгуске, мы с Василием Николаевичем однажды наткнулись на останки растерзанного сохатого. Немного поодаль отдыхала волчья стая, только что закончившая пир. Заметив нас, хищники бросились наутек. Мы преследовали их на лыжах. Завязалась интересная борьба. Хотя снег был мелкий, обожравшиеся звери шли тяжело. Расстояние между нами упорно сокращалось. Наступил час расплаты. Василий Николаевич сбросил с плеча ружье и стал обходить волков справа, а я настигал их слева. Казалось, еще одна-две минуты, и они сдадутся. Но звери, почуяв смертельную опасность, на бегу стали отрыгивать куски мяса, очищать кишечник от непереваренной пищи. Облегчившись, они легко ушли от нас.
Волки способны длительное время следовать за кочующим стадом домашних оленей. Осторожность никогда не покидает их. В ожидании удобного момента для нападения они способны проявлять удивительное равнодушие к голоду. Задремлет пастух, не дождавшись рассвета, и волки близко подберутся к отдыхающим оленям. Взметнется стадо, да поздно. Падают олени, обливая снег кровью, и тогда нет предела жадности хищника. Иногда, убив несколько десятков животных, стая уходит, не тронув ни одного трупа, будто все это они делают ради какой-то скрытой мести. У человека всегда живет чувство непримиримого отвращения к волку…
Рано утром от палатки проводников в тайгу убежал лыжный след. Он отсек полукругом лог, где вечером паслись олени, прихватил километра два реки Купури ниже лагеря и вернулся к палатке. Мы уже встали и были готовы идти на розыски.
– Проклятый волки, два оленя кончал, – гневно сказал Улукиткан, сбрасывая лыжи и растирая варежкой пот. – Они, однако, идут нашим следом, надо хорошо пугать их, иначе не отстанут.
Старик торопил всех и сам спешил. Я с ним пошел к убитым оленям, а остальные отправились следом за убежавшим стадом.
Солнце яичным желтком вылупилось из-за шершавых сопок. Мы пробрались к вершине лога. От быстрой ходьбы у Улукиткана раскраснелось лицо. Едкий пот слепил ему глаза. Вязки на дошке распустились, и по краешку реденькой бороденки оседал колючий иней.
Олени лежали рядом, друг возле друга, недалеко от промоины. У разорванных ран ноздреватой пеной застыла кровь. Трупы оказались не тронутыми волками, видимо, что-то помешало их пиру.
– А нельзя ли устроить ночную засаду? – спросил я.
– Волки голодный, однако, далеко не ушли, может, придут, надо караулить, – согласился старик.
Только к вечеру собрали стадо. Но и это было удачей. Пожалуй, ни одно животное так не боится волков, как олени. Страх делает их совершенно бессильными к сопротивлению, и они ищут спасения лишь в бегстве. Случись такое летом, нам бы ни за что не собрать стадо.
Чем больше я присматривался к Улукиткану, тем сильнее крепла моя привязанность к нему. Чего бы, кажется, в эту ночь не отдохнуть ему? Так нет, напросился в засаду. Не может оставаться равнодушным ко всему, что заполняет теперь нашу жизнь.
Одеться нужно было потеплее: в пятнадцатиградусный мороз трудно просидеть ночь на открытом воздухе да еще без движения. Старик заботливо завернул ноги в теплую хаикту[30], надел меховые чулки и унты, а поверх натянул мягкие кабарожьи наколенники. О ногах позаботился, а грудь оставил открытой, рубашки даже не вобрал в штаны.
– Куда же ты идешь так, замерзнешь! – запротестовал я.
Улукиткан вскинул на меня удивленные глаза.
– В мороз ноги надо хорошо кутать, а грудь сердце греет.
Он перехватил грудь вязками дошки, затолкал за пазуху варежки, спички, трубку, бересту, и мы покинули палатку.
Промоина оказалась хорошим укрытием для засады. Наше присутствие скрывали заиндевевшие кусты, а в просветы между ветками были хорошо видны трупы животных и вершина широкого лога.
– Ты будешь дежурить с вечера или под утро? – спросил я старика, зная, что одному высидеть ночь тяжело.
– Нет, моя плохо видит, стрелять ночью не могу.
– Зачем же шел?
– Тебе скучно не будет…
Улукиткан уселся на шкуру, глубоко подобрал под себя ноги и, воткнув нос в варежку, задремал. Я дежурил, прильнув к просвету.
Время тянется лениво. Гаснет закат. Уплывают в безмятежную тьму нерасчесанные вершины лиственниц и мутные валы далеких гор. В ушах звон от морозной тишины. Мысли рвутся, расплываются… А волки не идут, да и придут ли?
Хочется размять уставшие ноги, но нельзя: зверь далеко учует шорох.
– Ху-ху-ху, – упал сверху звук.
Я вздрогнул. Над логом пролетела сова, лениво разгребая крыльями воздух. Следом прошумел ветерок. Пробудившийся старик поудобнее уселся, сладко вздохнул – и снова тишина.
Запоздалая луна осветила окрестность холодными лучами. Сон наваливается свинцовой тяжестью, голова падает.
Вдруг волчий вой разорвал тишину и расползся по морозной дали. Острый озноб пробежал по телу. Не поворачиваясь, я покосился на срез бугра, откуда донесся этот отвратительный звук. Там никого не было видно. Неужели учуяли?
Ждать пришлось долго. Наконец справа над логом внезапно появилась точка, похожая на пень. Она исчезла раньше, чем можно было рассмотреть ее. «Кажется, волк», – промелькнуло в голове. Я подтянул к себе винтовку.
Такая же точка появилась и исчезла слева, на голом склоне бугра. Видимо, звери рассматривали местность. У падали они очень осторожны, даже голод бессилен заставить их торопиться.
Медленно тянулись минуты ожидания. Казалось, что время прекратило свой бег. Но вот до слуха донесся осторожный шорох. Из тени лиственниц выступил волк. Его видно хорошо. Освещенный луною зверь стоял один вполоборота ко мне. Его морда была обращена в глубину ущелья, где прятался наш лагерь. Стоял он долго и казался пнем. Затем волк медленно повернул голову влево и, не взглянув на трупы, посмотрел через меня куда-то дальше.
Я чувствовал, как нетерпеливо стучит мое сердце. С трудом сдерживал волнение. А волк, бросив последний взгляд в пространство, вдруг вытянулся и, слегка приподняв морду, завыл злобно и тоскливо.
Что это? Тревога?… Нет, зверь стоял спокойно и тянул до того мерзко, нудно, что невольно по телу пробегали мурашки. Из-за лиственниц появились, как тени, один за другим пять волков. Они выстроились по следу переднего и, поворачивая голову, осматривали лог.
Ничто не выдавало нашего присутствия, и хищники осторожно двинулись вперед, часто задерживаясь и прислушиваясь. Ближе всех был самый матерый. Вот он подскочил к трупу оленя и внезапно замер, повернув свою лобастую морду в мою сторону. Заметил! Пора…
Вспыхнул огонек. Раскатистый выстрел хлестнул по логу и эхом пронесся по долине.
Волк высоко подпрыгнул и в бессильной злобе схватил окровавленной пастью снег. Остальные бросились к лиственницам. Я послал им вслед еще пару выстрелов.
– Хорошо, шибко хорошо стреляй! – закричал старик и полез через борт промоины. – А, проклятый, кушай больше не хочет?
Выстрел поднял на ноги жителей лагеря, там вспыхнул костер. Мы притащили волка на стоянку. Больше всех были удивлены наши собаки. Они впервые видели волка, морщили носы, проявляя сдержанное пренебрежение.
Рано утром мы покинули негостеприимную стоянку. На утоптанном снегу остались нарты от погибших оленей и туша ободранного волка. Наш маршрут теперь шел на север по ущелью Купури. Дни стояли солнечные, и путь не казался однообразным. Проводники торопились.
Ущелье все больше сужалось. Ближе подступали к нему высокие горы, сбрасывая на дно лощины потоки угловатых камней и перегораживая реку полуразрушенными скалами. Мы, как в лабиринте, пробирались меж высоких стен, исчерченных следами былых разрушений. Хотя солнце и поднялось, но в ущелье сумрак, кое-где прорезанный полосами яркого света, прорвавшегося сверху. От россыпей, вечно холодных и угрюмых, веяло промозглой сыростью. Неприветливо в этой каменной щели. Хорошо, что часто попадался лес, – он освежал мрачный пейзаж.
– Моод… моод… – слышался подбадривающий окрик Улукиткана. Олени, однообразно стуча копытами, легко бежали по льду, запорошенному снегом.
Солнце подбиралось к полудню. За очередным поворотом совершенно неожиданно показался темный, как вечернее небо, лед, перехвативший бугром ущелье. Олени Улукиткана выскочили наверх, но не удержались и стали сползать. Они путались в упряжках, падали, вскакивали, бились головами о лед, а следом за ними скатывался и сам старик. Пытаясь удержаться на скользком льду, он быстро перебирал ногами и беспомощно махал руками. Мы бросились на помощь.
Темный лед тянется и дальше за поворотом. Он почти прозрачный и такой гладкий, будто его поверхности коснулась рука полировщика. Это наледь, но уже замерзшая. Ее выпучило буграми, прорвало. Местами образовались глубокие трещины. Оленям по ней не пробраться, а обойти негде: справа россыпь, слева густой ельник, сбегающий к наледи по крутому склону.
Василий Николаевич отправился вперед искать проход. Общими силами поднимаем нарты на ледяную трассу и волоком вытаскиваем туда же оленей. Они совершенно беспомощны на льду.
– Нужно торопиться, вода идет, может затопить! – издали кричит Василий Николаевич.
– Плохо, если вода. Очень плохо, – забеспокоился Улукиткан. – Как пойдем?
У всех на лицах минутная растерянность. «Кажется, начинается то самое, чего мы ожидали и боялись», – подумал я.
Перетаскиваемся к ельнику и решаем прорубить в нем проход. Дружно стучат топоры. Узкая просека, обходя валежник, камни, петляет по темной чаще леса. Почти три часа потратили на прокладку дороги.
Вернувшись к оленям, наскоро пьем чай, увязываем покрепче груз и трогаемся. Впереди на лыжах идет Улукиткан, ведя на длинном ремне пару лучших оленей, запряженных в порожнюю нарту. За ними – нарты с легким грузом, а затем и остальные. На просеке лежит метровый снег, как песок.
– У-юю… у-юю… – беспрерывно слышится крик Улукиткана.
Вся тяжесть прокладки дороги ложится на переднюю пару оленей. Они по брюхо грузнут в снегу, продвигаются прыжками, сбивают друг друга, падают. Легче идут вторая и третья пары. Сзади беспрерывно слышится крик:
– Стой… стой…
Нарты то и дело переворачиваются на косогоре, цепляются за колодник, пни. Часто рвутся ремни. Идем все медленнее. Олени дышат тяжело, падая, уже не встают без понуканий.
Вечереет… Мороз сушит слегка размягший за день снег. От россыпей несет застойной сыростью. Стайки синиц торопливо летят в боковое ущелье, видно на ночевку.
Мы на краю просеки. Впереди по льду ползет кисельной гущей снежница. Улукиткан устало склонился на посох, а зоркие глаза пытливо обшаривают ущелье.