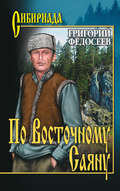Григорий Федосеев
В тисках Джугдыра
Ушел и Трофим.
Хлюст посмотрел на меня и, хитро щуря левый глаз, сказал:
– Оставайся, дяденька, у нас, работать научим, жить будешь во как! Покажи-ка пальцы!
Он взглянул на мои руки и, пренебрежительно оттопырив нижнюю губу, отправился следом за своими. Мальчишка не шел, а чертил босыми ногами по пыльной дороге и, скользя между прохожими, успевал на ходу всех рассмотреть. «Ну и Хлюст!» – подумал я.
Я уезжал из Баку, досадуя на себя, что не сумел переломить Трофима.
Поезд отходил. На перроне было безлюдно. Вдруг из-за багажного склада вынырнула подозрительная фигура, осмотрелась и побежала вдоль вагонов, заглядывая в окна. Я сразу узнал Трофима. У него в руках был небольшой сверток. Видимо, он искал меня. Но поезд набирал скорость, я не успел окликнуть Трофима, и он отстал.
В ту ночь я долго не мог заснуть. Перед глазами был Трофим на краю перрона, со свертком в руках, с невысказанными мыслями. Я почувствовал какую-то ответственность за его будущее. В той среде, где он жил, были свои законы, свои понятия о честности и о людях. Проявление задушевных качеств к тем, кто находился за чертой заброшенных подвалов, карьеров, ям, считалось там величайшим позором. Трофим перешагнул этот закон, пришел к поезду… Что же делать? Вернуться, разыскать и забрать его с собой? Но тут же передо мною вставали его спутники – дерзкий Хлюст и красивая Любка, видимо имевшая большое влияние на Трофима.
Экспедиция, закончив работу в Муганской степи, перебазировалась в Дашкесан – горный армянский поселок. Мы жили на станции Евлах, ожидая вагоны для погрузки имущества и лошадей. Как-то вечером сидели у костра.
– Чья-то собака пришла, не поймать ли ее? – сказал один из рабочих, глядя в темноту.
Все повернулись. В тридцати метрах от нас стоял большой пес. Он вытягивал к нам голову, нюхая воздух, и, видимо уловив знакомый запах, добродушно завилял хвостом.
– Да ведь это Казбек!
Я подбросил в костер охапку мелкого сушняка. Пламя вспыхнуло, и в поредевшей темноте позади собаки показался Трофим. Он подошел к костру, окинул всех усталым взглядом.
– Здравствуйте! Хотел искать вас в степи, да вот палатки увидел и пришел.
Мы молча осматривали друг друга. На лице Трофима лежала немая печать пережитого несчастья. Он стоял перед нами доверчивый и близкий…
Была полночь. В палатке давно погасли свечи. Вдруг я почувствовал чье-то прикосновение.
– Вы спите?
– Это ты, Трофим?
– Я. У вас нет кокаина? Дайте немного, на кончик ножа, слышите?… – И его голос дрогнул.
– Что с тобой, Трофим?
– Все кончено. Нет больше Ермака. Я бежал к вам. Дайте мне кокаина, мне бы только забыться…
Мы переехали в Дашкесан и полностью отдались работе. Трофим робко и недоверчиво присматривался к новой жизни. Захваченный воспоминанием или внутренними противоречиями, парень обнимал Казбека и до боли тискал его или молча сидел, с грустью глядя на всех.
Мы должны были противопоставить его прошлому что-то сильное, способное увлечь юношу. Надо было отучить его нюхать кокаин, приучить умываться, носить белье, разговаривать с товарищами и, самое главное, равнодушно смотреть на чужие чемоданы, бумажники, часы. Хорошо, что экспедиция состояла из молодежи, в основном из комсомольцев, чутких, волевых ребят. Они с любовью взялись за воспитание взрослого ребенка.
Между мною и Трофимом установилась дружба. Я по-прежнему не проявлял любопытства к его прошлому, веря, что у каждого человека бывает такое состояние, когда он сам ощущает потребность поделиться своими мыслями с близкими людьми.
Однажды я упаковывал посылку. В лагере никого не было, дежурил Трофим.
– Кому это вы готовите? – спросил он.
– Хочу матери послать немного сладостей.
– У вас есть мать?
– Есть.
Он печально посмотрел мне в глаза.
– А у меня умерла… Мы тогда переезжали жить к бабушке. Отца не помню. Мать заболела в поезде и померла на станции Грозный. Нас с сестренкой взяли чужие… Сестренка скоро умерла, а меня стали приучать к воровству. Сначала я крал у мальчишек, с кем играл. Если попадался на улице, били прохожие, но больше доставалось дома. Били чем попало, до крови и снова заставляли красть. Когда я приносил ворованные вещи, меня пытали, не скрыл ли я чего, и снова били. Они меня научили работать пальцами в чужих карманах, выбирать в толпе жертву, притворяться… В школу не пустили. Я сошелся с беспризорниками, убежал к ним и стал настоящим вором. Мне никогда не было жалко людей, никогда! Вы посмотрите! – и он вдруг, разорвав рубашку, повернулся ко мне спиной. – Видите шрамы? Так меня учили воровать!
…Шли дни, месяцы. Мы продолжали работать в Дашкесане и все больше привязывались к Трофиму. Он платил нам искренней дружбой, но открывался скупо, неохотно. Как-то нам нужно было получить в Ганджинском банке по чеку десять тысяч рублей. Все были заняты, и я послал Трофима, понадеявшись на него. Помню, как сейчас, он уезжал верхом на серой невзрачной лошаденке, и когда скрылся из глаз, меня вдруг обуяла тревога. А что, если он не вернется? И действительно, в назначенный день Трофим не приехал. Через день в лагерь прибежала его лошадь без седла и узды. Все так и решили: парень сбежал. В ночь я велел Беюкши запрягать лошадей. Не помню, как мы проехали в темноте по очень крутой и извилистой горной дороге, идущей от поселка Дашкесан.
Рассвет застал нас на равнине. На полях уже были сжаты хлеба. Беюкши поторапливал лошадей. Как только прояснело, впереди показался человек с узелком в руках… Это был Трофим.
Стало стыдно перед ним. Мы остановились.
– Вы куда едете? – удивился он.
– В Ганжу. Меня вызывают к прямому проводу, – ответил я, пытаясь скрыть истинную причину.
Он отрицательно покачал головою и улыбнулся.
– Нет, вы думали, что я сбежал… Напрасно беспокоитесь. Мне ведь некуда уходить от вас, а к деньгам непривычен. Я побоялся везти на лошади, отпустил ее, а сам переночевал в снопе и иду пешком. Так безопаснее.
Мы все же поехали в Ганжу. Всю дорогу меня не покидало чувство неловкости.
Спустя месяц, осенью, мы провожали на действительную службу Пугачева. Все, кроме Трофима, подарили на память Пугачеву какую-нибудь безделушку. В хозяйстве у Трофима еще ничего не было. Он увязался со мной на станцию Ганжа, куда я отправился провожать призывника. Мы не поспели к очередному поезду и вынуждены были сутки дожидаться следующего. На вокзале было душно, пришлось поставить близ станции палатку. Трофим весь день отсутствовал и появился только вечером.
– И я тебе принес подарок, – сказал он, взволнованно подавая Пугачеву карманные часы. – Хороши? Нравятся? Вспоминать будешь!
– Где ты их взял? – спросил я, встревоженный догадкой.
– На базаре, – ответил он гордо, будто перед ним стояли его прежние товарищи. – Знаете, и бумажник был в моих руках, да отобрал, стервец, – торопился он поделиться с нами. – Стоят два армянина, разговаривают, будто век не видались, я и потянул у одного из кармана деньги. Откуда-то подошел здоровенный мужик, цап меня за руку. Ты, говорит, что делаешь, сукин сын?! Молчи, пополам, – предложил я ему. Он отвел меня в сторону, отобрал деньги и надавал подзатыльников. Я тут же сказал армянину, свалил все на мужика, ну и пошла потеха…
– Для чего ты это сделал, Трофим? – спросил я, не на шутку обеспокоенный его поведением. – Бери часы и пойдем в милицию. Пора кончать с воровством.
– Что вы, в милицию! – испугался он. – Лучше я найду хозяина и отдам ему, только на базаре будут бить. Страшно ведь, уже отвык…
Я настоял, однако, на своем. В милиции пришлось подробно рассказать о Трофиме. Впервые, слушая свою биографию, он, сам того не заметив, поотрывал на рубашке все пуговицы.
Следователь подробно записал мои показания, допросил Трофима. Случай оказался необычным. Справедливость требовала оставить преступника на свободе, и пока я писал поручительство за него, между следователем и Трофимом произошел такой разговор:
– Будешь еще воровством заниматься?
– Не знаю… Хочу бросить, да трудно. С детства привык.
– Ты где до экспедиции проживал?
– В Баку.
– Городской, значит. С кем ты там работал?
– Жил с беспризорниками.
– Ермака знаешь? Он ведь главарь у вас!
Трофим вдруг насторожился, выпрямился и, стиснув губы, упрямо смотрел поверх следователя куда-то в окно. Пришлось вмешаться в разговор.
– Я ведь сказал вам, что парнишка уже год живет в экспедиции, поэтому вряд ли он что-либо скажет о Ермаке.
– Он знает. У них только допытаться нужно…
Следователь вышел из-за стола и, подойдя к Трофиму, испытующе заглянул ему в глаза. Мелкие рябинки на лице Трофима от напряжения заметно побелели. Видимо, невероятным усилием воли он сдерживал себя.
– Молчишь, значит знаешь! Говори, где скрывается Ермак, – уже разгневанно допытывался следователь.
Трофим продолжал невозмутимо смотреть в окно. Следователя явно бесило спокойствие парня. Он бросил на пол окурок, размял его сапогом, но, поборов гнев, уже спокойно сказал:
– Все равно найдем Ермака. Он от нас не уйдет, а тобой надо бы заняться: видно, добрый гусь. Не зря ли вы ручаетесь за него, ведь подведет, – добавил он, обратившись ко мне.
– Не подведу, коль в жизнь пошел, – ответил за меня Трофим с достоинством и покраснел, может быть, оттого, что еще не был уверен в своих словах.
– Ты только шкуру сменил, а воровать продолжаешь. Так далеко не уйдешь, – сказал следователь, принимая от меня письменное поручительство и часы.
Мы распрощались, и я с Трофимом вышел на улицу. Над станционным поселком плыло раскаленное солнце, затянутое прозрачной полумглой. Давила духота. По пыльной улице сонно шагал караван верблюдов, груженных вьюками.
– Разве я мог подумать, что мне придется раскаиваться в своих поступках и просить прощения? – вдруг заговорил Трофим надтреснутым голосом. – Ведь понимаю, что я уже не вор, но какая-то проклятая сила толкает меня на это. Простите. Мне стыдно перед вами, а с другой стороны, трудно отвыкнуть от привычки шарить по чужим карманам. Вы не рассказывайте в лагере ребятам…
– Когда же ты покончишь с воровскими делами?
Трофим молчал. Затаившееся в нем прошлое вдруг выплеснулось сегодня наружу и захватило его с прежней силой. Но в парне уже поселились иные желания, привязанность к людям, от которой ему не так легко было уйти. Он смотрел на меня ясными глазами, в которых не было скрыто раскаяние.
Мы проводили Пугачева. Трофим весь этот день оставался замкнутым. Я же был рад, что события дня породили в нем раздумье.
К сожалению, это был не последний случай.
В 1932 году наша экспедиция вела геотопографические работы на курорте Цхалтубо. Я с Трофимом возвращался в Тбилиси. На станции Кутаиси ждали прихода поезда. Трофим оставался у вещей, а я стоял у кассы. Необычно громко распахнулась дверь, и в зал ожидания ввалился, пошатываясь, мужчина. Окинув мутными глазами помещение, он небрежно кивнул головой носильщику и поставил два тяжелых чемодана возле Трофима.
– Билет… Батуми!.. – пробурчал вошедший, не взглянув на подбежавшего носильщика, и вытащил из левого кармана брюк толстую пачку крупных ассигнаций.
Носильщик ушел, а мужчина, подозрительно взглянув на Трофима, уселся на чемодан и стал всовывать деньги обратно в карман. Но это ему не удавалось. Углы кредиток так и остались торчать из его кармана. Мужчина был пьян. Он тер пухлыми руками раскрасневшееся лицо, мотал усатой головой, отбиваясь от наседающей дремоты, но не устоял и уснул. Вижу, Трофим заволновался, стал подвигаться к спящему все ближе и ближе, а сам делает вид, что тоже дремлет.
Одно мгновенье, и я стоял между ним и деньгами.
– Гражданин, слышите, гражданин, у вас выпадут деньги!
– Что ты пристаешь, места тебе нет, что ли?! – пробурчал спросонья тот. – Ну и люди!
– Приберите деньги, – настаивал я.
– Ах, деньги… – вдруг спохватился он, вскакивая и энергично заталкивая кредитки в карман.
Я повернулся к Трофиму. Он сидел бледный, с искаженным лицом. Из прикушенной губы сбегали на подбородок одна за другой капельки крови. Наши взгляды сошлись. Мы так понимали друг друга, что не было необходимости в словах. Но я не должен был вообще умолчать об этом случае. Уже в поезде, оставшись наедине с ним, я сказал:
– Зачем, Трофим, ты сделал мне сегодня больно?
– Вы мне верите? – вдруг спросил он, окинув меня искренним взглядом. – Я деньги вернул бы грузину, они мне не нужны. Виновата привычка. Знаю, нехорошо поступаю, но куда мне идти с таким прошлым?…
Трофим никуда не ушел. Он окончательно прижился у нас, освоился с лагерной обстановкой, с общежитием. Правда, ранее привыкнув к острым ощущениям, к дерзости, он долго не мирился с затишьем. Но время делало свое дело. Труд постепенно заполнил образовавшуюся в душе Трофима пустоту. В характере парня пробуждались черты доброго, отзывчивого товарища, и он заслуженно стал гордостью всего коллектива. Но прошлое еще напоминало Трофиму о себе.
Мы делали карту Ткварчельского каменноугольного месторождения. Шел 1933 год. Я собирался ехать в отпуск, проведать мать. Все уже было готово к отъезду. Ждали машину. Кто-то из провожавших сообщил, что видел Трофима с беспризорниками. Меня всегда беспокоили такие встречи, и я немедленно отправился на розыски.
Трофим оказался возле подвесного моста через реку Гализгу. С ним был молодой парень и Любка. Я остановился, не зная, что предпринять. Любка заметно подросла, возмужала. Черты ее лица стали еще выразительнее. Она в упор смотрела на Трофима, потом вдруг шагнула к нему и, развернувшись, хлестнула рукою по щеке. Раз, второй, третий. И все звонче, яростнее. Она была бесподобна в гневе! И вдруг все в ней погасло. Она отошла от Трофима, упала на канатные перила и заплакала.
«Нет, это уже не дружба. Это настоящая любовь», – подумал я, живо представив себе, какая опасность грозит Трофиму.
Тот подошел к ней, положил руку на плечо, но не сказал ни слова.
– Не хочешь вернуться? Уйди, продажная сволочь! – крикнула Любка, вскакивая и торопливо поправляя на голове косынку. Она хотела еще что-то сказать, но захлебнулась от злости. Оттолкнув Трофима, девушка схватила за руку парня, сидевшего рядом, и пошла с ним, легко скользя ногами по настилу. Уходила гордая, красивая.
Трофим бросился догонять их. Он бежал по раскачивающемуся мостику, хватался за канат и, наконец, остановился.
Я подошел к нему, загородив проход. Под нами пенистыми бурунами неслась Гализга. Вдали виднелись заснеженные вершины Кавказского хребта. Это было осенью. Леса пылали золотым отливом.
– Ты любишь ее? – спросил я, прерывая молчание.
Легкий румянец покрыл лицо Трофима.
– Я уговаривал ее остаться у нас. Да разве она бросит свое дело! Грозит мне, если не вернусь…
– Как она узнала, что ты здесь?
– Через беспризорников. После бегства Ермака из Баку там теперь Любка всеми руководит. Второй раз приехала.
– Об этом ты мне не говорил, а ведь обещал ничего не скрывать. Чем же Любка грозит?
– Она все может сделать…
– Ты хотел уйти с ней?
Трофим молчал. Видно, трудно ему было устоять против настойчивости такой властной и красивой девчонки. Что же делать? Не ехать в отпуск я не мог. Оставить Трофима одного было рискованно. Решил взять его с собой.
Он запротестовал. Ему, несомненно, хотелось еще встретиться с Любкой. Но я проявил настойчивость, и вечером того же дня мы с ним находились на теплоходе «Украина».
Моя мать знала о Трофиме из писем, и он не был для нее безразличен. Когда же мы приехали и она увидела его, воспылала к этому юноше настоящей материнской любовью, принесшей ей на старости лет много радости. А сколько заботы было! Трофиму за обедом лучший кусочек положит, и горбушку припасет, и сливок холодных, и початку молодую сварит, все для него, как для самого младшего сына. Парень бывало уснет, а она усядется у его изголовья, наденет очки и начнет штопать носки, белье, да так и задремлет, сидя возле него.
Во время этого отпуска Трофим сдружился с моей маленькой дочкой Риммой и племянницей Ирой. Странно было наблюдать за этим взрослым человеком, впервые попавшим в общество детей. Рассказывать им ему было нечего. Он не знал никаких игр, никогда не строил домики, не играл в прятки. Дети же необъяснимым чутьем все это угадали с первой встречи. И чего они только не делали с ним! То он был конем, на котором они путешествовали по двору, то петухом, и тогда его «кукареку» раздавалось чуть ли не на всю улицу. Играл он с увлечением, будто пытался восполнить утраченное детство.
Иногда, набегавшись, дети усаживались возле Трофима и рассказывали ему о коньке-горбунке, о богатырях, красной шапочке. Перед ним открывался сказочный мир, о котором он никогда не слышал…
Тогда Трофим впервые жил в семье, узнал материнскую любовь, видел, как проходит у ребят детство.
О прошлом он и теперь не любил рассказывать и только в минуты откровенности, когда мы оставались с ним наедине, вспоминал какой-нибудь случай из беспризорной жизни. Иногда говорил и о Ермаке. Это имя, как мне казалось, всегда для него являлось олицетворением мужества.
Мы переехали в Сибирь и включились в большую, интересную работу по созданию карт малоисследованных районов. Трофим возмужал, но не отличался хорошим здоровьем. Годы, прожитые в подвалах, и злоупотребление кокаином не дали молодому организму как следует окрепнуть. Трофим побывал с нами на Охотском побережье, в Тункинских Альпах, в Саянах, на Севере.
В 1941 году он ушел добровольцем на фронт. Война разлучила нас на пять лет, но экспедиция осталась для него родным домом. Он присылал нам проникновенные письма и всегда вспоминал в них как самое светлое первую нашу встречу у дороги и лагерь в Мильской степи. Ко времени демобилизации Трофим стал членом партии, имел звание капитана танковых войск. Нас он разыскал на Нижней Тунгуске и полностью отдался работе. Армейская жизнь, походы, бои влили в него большую жизнерадостность.
Как быстро пролетели годы! Ему ведь уже перевалило за тридцать лет.
Однажды мы с ним вечером засиделись в палатке.
– Не пора ли тебе, Трофим, жениться? Посмотри-ка, сколько у нас хороших девушек, – сказал я ему.
– Это не мои невесты.
– Неужели ты еще не забыл Любку?
– Нет. Да и не хочу забывать.
Спустя несколько лет, осенью, мы отдыхали с ним в Сочи. С возрастом у него все больше росла любовь к детям. Стоило Трофиму появиться на пляже, как ребятишки окружали его. Играя с детворой, он и сам превращался в ребенка. «Дядю Трошу» знали даже на соседних пляжах.
Как-то к Трофиму подошел бойкий мальчонка лет четырех, в новеньких голубых трусиках и серьезно потребовал покатать его.
– А у тебя проездной билет есть? – спросил Трофим.
– Есть, – ответил тот уверенно и исчез среди загоравшей публики.
– На, – возвратившись, сказал он и с гордостью подал фабричную этикетку, видимо, от своих трусиков.
– Билет-то, кажется, просроченный, – пошутил Трофим. – Как тебя зовут?
– Трошка, – ответил мальчик бойко.
– Трошка? – удивился тот, и лицо его вдруг стало грустным. Ему, вероятно, вспомнилось теперь уже далекое прошлое, заброшенные подвалы, трущобы. Овладев собой, он сказал:
– Садись! Тезку покатаю бесплатно!
Мальчик, довольный, влез на спину Трофиму, обнял пухлыми ручонками за шею, и «конь», окруженный детворою, побежал по гальке вдоль берега. Только скакал он неуверенно, вяло, словно отяжелел.
А следом бежала женщина и кричала:
– Трошка… Трошка…
Трофим вдруг остановился.
– Это мама меня зовет, – сказал мальчик, слезая с «коня» и устремляясь к матери.
Женщина и Трофим встретились взглядами, да так и замерли.
– Неужели… Любка?
– Трошка!.. – воскликнула та, бросаясь к нему.
Приумолкла детвора. Море дохнуло прохладой. Ленивая волна пробежала по гальке. Над пляжем беззаботно кружились крикливые чайки. Трофим и Любка стояли молча, держась за руки. Они могли так много сказать друг другу, но слова словно выпали из памяти. Какой безудержный прилив счастья должен испытать человек, когда он, спустя много- много лет, после томительных страданий встретил друга, к которому так долго хранил чувство любви и во имя которого переживал одиночество!..
Любка смотрела в открытые глаза Трофима. Она угадала все и смело потянулась навстречу.
Над морем плыло раскаленное солнце. В потоке расплавленных лучей серебрились крылья чаек. Жаркий ветерок нехотя скользил по пляжу. Детвора расходилась.
– Здравствуйте, Люба! – сказал я, протягивая ей руку.
Она покосилась на меня и, всматриваясь, пыталась что-то вспомнить.
– Ах, это вы! Неужели с тех пор вместе?
– Да, с тех пор мы вместе.
– Нина Георгиевна, – отрекомендовалась она, и мы пожали друг другу руки. – Любка – это было не мое имя.
…Мы с Трофимом занимали комнату в санатории «Ривьера». Вечером в тот же день Нина Георгиевна пришла к нам, и сразу завязался разговор о наших встречах, о прошлом.
Передо мною была женщина, лет тридцати. Те же пылкие глаза, тонкие губы и раздвоенный подбородок. На правой щеке – чуть заметный шрам, а под глазами уже наметилась сетка морщинок. Во взгляде не осталось прежней девичьей дерзости. Нина Георгиевна была одета просто, но со вкусом. С прямых плеч низко спадало шифоновое платье, перехваченное в талии тоненьким пояском. Обнаженные полные руки лоснились от загара. Крупные локоны черных густых волос спадали на смуглую шею.
– Могла ли я когда-нибудь поверить, что дерзкая девчонка Любка, профессиональная преступница, полюбит людей и труд? После бегства Ермака из Баку я стала заправилой. Мне нравилось командовать мальчишками, меня боялись, слушались. Провинившихся я с наслаждением шлепала по щекам. А теперь страшно подумать, какое терпение проявлял к нам советский народ и чего он только не прощал нам. А сколько раз меня щадил закон! Но все кончилось тюрьмой. Глупая была, и там задавала концерты, да еще с такими вариациями! Позже люди надоумили бросить все и жить, как все живут. Из тюрьмы вышла – не знаю, куда идти. Одна. Ни к чему не приспособлена. Поступила на табачную фабрику, и опять люди приласкали меня, определили в школу для взрослых. И словно второй раз родилась. Скоро бригадиром стала, замуж за нашего же инженера вышла. Теперь, когда на душе покой, а вокруг большая интересная жизнь, жутко оглянуться на прошлое. Нет в нем настоящего детства, ни радости юношеских дней… Смотрю я на своего маленького Трошку и завидую.
Трофим все свободное от процедур время проводил с ней. Перед отъездом он ходил мрачный. И вот однажды в нашей комнате я застал заплаканную Нину Георгиевну и очень расстроенного Трофима.
– Будьте вы моим судьею, – сказала она, обращаясь ко мне, и в ее голосе послышалось отчаяние. – Я люблю Трофима, но я замужем, у меня сын и больной туберкулезом муж. Могу ли я бросить человека, который так много сделал для меня и для которого мой уход равносилен смерти? Трофим не хочет понять, что это было бы бесчеловечно.
– Пойми и ты, Нина, – перебил ее Трофим, – не во имя ли большого чувства к тебе я остался одиноким? Я пронес любовь через годы, бои, бессонные ночи. Пятнадцать лет я берег надежду, что мы встретимся. И теперь ты взываешь к человечности. Разве я также не имею права хотя бы на маленькое счастье? Впрочем, решай сама. Я не хочу выпрашивать, я ко многому привык в жизни.
– Ты достоин и счастья, и хорошей семьи, и мне больно выслушивать эти упреки, – сказала Нина, с трудом сдерживая волнение. – Жизнь оказалась куда сложнее, чем мы ее представляли когда-то в подвалах. Я по-прежнему люблю тебя, Трофим, и ты мне самый близкий человек. Но я не могу, понимаешь, не могу разрушить семью… И ты не зови меня к себе. Может быть, это по отношению к тебе жестоко, но знаешь ли ты, какими страданиями я заплачу за нашу встречу?!
Она вдруг отошла к раскрытому окну. Плакала молча. А за окном, как в день их первой встречи, море ленивой волной перебирало гальку и так же серебрились в лучах раскаленного солнца крылья беззаботных чаек.
Мы с Трофимом уехали в Саяны в экспедицию, а Нина Георгиевна вернулась в Ростов к мужу.
Трофим загрустил. Ни горы, ни тайга не веселили его. Работой глушил он свое чувство. Не в меру стал рисковать. А Нина Георгиевна, видимо, решила окончательно порвать с ним. Вот уже год, как она перестала отвечать на письма. Даже на мои.
Все это вспомнилось мне в ту ночь на Зейской косе, когда мы получили тревожную радиограмму. Я не допускал мысли, что события на Алгычанском пике как-то связаны с настроением Королева. Нет. Трофим слишком любил жизнь! Но что же случилось в горах?
Не отказавшись от намерения посетить весной район стыка трех хребтов: Джугдыра, Станового и Джугджура, мы оставили на косе часть своего груза. Здесь же дождутся нашего возвращения и проводники с оленями. Кириллу Родионовичу Лебедеву я предложил пробиваться со своими людьми на нартах в верховья реки Май и разворачивать работу. А сам с Мищенко и Чернышевым вылетел на помощь Трофиму.