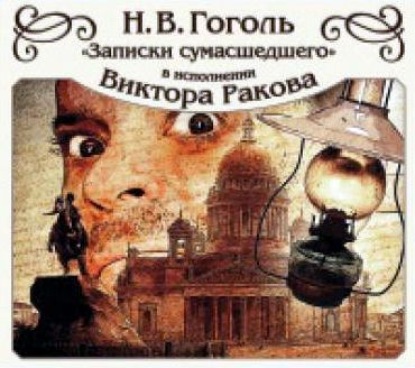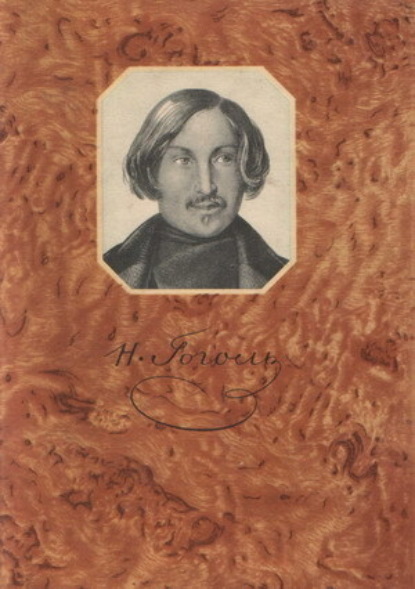 Полная версия
Полная версияПолная версия:
Николай Васильевич Гоголь Нос
- + Увеличить шрифт
- - Уменьшить шрифт

Николай Васильевич Гоголь
Нос
Марта 25 числа случилось в Петербурге необыкновенно-странное происшествие. Цырюльник Иван Яковлевич, живущий на Вознесенском проспекте (фамилия его утрачена, и даже на вывеске его – где изображен господин с намыленною щекою и надписью: «и кровь отворяют» – не выставлено ничего более), цырюльник Иван Яковлевич проснулся довольно рано и услышал запах горячего хлеба. Приподнявшись немного на кровати, он увидел, что супруга его, довольно почтенная дама, очень любившая пить кофий, вынимала из печи только что испеченные хлебы.
«Сегодня я, Прасковья Осиповна, не буду пить кофий», – сказал Иван Яковлевич: – «а вместо того хочется мне съесть горячего хлебца с луком.» (То есть Иван Яковлевич хотел бы и того и другого, но знал, что было совершенно невозможно требовать двух вещей разом: ибо Прасковья Осиповна очень не любила таких прихотей.) Пусть дурак ест хлеб; мне же лучше» – подумала про себя супруга: «останется кофию лишняя порция.» И бросила один хлеб на стол.
Иван Яковлевич для приличия надел сверх рубашки фрак и, усевшись перед столом, насыпал соль, приготовил две головки луку, взял в руки нож и, сделавши значительную мину, принялся резать хлеб. – Разрезавши хлеб на две половины, он поглядел в середину и к удивлению своему увидел что-то белевшееся. Иван Яковлевич ковырнул осторожно ножом и пощупал пальцем: «Плотное?» – сказал он сам про себя: «что бы это такое было?»
Он засунул пальцы и вытащил – нос!.. Иван Яковлевич и руки опустил; стал протирать глаза и щупать: нос, точно нос! и еще, казалось, как будто чей-то знакомый. Ужас изобразился в лице Ивана Яковлевича. Но этот ужас был ничто против негодования, которое овладело его супругою.
«Где это ты, зверь, отрезал нос?» закричала она с гневом. – «Мошенник! пьяница! Я сама на тебя донесу полиции. Разбойник какой! Вот уж я от трех человек слышала, что ты во время бритья так теребишь за носы, что еле держатся.»
Но Иван Яковлевич был ни жив, ни мертв. Он узнал, что этот нос был ни чей другой, как коллежского асессора Ковалева, которого он брил каждую середу и воскресенье.
«Стой, Прасковья Осиповна! Я положу его, завернувши в тряпку, в уголок: пусть там маленечко полежит; а после его вынесу.»
«И слушать не хочу! Чтобы я позволила у себя в комнате лежать отрезанному носу?.. Сухарь поджаристый! Знай умеет только бритвой возить по ремню, а долга своего скоро совсем не в состоянии будет исполнять, потаскушка, негодяй! Чтобы я стала за тебя отвечать полиции?.. Ах ты пачкун, бревно глупое! Вон его! вон! неси куда хочешь! чтобы я духу его не слыхала!»
Иван Яковлевич стоял совершенно как убитый. Он думал, думал – и не знал, что подумать. «Чорт его знает, как это сделалось», сказал он наконец, почесав рукою за ухом. «Пьян ли я вчера возвратился, или нет, уж наверное сказать не могу. А по всем приметам должно быть происшествие несбыточное: ибо хлеб – дело печеное, а нос совсем не то. Ничего не разберу!.. » Иван Яковлевич замолчал. Мысль о том, что полицейские отыщут у него нос и обвинят его, привела его в совершенное беспамятство. Уже ему мерещился алый воротник, красиво вышитый серебром, шпага… и он дрожал всем телом. Наконец, достал он свое исподнее платье и сапоги, натащил на себя всю эту дрянь и, сопровождаемый нелегкими увещаниями Прасковьи Осиповны, завернул нос в тряпку и вышел на улицу.
Он хотел его куда-нибудь подсунуть: или в тумбу под воротами, или так как-нибудь нечаянно выронить, да и повернуть в переулок. Но на беду ему попадался какой-нибудь знакомый человек, который начинал тотчас запросом: «куда идешь?» или «кого так рано собрался брить?» так что Иван Яковлевич никак не мог улучить минуты. В другой раз он уже совсем уронил его, но будошник еще издали указал ему алебардою, примолвив: «подыми! вон ты что-то уронил!» И Иван Яковлевич должен был поднять нос и спрятать его в карман. Отчаяние овладело им, тем более что народ беспрестанно умножался на улице, по мере того как начали отпираться магазины и лавочки.
Он решился итти к Исакиевскому мосту: не удастся ли как-нибудь швырнуть его в Неву?.. Но я несколько виноват, что до сих пор не сказал ничего об Иване Яковлевиче, человеке почтенном во многих отношениях.
Иван Яковлевич, как всякий порядочный русский мастеровой, был пьяница страшный. И хотя каждый день брил чужие подбородки, но его собственный был у него вечно не брит. Фрак у Ивана Яковлевича (Иван Яковлевич никогда не ходил в сюртуке) был пегий, то есть он был черный, но весь в коричнево-желтых и серых яблоках; воротник лоснился; а вместо трех пуговиц висели одни только ниточки. Иван Яковлевич был большой циник, и когда коллежский асессор Ковалев обыкновенно говорил ему во время бритья: «у тебя, Иван Яковлевич, вечно воняют руки!», то Иван Яковлевич отвечал на это вопросом: «отчего ж бы им вонять?» – «Не знаю, братец, только воняют», говорил коллежский асессор, – и Иван Яковлевич, понюхавши табаку, мылил ему за это и на щеке, и под носом, и за ухом, и под бородою, одним словом, где только ему была охота.
Этот почтенный гражданин находился уже на Исакиевском мосту. Он прежде всего осмотрелся; потом нагнулся на перила будто бы посмотреть под мост: много ли рыбы бегает, и швырнул потихоньку тряпку с носом. Он почувствовал, как будто бы с него разом свалилось десять пуд: Иван Яковлевич даже усмехнулся. Вместо того, чтобы итти брить чиновничьи подбородки, он отправился в заведение с надписью: «Кушанье и чай» спросить стакан пуншу, как вдруг заметил в конце моста квартального надзирателя благородной наружности, с широкими бакенбардами, в треугольной шляпе, со шпагою. Он обмер; а между тем квартальный кивал ему пальцем и говорил: «А подойди сюда, любезный!»
Иван Яковлевич, зная форму, снял издали еще картуз и, подошедши проворно, сказал: «Желаю здравия вашему благородию!»
«Нет, нет, братец, не благородию; скажи-ка, что ты там делал, стоя на мосту?»
«Ей богу, сударь, ходил брить, да посмотрел только, шибко ли река идет.»
«Врешь, врешь! Этим не отделаешься. Изволь-ка отвечать!»
«Я вашу милость два раза в неделю, или даже три, готов брить без всякого прекословия», отвечал Иван Яковлевич.
«Нет, приятель, это пустяки! Меня три цырюльника бреют, да еще и за большую честь почитают. А вот изволь-ка рассказать, что ты там делал?»
Иван Яковлевич побледнел… Но здесь происшествие совершенно закрывается туманом, и что далее произошло, решительно ничего неизвестно.
II
Коллежский асессор Ковалев проснулся довольно рано и сделал губами: «брр… », что всегда он делал, когда просыпался, хотя сам не мог растолковать, по какой причине. Ковалев потянулся, приказал себе подать небольшое, стоявшее на столе, зеркало. Он хотел взглянуть на прыщик, который вчерашнего вечера вскочил у него на носу; но к величайшему изумлению увидел, что у него вместо носа совершенно гладкое место! Испугавшись, Ковалев велел подать воды и протер полотенцем глаза: точно нет носа! Он начал щупать рукою, чтобы узнать: не спит ли он? кажется, не спит. Коллежский асессор Ковалев вскочил с кровати, встряхнулся: нет носа!.. Он велел тотчас подать себе одеться и полетел прямо к обер-полицмейстеру.
Но между тем необходимо сказать что-нибудь о Ковалеве, чтобы читатель мог видеть, какого рода был этот коллежский асессор. Коллежских асессоров, которые получают это звание с помощию ученых аттестатов, никак нельзя сравнивать с теми коллежскими асессорами, которые делались на Кавказе. Это два совершенно особенные рода. Ученые коллежские асессоры… Но Россия такая чудная земля, что если скажешь об одном коллежском асессоре, то все коллежские асессоры, от Риги до Камчатки, непременно примут на свой счет. То же разумей и о всех званиях и чинах. – Ковалев был кавказский коллежский асессор. Он два года только еще состоял в этом звании и потому ни на минуту не мог его позабыть; а чтобы более придать себе благородства и веса, он никогда не называл себя коллежским асессором, но всегда маиором. «Послушай, голубушка», – говорил он обыкновенно, встретивши на улице бабу, продававшую манишки: – «ты приходи ко мне на дом; квартира моя в Садовой; спроси только: здесь ли живет маиор Ковалев – тебе всякой покажет.» Если же встречал какую-нибудь смазливенькую, то давал ей сверх того секретное приказание, прибавляя: «Ты спроси, душенька, квартиру маиора Ковалева.» – Поэтому-то самому и мы будем вперед этого коллежского асессора называть маиором.
Маиор Ковалев имел обыкновение каждый день прохаживаться по Невскому проспекту. Воротничек его манишки был всегда чрезвычайно чист и накрахмален. Бакенбарды у него были такого рода, какие и теперь еще можно видеть у губернских, поветовых землемеров, у архитекторов и полковых докторов, также у отправляющих разные полицейские обязанности и, вообще, у всех тех мужей, которые имеют полные румяные щеки и очень хорошо играют в бостон: эти бакенбарды идут по самой средине щеки и прямехонько доходят до носа. Маиор Ковалев носил множество печаток сердоликовых и с гербами, и таких, на которых было вырезано: середа, четверг, понедельник и проч. Маиор Ковалев приехал в Петербург по надобности, а именно искать приличного своему званию места: если удастся, то вице-губернаторского, а не то – экзекуторского в каком-нибудь видном департаменте. Маиор Ковалев был не прочь и жениться; но только в таком случае, когда за невестою случится двести тысяч капиталу. И потому читатель теперь может судить сам: каково было положение этого маиора, когда он увидел, вместо довольно недурного и умеренного носа, преглупое, ровное и гладкое место.
Как на беду, ни один извозчик не показывался на улице, и он должен был итти пешком, закутавшись в свой плащ и закрывши платком лицо, показывая вид, как будто у него шла кровь. «Но авось-либо мне так представилось: не может быть, чтобы нос пропал сдуру», подумал он и зашел в кондитерскую нарочно с тем, чтобы посмотреться в зеркало. К счастию, в кондитерской никого не было: мальчишки мели комнаты и расставляли стулья; некоторые с сонными глазами выносили на подносах горячие пирожки; на столах и стульях валялись залитые кофием вчерашние газеты. «Ну, слава богу, никого нет» – произнес он: – «теперь можно поглядеть». Он робко подошел к зеркалу и взглянул: «Чорт знает что, какая дрянь!» произнес он, плюнувши… «Хотя бы уже что-нибудь было вместо носа, а то ничего!..»
С досадою закусив губы, вышел он из кондитерской и решился, против своего обыкновения, не глядеть ни на кого и никому не улыбаться. Вдруг он стал как вкопанный у дверей одного дома; в глазах его произошло явление неизъяснимое: перед подъездом остановилась карета; дверцы отворились; выпрыгнул, согнувшись, господин в мундире и побежал вверх по лестнице. Каков же был ужас и вместе изумление Ковалева, когда он узнал, что это был собственный его нос! При этом необыкновенном зрелище, казалось ему, всё переворотилось у него в глазах; он чувствовал, что едва мог стоять; но решился во что бы ни стало ожидать его возвращения в карету, весь дрожа как в лихорадке. Чрез две минуты нос действительно вышел. Он был в мундире, шитом золотом, с большим стоячим воротником; на нем были замшевые панталоны; при боку шпага. По шляпе с плюмажем можно было заключить, что он считался в ранге статского советника. По всему заметно было, что он ехал куда-нибудь с визитом. Он поглядел на обе стороны, закричал кучеру: «подавай!», сел и уехал.
Бедный Ковалев чуть не сошел с ума. Он не знал, как и подумать о таком странном происшествии. Как же можно, в самом деле, чтобы нос, который еще вчера был у него на лице, не мог ездить и ходить, – был в мундире! Он побежал за каретою, которая, к счастию, проехала недалеко и остановилась перед Казанским собором.
Он поспешил в собор, пробрался сквозь ряд нищих старух с завязанными лицами и двумя отверстиями для глаз, над которыми он прежде так смеялся, и вошел в церковь. Молельщиков внутри церкви было немного; они все стояли только при входе в двери. Ковалев чувствовал себя в таком расстроенном состоянии, что никак не в силах был молиться, и искал глазами этого господина по всем углам. Наконец увидел его стоявшего в стороне. Нос спрятал совершенно лицо свое в большой стоячий воротник и с выражением величайшей набожности молился.
«Как подойти к нему?» думал Ковалев. «По всему, по мундиру, по шляпе видно, что он статский советник. Чорт его знает, как это сделать!»
Он начал около него покашливать; но нос ни на минуту не оставлял набожного своего положения и отвешивал поклоны.
«Милостивый государь… » – сказал Ковалев, внутренно принуждая себя ободриться: – «милостивый государь… »
«Что вам угодно?» – отвечал нос, оборотившись.
«Мне странно, милостивый государь… мне кажется… вы должны знать свое место. И вдруг я вас нахожу и где же? – в церкви. Согласитесь… »
«Извините меня, я не могу взять в толк, о чем вы изволите говорить… Объяснитесь.»
«Как мне ему объяснить?» подумал Ковалев и, собравшись с духом, начал: «Конечно я… впрочем я маиор. Мне ходить без носа, согласитесь, это неприлично. Какой-нибудь торговке, которая продает на Воскресенском мосту очищенные апельсины, можно сидеть без носа; но, имея в виду получить губернаторское место,… притом будучи во многих домах знаком с дамами: Чехтарева, статская советница, и другие… Вы посудите сами… я не знаю, милостивый государь… (При этом маиор Ковалев пожал плечами)… Извините… если на это смотреть сообразно с правилами долга и чести… вы сами можете понять… »
«Ничего решительно не понимаю», – отвечал нос. «Изъяснитесь удовлетворительнее.»
«Милостивый государь… » – сказал Ковалев с чувством собственного достоинства: – «я не знаю, как понимать слова ваши… Здесь всё дело, кажется, совершенно очевидно… Или вы хотите… Ведь вы мой собственный нос!»
Нос посмотрел на маиора, и брови его несколько нахмурились.
– «Вы ошибаетесь, милостивый государь. Я сам по себе. Притом между нами не может быть никаких тесных отношений. Судя по пуговицам вашего виц-мундира, вы должны служить в сенате или, по крайней мере, по юстиции. Я же по ученой части.» Сказавши это, нос отвернулся и продолжал молиться.
Ковалев совершенно смешался, не зная, что̀ делать и что̀ даже подумать. В это время послышался приятный шум дамского платья: подошла пожилая дама, вся убранная кружевами, и с нею тоненькая, в белом платье, очень мило рисовавшемся на ее стройной талии, в палевой шляпке легкой как пирожное. За ними остановился и открыл табакерку высокий гайдук с большими бакенбардами и целой дюжиной воротников.
Ковалев выступил поближе, высунул батистовый воротничек манишки, поправил висевшие на золотой цепочке свои печатки и, улыбаясь по сторонам, обратил внимание на легонькую даму, которая, как весенний цветочек, слегка наклонялась и подносила ко лбу свою беленькую ручку с полупрозрачными пальцами. Улыбка на лице Ковалева раздвинулась еще далее, когда он увидел из-под шляпки ее кругленький, яркой белизны подбородок и часть щеки, осененной цветом первой весенней розы. Но вдруг он отскочил, как будто бы обжёгшись. Он вспомнил, что у него вместо носа совершенно нет ничего, и слезы выдавились из глаз его. Он оборотился с тем, чтобы напрямик сказать господину в мундире, что он только прикинулся статским советником, что он плут и подлец и что он больше ничего, как только его собственный нос… Но носа уже не было: он успел ускакать, вероятно, опять к кому-нибудь с визитом.
Это повергло Ковалева в отчаяние. Он пошел назад и остановился с минуту под колоннадою, тщательно смотря во все стороны, не попадется ли где нос. Он очень хорошо помнил, что шляпа на нем была с плюмажем и мундир с золотым шитьем; но шинель не заметил, ни цвета его кареты, ни лошадей, ни даже того, был ли у него сзади какой-нибудь лакей и в какой ливрее. Притом карет неслось такое множество взад и вперед и с такою быстротою, что трудно было даже приметить; но если бы и приметил он какую-нибудь из них, то не имел бы никаких средств остановить. День был прекрасный и солнечный. На Невском народу была тьма; дам целый цветочный водопад сыпался по всему тротуару, начиная от Полицейского до Аничкина моста. Вон и знакомый ему надворный советник идет, которого он называл подполковником, особливо, ежели то случалось при посторонних. Вон и Ярыжкин, столоначальник в сенате, большой приятель, который вечно в бостоне обремизивался, когда играл восемь. Вон и другой маиор, получивший на Кавказе асессорство, махает рукой, чтобы шел к нему…
«А чорт возьми!» – сказал Ковалев. «Эй, извозчик, вези прямо к обер-полицмейстеру!»
Ковалев сел в дрожки и только покрикивал извозчику: «валяй во всю ивановскую!»
«У себя обер-полицмейстер?» вскричал он, зашедши в сени.
«Никак нет», отвечал привратник: – «только что уехал.»
«Вот тебе раз!»
«Да», – прибавил привратник – «оно и не так давно, но уехал. Минуточкой бы пришли раньше, то, может, застали бы дома.»
Ковалев, не отнимая платка от лица, сел на извозчика и закричал отчаянным голосом: «пошел!»
«Куда?» сказал извозчик.
«Пошел прямо!»
«Как прямо? тут поворот: направо или налево?»
Этот вопрос остановил Ковалева и заставил его опять подумать. В его положении следовало ему прежде всего отнестись в Управу благочиния, не потому что оно имело прямое отношение к полиции, но потому, что ее распоряжения могли быть гораздо быстрее, чем в других местах; искать же удовлетворения по начальству того места, при котором нос объявил себя служащим, было бы безрассудно, потому что из собственных ответов носа уже можно было видеть, что для этого человека ничего не было священного, и он мог так же солгать и в этом случае, как солгал, уверяя, что он никогда не видался с ним. Итак, Ковалев уже хотел было приказать ехать в Управу благочиния, как опять пришла мысль ему, что этот плут и мошенник, который поступил уже при первой встрече таким бессовестным образом, мог опять удобно, пользуясь временем, как-нибудь улизнуть из города, – и тогда все искания будут тщетны, или могут продолжиться, чего боже сохрани, на целый месяц. Наконец, казалось, само небо вразумило его. Он решился отнестись прямо в газетную экспедицию и заблаговременно сделать публикацию с обстоятельным описанием всех качеств, дабы всякий, встретивший его, мог в ту же минуту его представить к нему или по крайней мере дать знать о месте пребывания. Итак он, решив на этом, велел извозчику ехать в газетную экспедицию, и во всю дорогу не переставал его тузить кулаком в спину, приговаривая: «скорей, подлец! скорей, мошенник!» – «Эх, барин!» говорил извозчик, потряхивая головой и стегая возжей свою лошадь, на которой шерсть была длинная как на болонке. Дрожки наконец остановились, и Ковалев, запыхавшись, вбежал в небольшую приемную комнату, где седой чиновник, в старом фраке и очках, сидел за столом и, взявши в зубы перо, считал принесенные медные деньги.
«Кто здесь принимает объявления?» закричал Ковалев. «А, здравствуйте!»
«Мое почтение», – сказал седой чиновник, поднявши на минуту глаза и опустивши их снова на разложенные кучи денег.
«Я желаю припечатать…»
«Позвольте. Прошу немножко повременить», – произнес чиновник, ставя одною рукою цыфру на бумаге и передвигая пальцами левой руки два очка на счетах. Лакей с галунами и наружностию, показывавшею пребывание его в аристократическом доме, стоял возле стола с запискою в руках и почел приличным показать свою общежительность: «Поверите ли, сударь, что собачонка не сто̀ит восьми гривен, т. е. я не дал бы за нее и восьми грошей; а графиня любит, ей богу, любит, – и вот тому, кто ее отыщет, сто рублей! Если сказать по приличию, то вот так, как мы теперь с вами, вкусы людей совсем не совместны: уж когда охотник, то держи лягавую собаку или пуделя; не пожалей пятисот, тысячу дай, но зато уж чтоб была собака хорошая.»
Почтенный чиновник слушал это с значительною миною, и в то же время занимался сметою: сколько букв в принесенной записке. По сторонам стояло множество старух, купеческих сидельцев и дворников с записками. В одной значилось, что отпускается в услужение кучер трезвого поведения; в другой – малоподержанная коляска, вывезенная в 1814 году из Парижа; там отпускалась дворовая девка 19 лет, упражнявшаяся в прачешном деле, годная и для других работ; прочные дрожки без одной рессоры, молодая горячая лошадь в серых яблоках, семнадцати лет от роду, новые полученные из Лондона семена репы и редиса, дача со всеми угодьями: двумя стойлами для лошадей и местом, на котором можно развести превосходный березовый или еловый сад; там же находился вызов желающих купить старые подошвы, с приглашением явиться к переторжке каждый день от 8 до 3 часов утра. Комната, в которой местилось всё это общество, была маленькая, и воздух в ней был чрезвычайно густ; но коллежский асессор Ковалев не мог слышать запаха, потому что закрылся платком, и потому что самый нос его находился бог знает в каких местах.
«Милостивый государь, позвольте вас попросить… Мне очень нужно», – сказал он наконец с нетерпением.
– «Сейчас, сейчас! Два рубля сорок три копейки! Сию минуту! Рубль шестьдесят четыре копейки!» говорил седовласый господин, бросая старухам и дворникам записки в глаза. «Вам что угодно?» наконец сказал он, обратившись к Ковалеву.
«Я прошу… » сказал Ковалев: «случилось мошенничество, или плутовство, я до сих пор не могу никак узнать. Я прошу только припечатать, что тот, кто ко мне этого подлеца представит, получит достаточное вознаграждение.»
– «Позвольте узнать, как ваша фамилия?»
«Нет, зачем же фамилию? Мне нельзя сказать ее. У меня много знакомых: Чехтарева, статская советница, Палагея Григорьевна Подточина, штаб-офицерша… Вдруг узнают, боже сохрани! Вы можете просто написать: коллежский асессор, или, еще лучше, состоящий в маиорском чине.»
«А сбежавший был ваш дворовый человек?»
«Какое, дворовый человек? Это бы еще не такое большое мошенничество! Сбежал от меня… нос… »
«Гм! какая странная фамилия! И на большую сумму этот г. Носов обокрал вас?»
«Нос, то есть… вы не то думаете! Нос, мой собственный нос пропал неизвестно куда. Чорт хотел подшутить надо мною!»
«Да каким же образом пропал? Я что-то не могу хорошенько понять.»
«Да я не могу вам сказать, каким образом; но главное то, что он разъезжает теперь по городу и называет себя статским советником. И потому я вас прошу объявить, чтобы поймавший представил его немедленно ко мне в самом скорейшем времени. Вы посуди́те, в самом деле, как же мне быть без такой заметной части тела? это не то, что какой-нибудь мизинный палец на ноге, которую я в сапог – и никто не увидит, если его нет. Я бываю по четвергам у статской советницы Чехтаревой; Подточина Палагея Григорьевна, штаб-офицерша, и у ней дочка очень хорошенькая, тоже очень хорошие знакомые, и вы посудите сами, как же мне теперь… Мне теперь к ним нельзя явиться.»
Чиновник задумался, что означали крепко сжавшиеся губы.
– «Нет, я не могу поместить такого объявления в газетах» – сказал он наконец после долгого молчания.
«Как? отчего?»
– «Так. Газета может потерять репутацию. Если всякий начнет писать, что у него сбежал нос, то… И так уже говорят, что печатается много несообразностей и ложных слухов.»
«Да чем же это дело несообразное? Тут, кажется, ничего нет такого.»
«Это вам так кажется, что нет. А вот, на прошлой неделе, такой же был случай. Пришел чиновник таким же образом, как вы теперь пришли, принес записку, денег по расчету пришлось 2 р. 73 к., и всё объявление состояло в том, что сбежал пудель черной шерсти. Кажется, что́ бы тут такое? А вышел пасквиль: пудель-то этот был казначей, не помню какого-то заведения.»
«Да ведь я вам не о пуделе делаю объявление, а о собственном моем носе: стало быть, почти то же, что о самом себе.»
«Нет, такого объявления я никак не могу поместить.»
«Да когда у меня точно пропал нос!»
«Если пропал, то это дело медика. Говорят, что есть такие люди, которые могут приставить какой угодно нос.
Но впрочем я замечаю, что вы должны быть человек веселого нрава и любите в обществе пошутить.»
«Клянусь вам, вот как бог свят! Пожалуй, уж если до того дошло, то я покажу вам.»
«Зачем беспокоиться!» продолжал чиновник, нюхая табак. «Впрочем, если не в беспокойство», – прибавил он с движением любопытства: «то желательно бы взглянуть.»
Коллежский асессор отнял от лица платок.
– «В самом деле, чрезвычайно странно!» – сказал чиновник: «место совершенно гладкое, как будто бы только что выпеченный блин. Да, до невероятности ровное!»