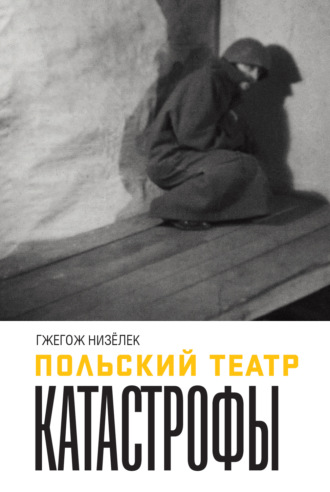
Гжегож Низёлек
Польский театр Катастрофы
Разговор о польской культуре в категориях посттравматических реакций может, таким образом, заманить в ловушку фантазийных иллюзий и символических воздаяний. Так случилось во время диспута о событиях в Едвабне и книге Гросса «Соседи»: здесь поляки представали уже не в роли наблюдателей, а экзекуторов. Тот дискурс принятия ответственности за прошлое, который генерировался в процессе этого диспута, в широком общественном контексте интерпретировался как «признание своей вины». Не был, однако, прочитан скрытый смысл этого жеста: принимая на себя вину, мы можем освободиться от непристойной позиции bystanders. Ведь современные концепции травмы охотно открывают перспективу на возвышенность, позволяют играть пустыми кадрами коллективной памяти в изменившихся аффективных режимах. Происходит это так, поскольку травма отнюдь не является противоположностью равнодушия. Равнодушие принадлежит полю ее переживаний (которое называется numbing) и вызываемых ею гораздо позднее опустошительных процессов. Таким образом, риторика травмы создает модели для описания переживаний, которые не обязательно находятся в ее поле или же даже не должны в нем находиться. С такой точки зрения стоит оценить формулировку Ханны Арендт: ведь «глупость» – это уже не так нейтрально негативно, как «равнодушие», ее невозможно вписать в каждый утраченный кадр памяти. Она требует скорее свободно обозреваемой сцены и исторических расследований, чем риторической комбинации понятий. Глупость вызывает удивление, отвращение, смешит (заключая в себе, таким образом, либидинальный избыток), а равнодушие максимум высвобождает чувство вины. Равнодушие легко находит себе место в диалектике травмы, глупость же полностью располагается за ее пределами, хоть может усилить чужую травму. Театр принимает во внимание либидинальный эксцесс глупости, обнаруживая в непосредственном опыте восприятия те моменты возбуждения и торможения, которые сопутствуют культурным негоциациям по поводу исторического прошлого.
6
Моника Стшемпка и Павел Демирский создали в «Пьесе для ребенка» (Театр им. Циприана Камиля Норвида в г. Еленя-Гура, 2009) деформированный мир, в котором память является богом и в котором памяти нет вообще. Есть ее фигуры, механизмы, стратегии, реквизиты, но сама она в качестве фундамента человеческого опыта и идентификации улетучилась, оставляя после себя суетливые, болтливые, комически сниженные существа, словно нанятые для участия в игре, которая продолжается беспрерывно, поскольку оставшееся после памяти пустое место неумолимо требует заполнения. Существуют, к счастью, архивы, музеи, библиотеки, кинотеатры и театры, т. е. институты, в которых собираются, фальсифицируются и умножаются фонды чужой памяти. Утрата памяти позволяет играть в игру, называемую «травмой», которая с точки зрения создателей спектакля превращается, впрочем, в спектакль «глупости». В альтернативной версии истории, предложенной Демирским, войну выиграли нацисты. Победа нацистов означает в спектакле Стшемпки и Демирского триумф парадигмы вины, охватывающей всех – безотносительно их места в треугольнике, предложенном Хильбергом.
Собранная из обломков, новая версия европейской истории в «Пьесе для ребенка» втягивает зрителей – вполне непристойным образом – в переживание памяти сфальсифицированной, памяти чужой, памяти подмененной. Тот факт, что реакции зрителей соскальзывают в сферу непристойности, характеризует политическое измерение спектакля, позволяет осмеять привязанность к такой версии исторических событий, в которой роль, которая тебе достанется, будет возвышенной; а самой же возвышенной оказывается роль экзекутора, испытывающего безутешное чувство вины. Никто не хочет выступать в роли «глупцов», т. е. bystanders.
В центре находится каменный катафалк, надгробие, жертвенник, заляпанный кровью, краской или малиновым соком. Ниже – свечки, какие ставят на кладбищах. Черная стена рядом с дверью может в той же степени ассоциироваться с античной «скене», как и с кабинами дворцов онанизма сегодняшних больших городов. На заднем плане светится неоновая надпись: Never again, как бы искушая и приглашая в сферу полулегальных удовольствий. Гротескные фигуры собираются тут только ради одной цели – «в память о той муке». Участники торжественного пира сидят тут не за столом, а у каменного катафалка-обелиска. Жирные куриные окорочка они едят пальцами с пластиковых тарелок, в которые стряхивается пепел с беспрестанно выкуриваемых сигарет. Этот отвратительный пир является, в сущности, экстремальным ритуалом памяти – праздником «дзядов». Архаической тризной на гробах предков и одновременно, конечно же, ее вульгарной пародией. Профанируется тут, однако, не столько сам траурный обряд, сколько его возвышенные, постсовременные дистиллированные формы. Память тут не сводится к ее меланхолическому следу, а открывает свою тайную, постыдную, порнографическую живучесть.
Сегодня драма постпамяти не разыгрывается в интимных рамках семьи (как это было у Марианны Хирш), а скорее – в том пространстве публичной памяти, которое описал Хартман. Техники постпамяти стали образовательными стратегиями общества, они используются, например, в вашингтонском Музее Холокоста, где каждый посетитель должен отождествить себя с конкретным человеком, узнать его судьбу, вчувствоваться в его переживания. Цель ясна: возвращение имен жертвам Катастрофы – это то, чем можно противостоять языку цифр, который тотализирует и обезличивает страдание индивидуума. В тот же самый момент, впрочем, встает вопрос о психологических, а также, в итоге, и общественных последствиях, которые могут иметь эти наступательные стратегии постпамяти.
Одним из патронов спектакля мог бы стать Фридрих Ницше, благодаря его отчаянной защите детей перед тем, чтобы их слишком рано вырывали из состояния беспамятства, чтобы «проникнуть взором в пределы чужого»59. Спектакль Стшемпки и Демирского вращается вокруг фигуры ребенка, которого нашли на дереве висящим на парашюте после одной из игр, реконструирующих военные события, и который «в самом центре нацистской Европы» не имеет, как оказывается, своего покровителя. Покровитель, конечно, будет найден, и ни к чему не приведут попытки уберечь ребенка от насильственной инициации. Стратегия, известная по вашингтонскому Музею Холокоста, предстает тут как социальный ритуал постнацистской Европы. В силу именно этой стратегии каждый ребенок должен иметь своего покровителя, знать на память его биографию и ужасающие обстоятельства его смерти. Это несомненно самый спорный мотив спектакля, однако трудно не признать, что его создатели ссылаются на реальные факты и впечатления. Прежде всего, они пытаются осмеять дискурс чувства вины (вместе с его инструментами убеждения), который сформировался в Польше во время дискуссий по поводу событий в Едвабне. Например, знаменитую инсталляцию Зофии Липецкой «После Едвабне»60 можно интерпретировать как образцовую инструкцию, как использовать агрессивные техники постпамяти (даже если такое прочтение идет вразрез с намерениями автора). На умноженных зеркальными отражениями проекциях мы видим лица людей, которым зачитывается (Анджеем Северином) шокирующий рассказ Шмуля Васерштайна, свидетеля уничтожения евреев в Едвабне. Лица слушающих сосредоточены, серьезны; по ним видно, что люди переживают потрясение, что рассказ сильно их затрагивает, что они не хотят ему верить: т. е. таким образом, мы видим именно клише той эмоциональной реакции, которую и следует ожидать. Хотя автор инсталляции сделала все, чтобы тронуть нас видом вот так по-бергмановски обнаженных человеческих лиц, это ничего не меняет в том факте, что «критическим» моментом инсталляции являются вызываемые с помощью стратегии шока и даже, скорее, миметического требования реакции эмпатии (опоздавшей на полвека), тиражируемые без конца, приобретающие статус – на наших глазах безо всякого стыда прививаемой – новой памяти, коллективной и индивидуальной. В этой памяти уже нет места столь неудобному для поляков опыту bystanders. Безусловное требование эмпатии может, таким образом, привести к тому, что позиция равнодушного свидетеля чужого страдания будет вытеснена в бессознательное.
Явление постпамяти, которое анализирует и определяет Марианна Хирш, опирается на три феномена: непосредственное общение с людьми, обремененными памятью о травматических событиях (при том, что более важным тут оказывается аффективное воздействие, нежели передача самих воспоминаний; Хирш сосредоточивается прежде всего на семейных ситуациях и том трансфере эмоций, который совершается между поколениями), наличие в доступных архивах или общественном пространстве знаков индексирующего характера (являющихся следами прошлого, а не только его образами или символами), а также способность вызвать в воображении потрясение, взрывающее сложившуюся в культуре к данному моменту символическую систему (часто с помощью приемов, которые считаются неуместными, скандальными, трансгрессивными)61. Можно сказать, хоть и с некоторым риском, что явление постпамяти или родственные ей механизмы формировали польскую культуру в течение всего ее послевоенного периода, а не только после 1989 года. Как я многократно подчеркивал, польская культура развивалась в сообществе свидетелей (наблюдателей, жертв, экзекуторов), в пространстве, насыщенном индексными знаками Катастрофы, в рамках идеологического контракта беспамятства, которое порой допускало шокирующую апроприацию прошлого в сфере художественной жизни. Все факторы, обусловливающие явление постпамяти, тут, таким образом, принадлежали чуть ли не обыденной общественной и художественной практике, особенно если признать, что каждый, а не только межпоколенческий, трансфер «чужой» памяти является необходимым условием ее существования. В театре эта модель циркуляции опыта, рискованный момент аффективной отдачи «собственного» опыта во власть «чужого» воображения, использовалась часто и во все новых актуализирующих версиях, возобновлялась в разных политических ситуациях и сменяющихся культурных контекстах.
Кого не было в Аушвице?
1
Клод Шумахер в предисловии к своей книге Staging the Holocaust пишет: «Давать свидетельские показания – это одно, но „разыгрывать“ свидетельства [на сцене] – нечто другое. Постановка театрального текста требует телесного присутствия актера, – того „иного“, того „обманщика“, кого не было в Аушвице»62. Удивляет, что исключительно за автором драматического текста признается тут право быть непосредственным свидетелем и участником истории, только он может свидетельствовать, как если бы только он мог быть в Аушвице. Все другие: актеры, режиссеры, зрители – остаются узниками платоновской пещеры, они могут только с образа тени воссоздавать чужой опыт, при случае пытаясь превозмочь этически подозрительный статус «обманщика», который крадет чужие переживания, чужую идентичность или же занимается вуайеризмом. Единственное число, связанное с ситуацией свидетельствования, воспринимаемого в качестве «источника», противопоставляется числу множественному, характеризующему множественность театральных репрезентаций. Клод Шумахер пытается эту «слабость» преподнести как «силу» театра, скорей всего не отдавая себе отчета, насколько ограниченную модель театральности он нам предлагает. Тело актера, в силу этой концепции, по словам Шумахера, может указывать исключительно на «не-присутствие», а зрителю остается лишь воссоздавать в воображении «отсутствующую» действительность. За таким мышлением стоит идеология коллективного оплакивания, которой театр всегда охотно служит. То, что есть в театре самого материального и самого непредвиденного (реальный актер, реальный зритель, реальный аффект), подвергается репрессии, оказывается подчинено конкретным задачам и ожидаемым реакциям. Раз театр, как медиум, столь ущербен, ему остается лишь подтверждать догматический тезис: Катастрофа не поддается «репрезентации». Или же иначе: театр получает охранную грамоту на ущербный характер доступной в нем «репрезентации» по причине своего маргинального места в культуре и онтологической ущербности его как медиума. Театр тут предстает исключительно в перспективе его очень ограниченных возможностей в смысле репрезентации конкретного исторического опыта – а другие пути, которыми он мог бы опыт передавать, вообще не рассматриваются.
При таком подходе оказывается бесповоротно разорвана связь между актом театральной репрезентации и ситуацией свидетельствования – хотя ведь эта последняя обладает отчетливо театральным измерением (есть «актер» и есть «зритель»). Именно театральный дискурс позволяет уловить всю сложность процесса свидетельствования о пережитом травматическом опыте, в котором категории «присутствия» и «не-присутствия» не укладываются в столь однозначные бинарные схемы («присутствие» —на стороне того, кто дает свидетельство, а «не-присутствие» – приписано театральной ситуации представления свидетельства).
Для Шумахера театральная репрезентация всегда берет свое начало где-то за пределами физического, интерсубъективного и либидинального пространства театра – поэтому «источник» этой репрезентации чуть ли не автоматически отождествляется с фигурой автора, обладающего тем опытом, который театру непосредственно недоступен, и благодаря этому занимает позицию авторитета, внешнего по отношению к театральной ситуации.
Клод Шумахер видит театр исключительно в перспективе стратегии репрезентации, не принимая во внимание хотя бы характерного для театра как медиума разрыва между synopsis и opsis63; между тем, о чем можно рассказать и что можно представить, и тем, что обнаруживается в поле видения как конкретное событие, в которое вовлечены актеры и зрители и которое можно было бы назвать «регистром повторения». То, что принадлежит первому регистру, можно прочитать, понять, вписать в рамки того, что относится к культуре и исторической памяти. То, что разыгрывается во втором, остается чаще всего не прочитано. Хотя именно тут таится самый сильный потенциал аффектов. Расхождение этих двух регистров указывает на то, что в культуре существует фундаментальный механизм вытеснения, инициирующим моментом которого всегда является расхождение репрезентации и аффекта. Именно с этого расхождения начинается любой поиск смысла и любые попытки связать его заново со зрительным и телесным опытом.
Избыточное экспонирование первого регистра – а за этим стоит такой авторитет всей нашей культуры, как Аристотель и его размышления о трагедии, – приводит к тому, что специфика театра как медиума оказывается стерта и театр легко путают с другими медиумами, например с эпической поэзией. Медиум театра, согласно определению Самуэля Вебера64, характеризуется материальностью, неопределенностью значений и фрагментарностью. Стихия повторения – это забвение, а его условие – это потеря референциальности. (Повторение и воспоминание, как учил Фрейд, – это две исключающие друг друга модальности возвращения опыта прошлого; припоминая что-либо, мы кладем конец повторениям, разыгрываемым в действии.) В регистре повторения восприятие зрителя становится фрагментарным и индивидуальным, оно не в состоянии приобрести стабильность ни в одной из коллективных рамок повествования, не доверяет самому себе, а с другой стороны, готово пойти на риск. Такое восприятие может высвобождать компульсивные реакции, поскольку задействует бессознательное и вытесненный опыт. Но может также и выявлять рискованные проекты реконфигурации болезненных и вытесненных переживаний65. Жиль Делез так писал о повторении: «повторение является мышлением будущего: оно противостоит древней категории припоминания и современной категории habitus. Именно в повторении и через него Забвение становится позитивной силой…»66.
В понимании Вивьен М. Патраки, автора книги Spectacular Suffering67, театр – это медиум, который, осознавая невозможность вызвать к жизни события прошлого, генерирует избыток дискурсов, стремящихся эти события реконструировать (театр вновь оказывается вписан в регистр множественного числа, его культурная ценность зависит от множественности предпринимаемых им усилий). В пространстве театра Холокост, с этой точки зрения, предстает как нечто прошедшее (goneness) – то есть вновь как нечто единичное. Именно осознание «прошедшести» высвобождает, по мнению Патраки, критический потенциал театра, позволяет заново переосмыслить Холокост путем возобновляемых попыток его репрезентации. Категория повторения появляется тут под эгидой понятия «реитерации», перформативных ритуализаций опыта, принадлежащего прошлому – однако в качестве попыток проработать травму. Пусть автор весьма охотно указывает на материальный и физический аспект театра, предметом ее анализа являются прежде всего драмы о Холокосте или другие институциализированные его репрезентации (как, например, Музей Холокоста в Вашингтоне). А под словом «опыт» скрывается тут, скорей, идеологически упорядоченное знание о Холокосте, чем то, как проявляется – в действии – отринутая память. И при этом подходе, так же как в тексте Шумахера, театр как медиум оказывается безвозвратно оторван от предмета своей репрезентации (и в то же время подчинен ему идеологически и онтологически), а понятие Холокоста, стабилизирующее общественную память, появляется в качестве рамок, в которые должно быть заключено каждое театральное действие и которые должны вносить в это действие свои поправки. Желаемый элемент субверсивности, связанный с перформативным аспектом театра, оказывается, таким образом, в принципе категорией сильно идеологизированной, а любые формы критической позиции подчиняются не подлежащему обсуждению постулату сохранения ответственности (accountability). Аутентичный процесс повторения не может наступить без явления амнезии, а это явление в дискурсе, предложенном Патракой, может быть оправдано только механизмом травмы.
О том, чтобы так понимаемая референциальность была эффективна, в дискурсе о границах репрезентации заботится мощный signifier под названием «Холокост». Он легитимизирует дискурсы патетичности и травмы, контролируя тем самым все, что относится к воображению. А ведь нетрудно заметить, что именно воображение легче всего описать в категориях традиционно понимаемой театральной медиальности. Дилан Эванс дает такое определение театральности воображения в лакановском психоанализе: «С самого начала этот термин был связан с иллюзией, очарованием и соблазнением и применялся к дуальным отношениям между „я“ и зеркальным отражением. […] Главными иллюзиями воображаемого являются понятия целостности, синтеза, автономии, дуализма и, прежде всего, подобия»68. Тут господствуют механизмы идентификации, отчуждения и агрессии. Сцена воображаемого становится опасна, когда не подчиняется контролю символического, когда символическое не может им завладеть. Известно, что психоанализ Лакана оказал огромное влияние на формирование дискурса, связанного с Холокостом69. А попытка переосмыслить эту традицию оказалась в центре спора между Жоржем Диди-Юберманом и Клодом Ланцманом. Диди-Юберман настаивает на том, что лакановская концепция воображаемого должна быть переосмыслена, поскольку именно воображаемое лежит у основ процессов памяти, жизненных решений, взаимоотношений, возможности эмпатии.
Хотя в дискурсе о границах репрезентации Катастрофы существование такого рода работы воображения признается возможным, на нее накладывается запрет (такую работу всегда надо совершить заранее; мы не должны позволить, чтобы нас тут застали врасплох). Область смысла контролируется исключительно через монументальный signifier, всегда пишущийся с большой буквы: Холокост, Катастрофа, Шоа. Даже если определенные исторические факты подвергаются сознательным художественным деформациям или оказываются в фиктивном нарративе пропущены, в акте восприятия они будут подкорректированы и дополнены. Любые явления misreading оказываются исключены или заклеймены с этической точки зрения. Под защитой – только принцип возвышенного. Именно таким образом Берел Ланг читает роман Аарона Аппельфельда «Баденхейм 1939», в котором исторические факты остаются недоговоренными, появляются в онирической трансформации: этот акт чтения, постулирует Ланг, должен в таком случае ввести произведение литературного вымысла в русло исторического нарратива70. Неправильная репрезентация Холокоста является в концепции Ланга всего лишь условием вызвать репрезентацию правильную: только в таком диалектическом противопоставлении можно ее принять71. Это на читателя возложена обязанность исторической корректировки предложенной ему картины72. Историческое свидетельство выполняет в рамках этой концепции функцию контролирования правдоподобия художественной репрезентации Катастрофы (столкновение текстов «вымышленных» и исторических документов входит в правила этого дискурса). Так происходит, поскольку об искусстве тут мыслится исключительно в категориях репрезентации, а не повторения – акцентируется переживание отсутствия, утраты, провоцируются акты скорби; напротив, аффективная логика эстетического переживания вообще не заслуживает тут никакого внимания. Художественная репрезентация Катастрофы видится всегда как потенциальная угроза для исторически подтвержденных свидетельств и для постулированных рамок полной общественной памяти. При таком подходе искусство становится потенциальным врагом, которого следует держать под постоянным наблюдением. Но потому ли, что искусство деформирует исторические факты в регистре репрезентации или как раз наоборот: потому, что оно обнаруживает реальные аффекты в регистре повторения? Следует, конечно, задать вопрос, насколько узаконен столь рестриктивно понимаемый этический дискурс, который очевидным образом претендует на право говорить от имени жертв, даже если открытым текстом формулирует запрет на то, чтобы принимать такую позицию (особенно по отношению к художникам, которых «не было в Аушвице»).
Такого рода определения абсолютно не подходят для того, чтобы представить польский театр в качестве медиума памяти о Катастрофе. Этот подход сверх меры экспонирует «расхождение» между переживанием-источником и репрезентацией, а в то же самое время постулирует преимущество морально контролируемого дискурса над любыми симптоматическими, аффективными и либидинальными формами. Польский же театр почти полвека (1945–1989) существовал вне этого дискурса, в социальном и географическом пространстве, которое было эпицентром Катастрофы. Даже если принять предложенную Патракой категорию goneness, следует помнить о всех материальных, аффективных и этических следах огромного преступления, которые оказались записаны тут в памяти людей, в языке, в художественных текстах, материальной действительности. Как сохранение их, так и затушевывание были так глубоко укоренены в ежедневных социальных практиках, что возвышенное goneness не в состоянии описать все эти сложные процессы.
Попытка более полно охватить формы памяти о Катастрофе через медиум театра (и через практики послевоенного польского театра) заставляет также заново сформулировать многие исследовательские стратегии, которые были выработаны в области других искусств (особенно в литературе, кино, изобразительных искусствах), а также на почве других культур, другого социального опыта и других идеологий. Театр всегда был маргинализирован в исследованиях Холокоста, а его специфика как медиума почти никогда не принималась во внимание, так же как исторический контекст, в котором возникали определенные театральные явления. А ведь невозможно выработать никакой последовательной и универсальной модели для описания посттравматических реакций и перформативных стратегий в польском и, скажем, американском театрах, без того, чтобы не пришлось проигнорировать специфические традиции сценической практики, идеологические культурные дискурсы (связанные хотя бы со Второй мировой войной и уничтожением европейских евреев), а также без того, чтобы не пришлось оставить вне внимания коллективный опыт, который влияет не только на формы художественной репрезентации, но также и на экономию аффектов, формирующих отношения между сценой и зрительным залом, актерами и публикой. Особенно если принять тезис – скорее всего, трудно опровержимый, – что польский театр долгое время существовал в обществе непосредственных свидетелей Катастрофы. Так, «Дневник Анны Франк» (драма, написанная на основе дневника Анны Франк двумя американскими киносценаристами Фрэнсис Гудрич и Альбертом Хэкетом) мыслился его создателями – и был именно таким образом прочитан публикой Бродвея – как акт проработки военной травмы и утверждения присущих Америке оптимистических идеологий повседневности. Та же самая пьеса, сыгранная в Польше в 1957 году (в театре «Драматычны» в Варшаве, построенном на месте, где когда-то проходила граница гетто), произвела шокирующие впечатление, как будто мертвые ожили и вернулись73. Тот факт, что авторы драмы и создатели нью-йоркского спектакля сознательно пытались не делать акцента на еврейском происхождении героев (ради универсализации месседжа спектакля), для варшавской публики стал вдруг шокирующим образом различим – и с перспективы памяти об уничтожении евреев, и с перспективы вновь проявляющихся в атмосфере политической оттепели антисемитских выступлений.
Может, как раз по причине своей «слабости», неспособности создавать «полные» репрезентации (а только такие, которые всегда обнаруживают свою условность и фрагментарность), театр не оказался в поле более глубоких исследований; он был маргинализирован, что о многом говорит хотя бы в рамках обширного и влиятельного диспута о границах репрезентации. Причина кажется простой: в театре не было заметно опасности излишней видимости, которая подвергалась этическому контролю в других областях – фотографии, кино, литературе. Как объясняет Берел Ланг (и он категоричен в своем высказывании): «тематика нацистского геноцида сопротивляется драматической репрезентации»74. Это во-первых. Во-вторых, философские, этические и эстетические категории, выработанные на почве дискурса о границах репрезентации Холокоста, не скрывают, как правило, своих универсалистских претензий, даже если предметом исследования становятся переживания индивида, а индивидуальное определяется как фундаментальная этическая парадигма этих исследований. Задача исследования театра в качестве инструмента памяти требует, однако, методологий, которые применяются в рамках культурной поэтики и чувствительны к конкретности объектов, контекстов и следов, в которых обнаруживает себя прошлое. Поэтому нельзя игнорировать или преуменьшать значение того факта, что польский театр существовал и действовал в пространстве, в котором произошла Катастрофа. В связи с этим следует поставить вопрос о том, что театральное измерение проявляется при возвращении не только травматического опыта, но также, что еще более важно, позиций равнодушия по отношению к этому опыту. Театр оказался особенно пригодным и открытым медиумом для связанных с этим феноменом компульсий – он впитывал их и перерабатывал, разыгрывал их во множестве вариантов. Хотя, возможно и само слово «компульсия» является тут слишком жестким термином, предполагающим, что в основе механизма повторения должна лежать травма, в то время как польский театр настолько внедрен в общество, что во внимание необходимо принять гораздо большее многообразие позиций: включая и полное равнодушие, и страх перед чужой травмой.
В исследованиях истории польского послевоенного театра доминирует тенденция ссылаться на две модели повторения. Первая связана с повторением, в процессе которого обновляется некий важный для сообщества миф, – повторением как парадигмой коллективного опыта. Образцом такого рода повторений может служить прежде всего романтическая драма (особенно – «Дзяды» Мицкевича), а еще чаще – ритуальная структура, которая в ней заключена (обряды, связанные с культом предков, «дзяды» как модель ритуала вообще), или же, наконец, приводимая в действие в критические моменты модель коллективного поведения. Так понимаемая, идея повторения не позволяет интерпретировать польский театр вне романтической традиции, многое оказывается просто исключено или же прочитано только в сопряжении с этой традицией (т. е. как бунт по отношению к ней, провокация, а не как нечто совершенно иное)75. Другая модель повторения связана с идеей травматического повтора, компульсивного отыгрывания болезненного опыта через театральную медиальность. Модель эта покоится на некоем представлении о коллективе людей, который пережил глубокое потрясение, на образе сообщества, объединенного страданием. А также – на образе сообщества свидетелей, вынужденных видеть страдания других людей и интерпретирующих этот опыт как собственную травму. Когда под «травмой» понимается то, что пережили наблюдатели Катастрофы, это становится, по сути, формой самозащиты. Такой жест польская культура пыталась выработать даже по отношению к памяти о событиях в Едвабне. В этом смысле травматическая модель становится, в конце концов, также вариантом нарциссической парадигмы, унаследованной от романтизма. И если я обращаюсь к концепции повторения, выработанной Делезом, то исключительно для того, чтобы это явление повторения освободить от подобного рода обобщений и детерминированности. Хотя бы для того, чтобы, во-первых, рассмотреть романтические модели польского театра не с перспективы архетипов (и связанного с ними коллективного бессознательного как фундамента идентичности), а прежде всего в контексте нарциссических проекций, которые имеют сложную, индивидуализированную и всегда историческую генеалогию. Во-вторых – чтобы высвободить субверсивный, сопряженный с риском, творческий и индивидуалистический потенциал, оказывающий сопротивление тому механизму, при помощи которого коллективная травма хочет сама себя инсценировать.
В центре внимания должна оказаться повторяемость ситуации равнодушного или же насмешливого свидетеля («бедного христианина, смотрящего на гетто»), столь хорошо определяющая те принципы, по которым сконструирована позиция зрителя как в театре Ежи Гротовского, так и Тадеуша Кантора. Речь не идет, однако, о повторении определенной модели опыта, о переживании еще раз «того же самого». А о том, чтобы ввести этот опыт – благодаря театру и принципу повторения – в область непредвиденных аффективных последствий. Переживание паралича и шока часто описывалось зрителями «Акрополя» Гротовского и «Умершего класса» Кантора как переживание осязаемо реальное и трудно объяснимое. Гротовский и Кантор относились к зрителю как к свидетелю, ввергали его в ситуацию чрезмерной видимости, доводя до глубокого расщепления реакций (шок и равнодушие, физическая конкретность наблюдаемого акта насилия и невозможность понять, что ты видишь). Между тем Гротовский с самого начала стремился диалектически преодолеть историческую травму: он упорядочивал поле разрывов и конфликтов, проводя спектакль по траектории эмоциональной дуги, в которой зритель переходил от навязанного ему предположения о его равнодушном отношении к чужому страданию к аффектам милосердия и ужаса, идентифицируемым как религиозные переживания. Кантор, особенно до создания «Умершего класса», действовал в противоположном направлении: разбивал любые модели аффективных реакций, запутывал следы, переживание ужаса записывал в комедийных кодах, приводил в действие процессы открытия «необычайного». Гротовский создавал иллюзию акта проработки травмы благодаря силе переживаемого аффекта. Кантор впутывал зрителя в дезориентирующую его систему повторений, в которой возможность проработки опыта прошлого исчезала из поля зрения.


