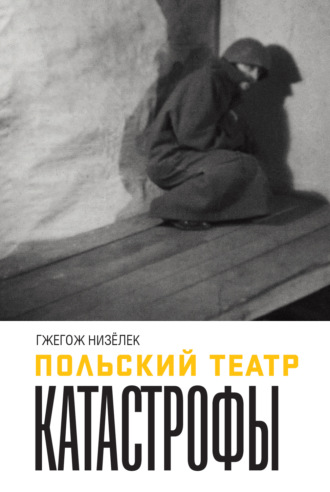
Гжегож Низёлек
Польский театр Катастрофы
Нужно подчеркнуть, что в 1960‐х годах существовала сильная напряженность между насмешническим течением польской культуры и попытками идеологии вдохнуть новую жизнь в польский национализм – оба явления взаимно друг друга накручивали и черпали из одной и той же скрытой энергии коллективного вытеснения. Как художники-насмешники, так и политики-националисты не были заинтересованы в том, чтобы стал явным исторический фундамент их позиций. В «насмешничестве» экспонировалось то, как мучают себя сами жертвы, обреченные на пародирование собственных коллективных страданий, в течении же политической идеологии – под эгидой партийного национализма – указывалось, в свою очередь, на тех, кто исторически был ответственен за преступления, совершенные во время войны на территории Польши, настаивая на том, что общие ресентименты еще очень живы, что свершившаяся несправедливость остается актуальной и что компенсация за нее не может считаться удовлетворительной. Возник замкнутый, раскручивающий сам себя круг циркуляции (благоприятный для защитных импульсов коллективного либидо): «насмешничество» атаковалось националистическими кругами партийных деятелей, а националистические мифы, которые были запущены в циркуляцию общественной жизни, подвергались безжалостному разоблачению со стороны художников, хотя на самом деле обе стороны работали на поддержание при жизни мифологии общности. И в этой мифологии тоже не было места для опыта тех, кого мы назвали bystanders. Ведь не национальные мифы становились объектом самого глубокого вытеснения – без них не мог обойтись даже соцреализм. Таким объектом становилась как раз позиция свидетеля чужого страдания – а таким образом отрицался и утаивался опыт, который выпал на долю польского общества в недавнем прошлом. Как объясняет Едлицкий, литература свидетельствования приносит видение «мира без гарантии»: гарантию безопасности тут не предоставляют «ни трансценденция, ни исторические законы, ни кодексы»39. Поэтому надо всеми другими факторами, противодействующими культуре свидетельствования, Едлицкий ставит именно отказ со стороны воспринимающих: это ими был инициирован обрыв «коммуникативной ситуации», это они отказались от выслушивания свидетельств.
4
Свидетельством того, что вытеснению в польской культуре и в польской общественной жизни подвергались именно позиция свидетеля-очевидца и те обязательства, которые она налагала (а не только определенное содержание коллективной памяти), может быть реакция на фильм Клода Ланцмана «Шоа» и статья Яна Блонского «Бедные поляки смотрят на гетто»40. Оба факта имели место во второй половине 1980‐х годов, спустя сорок лет после окончания войны. И тот и другой вызвали небывалую реакцию, которая словно упразднила уже установившиеся линии общественных и политических разногласий (подцензурная и неподцензурная пресса, власть и политическое подполье, партия и католическая церковь, оставшиеся в стране и эмигранты). Фильм Ланцмана вызвал в Польше столь сильный шок главным образом по одной причине: польское общество вновь было поставлено лицом к лицу (так же как и сразу после войны) с собственной позицией свидетеля Катастрофы, оно было застигнуто врасплох тем, насколько живы были образы памяти и насколько шокирующим было ее содержание. Кажется, значительная часть этого общества уже поверила, что амнезия бесповоротно сделала свое дело. Ланцман же дал слово свидетелям-очевидцам, которых за все послевоенные годы не осмелился выслушать никто ни в Польше, ни в эмиграции. Он сам, благодаря посещению Польши и разговорам со свидетелями, остро почувствовал присутствие Катастрофы в настоящем – то, что она невидимо продолжает жить в людях, местах, пейзажах, домах и предметах. Именно конфронтация с польскими наблюдателями Катастрофы определила в конце концов концепцию фильма: необходимость вернуться в места Катастрофы и к ее все еще живым свидетелям. В фильме позиция свидетеля-очевидца предстала перед польской публикой в своем шокирующем и непристойном виде. Ланцман поставил перед камерой людей, чья память была обречена на полное отсутствие в публичном пространстве польской культуры. Поэтому никто в Польше не осмелился выразить французскому режиссеру благодарность за то, что он сберег этот фрагмент польского опыта, который без фильма «Шоа» мог бы навсегда погрузиться в амнезию. Ланцман прекрасно об этом знал; он так описывает свою первую встречу с Генриком Гавковским, машинистом поездов в Треблинку: «Он не пытался ни забыть то жестокое прошлое, в котором сыграл свою роль, ни вылечиться от него; считал, что должен быть готов в любую минуту ответить на вызов, если он будет ему брошен. Но это я первым задал ему вопросы, я предстал перед ним как ночное привидение, никто до меня не озаботился тем, что он мог бы рассказать»41.
Без польской реакции на фильм Ланцмана, а затем – без еврейской реакции на польскую реакцию не возникла бы, несомненно, по крайней мере в такой форме, знаменитая статья Яна Блонского, опубликованная в еженедельнике «Тыгодник Повшехны» в 1987 году. Блонского могло особенно сильно поразить суггестивно созданное фильмом «Шоа» представление о Польше как о земле, опороченной преступлениями прошлого. Он заявил, что позиция свидетеля-очевидца Катастрофы, в подавляющем большинстве случаев – пассивного наблюдателя Катастрофы, продолжает накладывать обязательства на польское общество, а в факте длительного – и в течение многих лет эффективного – ее, этой позиции, вытеснения увидел работающее в скрытом виде чувство вины. Он пришел к выводу, что нужно вернуться к началам, к стихотворению Милоша, и еще раз поставить вопрос: «вы спокойно смотрели на еврейскую смерть?» Блонский сослался на два произведения Милоша. Стихотворение Campo di Fiori описывало историческое событие: равнодушие поляков по отношению к уничтожению варшавского гетто. Стихотворение «Бедный христианин смотрит на гетто» обнаруживало моральные и психологические последствия этого равнодушия, состояние молчащих и таящихся свидетелей. Этим Блонский обозначил задачу, которую польское общество и польская культура, с неохотой и скандалами, не без гнева и ресентимента будут реализовывать следующие два десятилетия: обретение позиции свидетеля-очевидца Катастрофы. Были предприняты попытки не только ответить на вопрос, действительно ли поляки спокойно смотрели на смерть евреев, но также – а что они на самом деле видели?
Блонский знал, что этот процесс будет для польского общества болезненным, поэтому как бы априори вписывал его в некое возвышенное переживание, которое складывалось из нескольких элементов: безоговорочного признания фактов и собственной вины (даже если исторические условия позволяли бы оправдать столь массовое явление общественной пассивности по отношению к чужому страданию), подтверждения христианских основ польской общности, сакрального в своих основах жеста всеобщего очищения. Язык этому возобновленному свидетельствованию о Катастрофе давала поэзия Милоша – Блонский специально ставил столь высоко планку речевого акта признания вины. Этот вариант принятия на себя позиции свидетелей Катастрофы мог бы защитить поляков от жестокого урока Ланцмана, от непристойности запомнившихся картин. Блонский не возобновлял вопрос о том, была ли Катастрофа видима (он признавал это очевидным фактом, исторически задокументированным и закрытым делом), он скорее задавал вопрос о возможности коллективного катарсиса: «Польская земля была опорочена, обесчещена, и на нас лежит обязанность ее очистить»42. Если в заключительной фразе своей статьи он писал об «обязанности увидеть наше прошлое в свете истины», акт ви́дения имел тут, как представляется, исключительно метафорический и этический смысл. Оказалось, однако, что не только не удастся удержать столь высокий регистр разговора, но и укрыться перед менее метафорическим ви́дением событий прошлого.
Нельзя не задать вопроса, как следует понимать тот факт, что «польская земля была опорочена, обесчещена». Идет ли речь о «запятнанности», как о чем-то материальном и в то же самое время метафизическом, что взывает к ритуалам очищения и прямой дорогой ведет нас к идее трагического зрелища?
Конструирование позиции свидетеля в регистре возвышенности, постулируемое Блонским, позволяло приблизить наблюдателя Катастрофы к жертве, позволяло также поместить его в поле травматического события, а тем самым, на мой взгляд, слишком поспешно согласиться с тем, что Катастрофа была невидима или видима лишь фрагментарно. Тем самым многолетнее вытеснение опыта свидетеля, которое началось под конец 1940‐х годов, оказывалось возможным объяснить в категориях действия травмы. А вопрос, была ли Катастрофа видима, оказался, в конце концов, за рамками свидетельствования со стороны наблюдателя… Поэтому можно считать, что то, что позиция польских свидетелей Катастрофы стала рассматриваться в возвышенном регистре, было попыткой бегства. От попыток сакрализовать опыт свидетелей Катастрофы предостерегал в том же самом 1987 году Роман Зиманд, протестуя против прививаемого в это время на польскую почву термина «Холокост», чье греческое происхождение указывает на жертву всесожжения: «Я не в состоянии понять, как кому-то могло прийти в голову, что то, что несколько миллионов евреев было пропущено через трубы, могло быть каким бы то ни было жертвоприношением какому бы то ни было богу. В тот самый момент, когда мы входим в семантическое поле жертвы, мы автоматически возвышаем убийцу в статус жреца, а равнодушного зрителя убийства в статус участника ритуала»43. Зиманд точно указал на склонность польской культуры ритуализировать исторический опыт и поддерживать иллюзию очистительных ритуалов. Можно добавить, что это искушение было очень сильно в польском театре, а к явлению ритуализации общественного равнодушия нам еще придется вернуться.
Быстро выяснилось, что признать вину – еще не все, хотя, конечно, это необходимо, – здесь Блонский не ошибался. Следовало, однако, еще заново обрести зримость событий прошлого и поместить их в структуру коллективной памяти, под чем в той же степени понималась память свидетелей, сколь и сумма дискурсов, ее поддерживающих, фальсифицирующих или даже вычеркивающих из поля зрения общества. Смотря с сегодняшней перспективы, нужно признать, что чрезмерное приближение друг к другу позиций наблюдателя и свидетеля, которые по-разному переживают травму Катастрофы, не должно быть слишком универсализировано (хотя, конечно, не может быть также и полностью исключено). Оно должно оставаться только одной из возможностей, тем более что польскому обществу через несколько лет после публикации статьи Блонского предстояла конфронтация – в первый раз выразившаяся в столь открытой публичной дискуссии – со своим соучастием в деле Катастрофы.
Напротив, если в треугольнике Хильберга мы приблизим друг к другу позиции свидетелей и экзекуторов, эффект возвышенности неумолимо исчезнет. Вместо него появится нечто, что Ханна Арендт, анализируя позицию немецкого общества по отношению к Катастрофе, назвала «возмутительной глупостью»44. Ее наблюдения можно распространить и на других – в том числе польских – свидетелей-наблюдателей Катастрофы. Определяя, что она в данном контексте считает глупостью, Аренд ссылается на Канта, на сформулированный им императив «думать, ставя себя на место любого другого человека». Глупостью, таким образом, является «нежелание представить себе, что на самом деле происходит с другим человеком». Никто, пожалуй, не станет отрицать, что такого рода нежелание стало уделом и значительной части польского общества по отношению к преследованиям и уничтожению евреев. Чтобы объять всю амплитуду свидетелей, чье алиби состоит в утверждении, что Катастрофу нельзя было увидеть и что ее нельзя себе представить, приходится кружить между полюсом возвышенности и полюсом глупости, между полюсом травмы и полюсом равнодушия, между позицией жертвы и позицией экзекутора.
Михал Гловинский спустя много лет вспоминал свою поездку из Варшавы в Казимеж, которая имела место во второй половине 1950‐х годов. Ему довелось тогда наблюдать ситуацию свидетельствования, однако эта ситуация была абсолютно спонтанной, никем не контролируемой. Те, с кем он ехал вместе, по преимуществу крестьяне, начали вспоминать годы оккупации. «Воспоминания военных лет относились тогда […] к живой и – хотелось бы сказать – все еще самой свежей памяти». Одна из женщин рассказала об уничтожении евреев в одном из маленьких польских городков, о событиях, чьим свидетелем-очевидцем – и, как утверждает Гловинский, сочувствующим очевидцем – она являлась. «Она рассказывала очень конкретно и образно, не давала волю чувствам, но то, как она переживала и сочувствовала, отпечатывалось в каждом ее слове»45. Ее рассказ свидетельствовал о том, что Катастрофа была вполне видима для поляков: «Она говорила о расправах, происходивших на улицах, о том, как людей вытаскивали из их укрытия и убивали на месте, наконец, о том, что тех, кто остался, увозили на неминуемую смерть и какими жестокостями и унижениями это сопровождалось»46. Женщина вспоминала, как евреи, которых заталкивали в вагоны для скота, извергали на своих немецких карателей самые ужасные проклятия. Свой рассказ она закончила неожиданным выводом: «да, уж мстительны эти евреи, мстительны…». «Рассказчица изрекла это свое мнение так, как будто бы забыла обо всем, о чем минуту назад повествовала, как если бы не хотела осознать, в какой ситуации произносились эти страшные проклятия. И сама она стала совсем другим человеком, с ее лица исчезло благородство, появилась злоба, а может быть даже – презрение; в том, что она сказала, звучало ощущение превосходства, которое проявляется тогда, когда о чужаках говорят те, которые считают, что те хуже их по самой своей природе, или попросту их выводит из себя их присутствие»47.
Гловинский этот неожиданный вывод и изменение отношения рассказчицы объясняет силой антисемитских стереотипов: тем, что мир фактов и мир хорошо устоявшихся клише существуют раздельно. Его комментарий, впрочем, можно расширить и иными умозаключениями. Это не только конфликт фактов и стереотипов, но также конфликт аффектов и позиций: эмпатии и враждебности, шока и равнодушия. Конфликтом такого рода заминировано все общество, которое не постаралось присвоить себе собственную ситуацию свидетельствования чужого страдания. Возникший бессознательно, жестокий финал рассказа позволяет рассказчице освободиться от любых обязательств, которые накладывала бы на нее роль свидетеля. Нельзя также оставить без внимания молчание Гловинского, который выслушал этот рассказ. Его молчание – тоже свидетельство: это молчание человека, который выжил в Катастрофе и который в послевоенной действительности не хочет об этом говорить, поскольку живет в убеждении, что никто не ждет его рассказа или что его рассказ может быть использован против него. Женщина, делящаяся своими воспоминаниями времен оккупации, не отдает себе отчета, что ее слушатели – не только «все свои», но что среди них находится и «чужак», который окажется глубоко взволнован и в то же самое время до боли ранен ее рассказом. Он потрясен не столько самим рассказом, сколько «радикальным сдвигом», который в нем происходит. Самую большую загадку опять представляет публика, принимающая рассказ в молчании. Мы не можем заглянуть в ее реакции, в ее ощущения, она остается непрозрачна.
5
Со своей – американской – перспективы Джефри Хартман48 указывает на три фазы усиления интереса к свидетельствам Катастрофы: сразу после войны в 1940‐х годах, в начале 1960‐х годов в связи с процессом Эйхмана и под конец 1970‐х годов после показа телевизионного сериала «Холокост». С польской перспективы все выглядит иначе. Вслед за послевоенной волной свидетельств возникла определенная неуверенность относительно той позиции, с которой мы должны смотреть на уничтожение евреев (как наблюдатели, как жертвы или как те, кто сотрудничал с экзекуторами), и эта неуверенность на долгие десятилетия парализовала не столько саму возможность поднимать тему Катастрофы (в определенных периодах и это имело место, например в десятилетии между 1968 и 1978 годами), сколько она парализовала распространение свидетельств в обществе, в том числе свидетельств художественных.
Политический перелом 1989 года заново открыл в Польше, как и во всей Центральной Европе (то есть там, где происходили финальные и самые жестокие фазы уничтожения европейских евреев), возможность широкомасштабных исторических исследований и публичное обнародование фактов, которые долго скрывались. Опыт наблюдателей Катастрофы длительное время оставался в исследованиях Холокоста маргинальным – так утверждают сегодня многие историки. Поэтому сегодня bystanders, как их назвал Рауль Хильберг, оказались в центре повышенного внимания. Такой сдвиг вызвал целый ряд важных последствий. Первое из них – необходимость исследований локального характера. Процесс Катастрофы шел по-разному в зависимости от места, исторических традиций сосуществования различных этнических и национальных сообществ, образа еврея в той или иной культуре. Позиция bystanders на самом деле не статична, не пассивна и не монолитна, как это кажется на первый взгляд. Ее следует описывать в процессуальных категориях, в поле воздействия активных сил. То, что мы называем «равнодушием» по отношению к преследованиям и уничтожению евреев, имело свою дифференцированную динамику и не могло принимать нейтральных или обусловленных только обстоятельствами форм. Ключевым для становления состояния bystanders является момент, в котором определенная группа людей становится для других unpersons, что означает, что их жизнь перестает быть достойна защиты, а нормы, которые действуют в рамках собственного сообщества, к ним уже не относятся49. Возможность формирования общественной позиции такого рода стала одним из необходимых для исполнения дела Катастрофы условий. Процесс обрыва общественных связей с преследуемыми людьми имеет сложный характер, часто он связан со сломом того образа, который сообщество до этого сформировало на собственный счет. Даже небольшое напряжение между группами людей может привести к равнодушию по отношению к чужим страданиям, а равнодушие позволяет, в свою очередь, одну из этих групп уничтожить. Исследования позиции bystanders часто приводят к тому, что слишком общие и слишком «философские» дискурсы о Холокосте оказываются под знаком вопроса или вообще перестают работать; эти исследования обращают внимание на необходимость конкретизации исторических деталей, локальности и процессуальности событий, связанных с Катастрофой. Часто они объединяют историческую скрупулезность с психоаналитическими гипотезами.
Предметом исследований становятся медиа, например пресса, как инструмент конструирования образов действительности: ведь тут мы имеем дело не только с сообщениями об определенных фактах, но также с формированием определенных позиций50. Каждая информация в прессе, как правило, является результатом деятельности многих людей (журналиста, редактора, издателя, обладающих определенными ожиданиями читателей), поэтому при вписывании ее в какие бы то ни было общие идеологические рамки (например, «польского антисемитизма») следует учитывать все составляющие такого процесса. Отсюда – все чаще высказываемое сегодня мнение, что мы также должны заняться изучением биографии тех, кого можно считать «авторами» появляющейся в прессе информации.
Следующий сильный импульс, который привел к интересу по отношению к позиции bystanders и к пересмотру того направления, в котором происходило этическое подавление «репрезентации Катастрофы», шел как раз от исследований современной медийной культуры, которая, транслируя и распространяя в массовом масштабе образ чужого страдания, сделала позицию bystanders опытом повсеместным и трансисторическим. СМИ создали медиальные потоки, свободные от механизмов вытеснения51. В глобальное русло массового распространения картин чужого страдания попали также и картины, связанные с Катастрофой. Рефлексия Феликса Тыха по поводу неразрешимости вопроса, было ли обусловлено молчание польского общества в отношении Катастрофы травматическим характером переживаний тех, кто наблюдал чужое страдание, или же, напротив, их безразличием, – относится сегодня к любому обществу всего глобализированного мира. Вопрос этот заново формулируется в перспективе исследований СМИ и явлений постпамяти. Главные темы для обсуждения: способны ли образы травмы транслировать ее или же они способствуют тому, чтобы росло равнодушие к ней; нужно ли документировать историю или же медиальные записи опасным образом приводят к тому, что действительность становится фикцией; наконец, среди этих тем – распад традиционных парадигм коллективной и индивидуальной памяти. А также – критическая подозрительность по отношению к тем, кто использует эти образы или конструирует какой-либо художественный месседж по поводу Катастрофы. Анализ примененных форм репрезентации, как правило, провоцирует вопросы об их либидинальном характере. Так, как в случае фильма «Шоа», когда предметом внимания стала в конце концов позиция самого Ланцмана, которую Доминик Ла Капра52 интерпретировал как агрессивную идентификацию с жертвами или же вообще желание самоуничтожения. Такого рода подход, конечно, рискован и может показаться несправедливым, пронизанным преувеличенной подозрительностью и неуместным образом сдвигающим точку зрения за пределы фактов и их репрезентации. Если же исследовать либидинальные осложнения, можно дойти до того, что рядом с Ланцманом, посвятившим пятнадцать лет своей жизни реализации «Шоа», мы поставим Биньямина Вилкомирского, который сфальсифицировал собственную биографию, выдавая себя за жертву Холокоста. Трудно, однако, полностью исключить такую перспективу, особенно когда мы имеем дело с историческими событиями столь сильного аффективного воздействия. Достаточно привести как пример театральное творчество Кшиштофа Варликовского, в котором тематика Катастрофы всегда появляется в перспективе проблематики идентичности. Даже если «быть евреем», «быть геем», «быть черным», «быть женщиной» – это не модели одной и той же ситуации «бытия иным», то все же, скорей всего, если бы Варликовский не был столь чуток к социальным формам агрессии по отношению к инакости, тема уничтожения евреев не стала бы столь важным и живым мотивом в его творчестве.
Первым эти вопросы в связи с наследием Катастрофы в перспективе bystanders систематически и глубоко сформулировал Джефри Хартман. Принципиальным вопросом для него была возможность передачи знаний и опыта прошлого, тем более столь травматического, как Катастрофа, в эпоху экспансии таких средств массовой информации, как кинематограф, телевидение и интернет. Вместо того чтобы противопоставлять искусство и свидетельство, Хартман делает обе эти формы деятельности соратниками в борьбе с феноменом массовой продукции bystanders. Он выступает против любой формы, которая тотализирует память в социальном измерении. По одну сторону находится явление, которое Хартман назвал публичной памятью: ее создает неконтролируемый, безличный медиальный поток образов. Никто тут не отвечает за их присутствие, никто не в состоянии контролировать контекст, в котором они появляются, их источник чаще всего остается для зрителя неизвестен. По другую сторону находится коллективная память – конструкт, выстроенный на националистических и романтических идеологиях, принимающий автаркию присущих сообществу культурных кодов, которые не могут обойтись без понятия инакости. Искусство требует вовлечения воображения, защищает от обезличенного отношения к образам, заново выстраивает фундаменты эмпатии. Свидетельство, в свою очередь, устанавливает критическое отношение к любому понятию общности, индивидуализирует опыт, указывает на исключения, выявляет скрытые конфликты. Более того, Хартман видит в искусстве еще одну форму свидетельствования, а фундаментом для того, чтобы была выстроена эта родственность, является как раз аффективный и критический потенциал обеих форм передачи опыта прошлого. Главной их задачей становится выстраивание заново позиции свидетеля (witness) на месте распространившейся позиции ротозея (bystander). Хартман указывает как раз на театр как на медиум, при помощи которого можно вернуть ту силу аффективного реагирования, которая была утрачена, и освободить зрителей от позиции безразличия по отношению к картинам чужого страдания – благодаря формам сильно опосредованной репрезентации и неопосредованного присутствия. Хартман, с одной стороны, ссылается на «мудрость классической поэтики»53, которая вместо буквальной картины страдания выводит на сцену «речь свидетелей», а также на «гений Шекспира», который в сцене ослепления Глостера ломает принципы декоративности и преодолевает отвращение зрителей. Анализируя «Список Шиндлера», Хартман проводит критический анализ способа организации поля зрения в фильме Спилберга, отождествляя слишком легкую доступность каждой картины страдания с перспективой экзекуторов: только они обладали такого рода паноптическим знанием о событиях. Ни один из зрителей «Списка Шиндлера» не может повторить вслед за хором из «Орестеи» Эсхила: что стало потом, я не знаю, и рассказать о том не могу. Традиционные, чтобы не сказать рутинные представления о театре, на которые ссылается Хартман, позволяют создать силу сопротивления по отношению к медиальному, общедоступному зрелищу чужого страдания.
Одновременно с попыткой заново обрести возможность эмпатии польский театр замкнул круг: он вернулся к феномену первых послевоенных свидетельств о Катастрофе и предпринятой в тех условиях попытки обратиться к сочувствующей позиции зрителей. Возвращение это, впрочем, произошло после десятилетий идеологических манипуляций, социального исключения, после падения коммунистической системы в Польше и во всей Европе, в ситуации поколенческой дифференциации памяти и исторического знания, и вопреки той власти и тем злоупотреблениям ею, которые наблюдаются со стороны средств массовой информации в плане трансляции картин прошлого и факта присвоения в публичных диспутах тех дискурсов о Холокосте, которые были выработаны за границей, особенно на американской почве. Образ поляков как наблюдателей равнодушных или даже проявляющих враждебность по отношению к жертвам Катастрофы – тот образ, который в течение многих лет подвергался чуткому идеологическому и социальному контролю – возвращается уже не только как непристойный секрет полишинеля, но также и как универсальная тема современной культуры – глобализированной и медиализированной.
Любая попытка говорить о Катастрофе должна считаться с тем, какие опустошительные процессы произошли в коллективном сознании, прежде всего в связи с событиями 1968 года (отмеченного массовой эмиграцией поляков еврейского происхождения, тенденцией к замалчиванию или искажению фактов в учебной программе – действием цензуры)54. Перед польской культурой стоит задача не только напомнить обществу о «забытой» истории, но также вернуть ему статус свидетелей: свидетелей второго и третьего поколений, свидетелей поколения постпамяти. В этом смысле выстраивание – в массовом масштабе – позиции bystanders в рамках критически оцениваемой Хартманом публичной памяти оказывается механизмом, который может способствовать этому столь позднему возвращению ситуации свидетеля чужого страдания и оживлению прошлого не только в рамках исторических исследований, но также и на аффективном уровне. Хотя последнее в этом случае почти полностью обусловлено первым: в аффективное состояние может привести только получаемое знание.
Можно сказать, что переживания поляков идут совсем в другом направлении, чем то, что описал Хартман. Не от этического контроля над свидетельствованием и не от требования отделять факты от фикции – к субверсивным формам взаимопроникновения художнических стратегий и документа, памяти и фантазии, а как раз наоборот. Модели «некорректных» реакций на события Катастрофы были до самой глубины проработаны в польской культуре, а особенно в театре, уже очень рано. Особенно период 1962–1975, между «Акрополем» Гротовского и Шайны и «Умершим классом» Кантора, полон рискованных акций по отношению к коллективной памяти. Были испробованы все субверсивные, политически некорректные, этически рискованные формы обращения к опыту прошлого: инструментарий художественной провокации часто способствовал возвращению вытесненного переживания, связанного с чужим страданием. В свою очередь дискуссия об исторических фактах оказалась приостановлена, втиснута в ограничительные рамки или же фальсифицирована. В спектакле «Этюд о Гамлете» 1964 года Ежи Гротовский ссылался на память о польском антисемитизме времен Катастрофы, противопоставляя друг другу фигуру Гамлета-еврея и отряд польской Армии Крайовой, который обращался с ним с крайней грубостью, – а ведь эту тему польские историки начали изучать только в 1990‐х годах55.
Тони Джадт, вопреки постмодернистской тенденции разрушения слишком когерентных исторических нарративов и сомнениям в их достоверности, объявил о проекте общей истории56, реализация которого хоть и трудна, но необходима в условиях агрессивных и противоречащих друг другу нарративов идентификации, которые сложились после 1989 года: после того как пакт о непамяти от 1945 года, гарантировавший политический строй Европы, оказался разорван. И в сущности, такого рода работа историков в Польше происходит57. Поэтому проект постпамяти58, перенятый разнообразными институтами памяти, можно считать не столько методом деконструирования «объективных» нарративов (в коем качестве он часто фигурирует), сколько стратегией, чтобы придать получаемому историческому знанию силу аффективного воздействия. Рожденный из изучения интимной, семейной передачи травматического опыта младшим поколениям, проект постпамяти развился в идеологический и методологический фундамент политики памяти, реализуемой в массовом масштабе в исследовательских инициативах и мемориальных институтах. Самыми разнообразными способами проектируются фантазийные фикции, которые должны ввести наше историческое знание в сферу искусственно спровоцированных – но идеологически контролируемых – аффектов.
Историческая информация о Холокосте наделяет художественные проекты чем-то, что можно назвать силой корректирующего убеждения. Один из примеров. Во второй части спектакля «Ничто человеческое» (Сцена Прапремьер InVitro в Люблине, 2008), озаглавленной «Свидетель», были использованы фрагменты «Страха» Яна Томаша Гросса. Актеры, размещенные среди зрителей, произносили шокирующие свидетельства о событиях погрома в Кельце: описания жестоких убийств и постыдного поведения тех, кто устроил этот погром, и тех, кто его пассивно наблюдал. На большом экране публика видела саму себя – слушающую эти тексты. Камера была поставлена так, чтобы мы не смотрели себе самим в глаза: мы видели себя самих наискосок, смотрели взглядом Иного. Впечатление производили не столько сами свидетельства, которые значительной части публики были известны благодаря чтению книги Гросса, либо благодаря ее «пересказу» в СМИ (книга стала поводом для широких дискуссий), сколько сосредоточенное, неподвижное, внимательно слушающее сообщество зрителей, которое можно было увидеть на экране. И которое выглядело более вовлеченным, чем в реальности. Опосредованная в видеоизображении ситуация восприятия придавала свидетельствам аффективную энергию – а не наоборот. Публика принимала облик взволнованных и задетых за живое свидетелей. Видеообраз, однако, не столько обнаруживал зрительские реакции, сколько сам их генерировал. Так же как в лакановской стадии зеркала, в отражении мы получали не образ Реального, а воображаемую идентификацию, которая позволяет нам жить. Свидетельства об агрессивной или безразличной позиции поляков по отношению к пережившим Холокост евреям получали моментальное воздаяние в форме морально и эмоционально правильной – хоть и задержанной на несколько десятков лет – реакции сидящих в зрительном зале потомков того равнодушного и злого сообщества, которое окружало Якуба Гольда на варшавской улице в 1943 году. Обретение заново столь долго вытесняемой позиции свидетеля чужого страдания, которое стало для польской культуры после 1989 года одним из главных мотивов в выработке отношения к военной и послевоенной действительности, оказалось в этом случае лишенным того обременительного веса, которым наделили бы его подлинные культурные негоциации. Оно стало обманкой, trompe l’ œil. Ведь тут сыграло роль усиление нарциссических механизмов, когда свидетель оказывается растроган видом самого себя. Безразличие (или, как хочет Арендт, «глупость») превращается в иллюзию травмы благодаря нарциссическому созерцанию отражения в лакановском зеркале проектируемых идентификаций.


