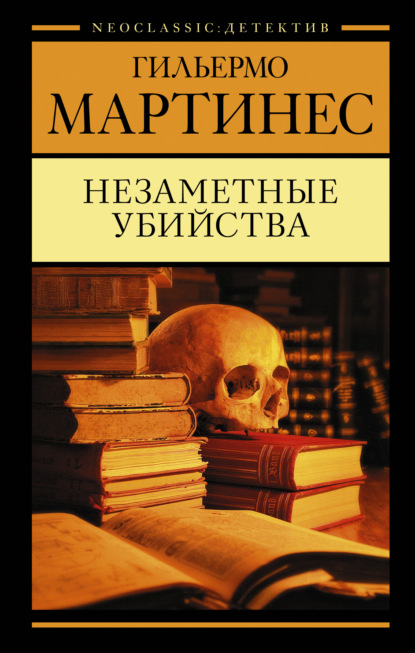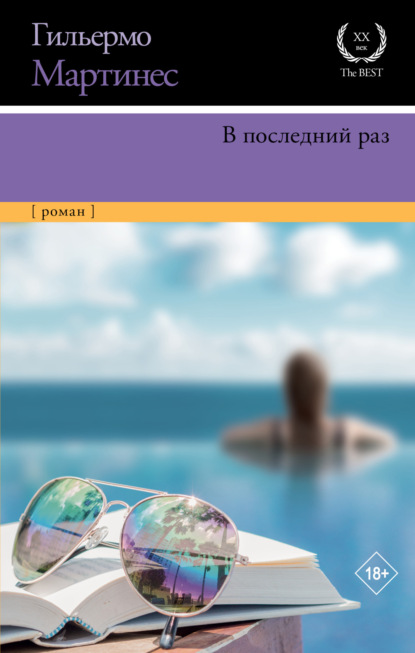- Рейтинг Литрес:4
- Рейтинг Livelib:3.8
Полная версия:
Гильермо Мартинес Преступления Алисы
- + Увеличить шрифт
- - Уменьшить шрифт

Гильермо Мартинес
Преступления Алисы
Брэнде, которая в глубине моей души преобразовала DEAD[1]в LIVE[2].
© Guillermo Martinez, 2019
© Перевод. А. Миролюбова, 2021
© Издание на русском языке AST Publishers, 2022
Глава 1
Незадолго до того, как завершилось столетие, я окончил университет, получил стипендию и отправился в Англию изучать в Оксфорде математическую логику. В первый год пребывания там мне выпала возможность познакомиться с известным Артуром Селдомом, автором «Эстетики умозаключений» и философских выводов из теорем Гёделя. И неожиданно, в смутной области между случаем и судьбой, я вместе с ним стал непосредственным свидетелем странной череды смертей, таинственных, легких, почти абстрактных, которые в газетах получили название «незаметные убийства». Вероятно, когда-нибудь я решусь обнародовать ключ к тем событиям, а пока могу только повторить фразу Селдома: «Идеальное убийство – не то, которое остается нераскрытым, а то, какое раскрывается, но виновным признают невинного».
В июне 1994 года, на второй год моего пребывания в Оксфорде, последние отголоски тех событий стихли, воцарилось спокойствие, и за длинные летние дни я надеялся наверстать упущенное, поскольку неумолимо приближался срок, в который требовалось отправить отчет по стипендии. Моя научная руководительница Эмили Бронсон, благодушно простившая мне месяцы, проведенные впустую, и то, сколь часто она видела меня одетым для тенниса в компании прелестной рыжей девушки, настояла, в британской манере, ненавязчивой, однако твердой, чтобы я наконец выбрал себе тему из тех, какие она предложила мне после семинарских занятий. Я выбрал единственную, хотя бы отдаленно соответствовавшую моему скрытому литературному призванию: разработка программы, которая на основании рукописного фрагмента позволила бы восстановить функциональные особенности начертания, то есть движения руки и карандаша в реальном времени написания текста. Речь шла о применении, пока еще гипотетическом, некой теоремы о топологической двоичности, на которую Эмили Бронсон пролила свет. Задача обещала быть весьма оригинальной и сложной, чтобы в случае успеха руководительница предложила мне совместную публикацию. Скоро, еще раньше, чем можно было представить, я продвинулся достаточно для того, чтобы явиться к Селдому и постучаться в дверь его кабинета. После того как мы прошли через ту серию преступлений, между нами сохранились дружеские отношения – простые и непринужденные. Формально моей наставницей была Эмили Бронсон, однако я предпочитал все свои идеи сначала излагать Селдому. Наверное, оттого, что под его терпеливым и немного насмешливым взглядом я свободнее выдвигал рискованные гипотезы, исписывал доску за доской и часто ошибался. Мы уже обсудили скрытую критику, содержавшуюся в прологе Бертрана Рассела к «Логико-философскому трактату» Людвига Витгенштейна, неявную математическую причину феномена сущностной неполноты, связь между «Пьером Менаром» Борхеса и невозможностью обозначить смысл, опираясь на синтаксис. Поиски совершенного искусственного языка, попытки уловить случай и «замкнуть» его в математическую формулу… Я, двадцатитрехлетний, как будто находил собственные решения подобных дилемм, всегда наивные и грешившие мегаломанией, но, несмотря ни на что, когда стучался к Селдому в дверь, он отодвигал в сторону свои бумаги, откидывался на стуле, выслушивал, слегка улыбаясь, мои речи, полные безудержного энтузиазма, а потом указывал на какой-нибудь труд, где все мои идеи были уже изложены или опровергнуты. Споря с лаконичным тезисом Витгенштейна о невозможности речи, я говорил слишком много.
Однако на сей раз все сложилось по-иному: проблема показалась Селдому разумной, интересной, решаемой. Кроме того, произнес он немного таинственным тоном, она недалека от тех, с какими нам пришлось столкнуться. Речь шла в итоге о том, чтобы осуществить исходя из неподвижного изображения – фиксированных графических символов – возможную реконструкцию вероятного прошлого. Я закивал, вдохновленный его одобрением, и быстро изобразил на доске причудливую кривую и вторую, почти примкнувшуюся к первой в попытке следовать за всеми ее изгибами.
– Я представляю копииста, как он старается твердой рукой повторять каждую деталь, с прилежанием муравья переходя от черты к черте. Но ведь оригинальный манускрипт писался в определенном ритме, с легкостью, в другом темпе. И я предполагаю восстановить что-нибудь от предыдущего физического движения, воссоздать акт порождения письма. Или ввести по крайней мере регистр, обозначающий разницу в скорости. Нечто подобное мы уже обсуждали относительно Пьера Менара – Сервантес, разумеется, как вообразил Борхес, написал подлинного «Дон Кихота» немного à la diable[3], при содействии случая, следуя за импульсами и порывами. Пьер Менар, напротив, должен воспроизвести книгу логически, черепашьим шагом, скованный законами и непререкаемыми суждениями. Да, текст у него получился идентичный в том, что касается слов, но не мыслительных операций, невидимых теми, кто до этого не дорос.
Селдом задумался, словно рассматривая проблему со всех точек зрения или просчитывая вероятные трудности, и наконец записал для меня имя математика Лейтона Ховарда, своего бывшего ученика, который сейчас, по его словам, работает в полицейском управлении и занимается экспертизой почерков.
– Уверен, вы с ним пересекались, ведь он неизменно является на четырехчасовой чай, хотя никогда ни с кем не вступает в беседу. Лейтон Ховард – австралиец, зимой и летом ходит босиком, чего я не могу не отметить. Он немного угрюмый, но я напишу, чтобы позволил вам немного поработать с ним, это поможет вам спуститься на землю, к реальным жизненным примерам.
Селдом, как всегда, попал в точку, и в следующем месяце я много часов провел в крохотном кабинете, который выделили Лейтону на чердаке полицейского управления, постигая из его архивов и записей помимо всех хитростей, связанных с фальсификацией чеков, статистические доводы Пуанкаре в его любопытном математическом заключении как эксперта по делу Дрейфуса; химические тонкости чернил и бумаги и вошедшие в историю случаи подделанных завещаний. На это второе лето я взял велосипед и, спускаясь по Сент-Олдейт к полицейскому управлению, здоровался с продавщицей в магазине «Алиса в Стране чудес», которая в это время открывала его, маленький и сверкающий, словно кукольный домик, с обилием кроликов, часов, чайников и червонных королев. Иногда, входя в полицейское управление, я замечал на лестнице инспектора Питерсена. В первый раз я засомневался, нужно ли здороваться. Вдруг он все еще в обиде на Селдома и косвенно на меня после тех событий, в ходе которых мы пересеклись, расследуя «незаметные» преступления? Но, к счастью, инспектор не затаил зла и даже пытался шутливо приветствовать меня по-кастильски.
Когда я поднимался на чердак, Лейтон уже сидел там с чашкой кофе на письменном столе и едва кивал в знак приветствия. У него была очень белая кожа, усыпанная веснушками, и рыжеватая борода, в которую он часто запускал пальцы. Он был лет на пятнадцать старше меня и напоминал то ли постаревшего хиппи, то ли тех нищих, гордившихся своими лохмотьями, которые читают книги по философии у дверей колледжей. Лейтон никогда не говорил больше того, что нужно, и только если я прямо задавал ему вопрос. В тех редких случаях, когда Лейтон решался открыть рот, он тщательно обдумывал то, что собирался сказать, и наконец выдавал сухую сентенцию, которая, подобно условиям математической задачи, была одновременно достаточной и необходимой. Я воображал, будто в эти мгновения Лейтон, исполненный гордыни, очень личной и никому не нужной, сопоставляет различные способы ответов, пока не выберет самый краткий и точный вариант. К моему разочарованию, как только я посвятил его в свой проект, он показал мне программу, уже несколько лет как внедренную в полицейское управление и основанную на тех же самых предпосылках, что и у меня: густота чернил и разница в нажиме как параметры быстроты, интервал между словами как индикатор ритма, угловатые штрихи в написании как градиент ускорения… Кстати, программа работала на чистом энтузиазме, базировалась на уподоблениях, на алгоритме последовательных приближений. Лейтон, заметив мое разочарование, не поскупился на целую связную речь: так или иначе, будет неплохо, если я подробнее изучу программу, вдруг теорема моей наставницы, которую я пытался изложить, послужит ее усовершенствованию. Я последовал совету, и он, убедившись в серьезности моих намерений, раскрыл передо мной копилку своих приемов и даже взял с собой на пару судебных заседаний. В зале перед судьями, может, потому, что его обязывали обуваться, Лейтон преображался: выступления были стремительными, блестящими, основанными на не вызывающих сомнения фактах, а тщательно выверенных и точных. На обратном пути я, восхищенный, позволял себе какие-то комментарии, но он по-прежнему отвечал односложно, снова замыкаясь в себе. Со временем я привык тоже хранить молчание в те часы, когда мы работали вместе в его кабинете. Единственное, что не переставало мне досаждать, это то, что, погрузившись в раздумья, углубившись в какую-нибудь формулу, Лейтон частенько водружал свои босые ноги на стол, и тогда, как в рассказах о Шерлоке Холмсе, я мог распознать на его подошвах все виды грязи и тины, какие есть в Оксфордшире и, что хуже, ощутить их запах.
До конца месяца мы с Селдомом снова пересеклись в Институте математики в четыре часа дня, когда в кафетерии подают чай и кофе. Он пригласил меня за свой столик и спросил, как дела с Лейтоном. Я сообщил ему с унынием, что программа, которую я задумал, уже существует и мне светит лишь слабая надежда немного улучшить ее. Селдом на мгновение замер, не донеся чашку до губ. Что-то в моих словах зацепило его больше, чем то, что я, согласно классике жанра, снова попал впросак.
– Вы хотите сказать, что в полиции уже есть такая программа? И вы умеете ею пользоваться?
Я с любопытством взглянул на него: Селдом всегда занимался логикой скорее в теоретическом плане, мне бы в голову не пришло, что его заинтересует конкретное, прозаическое применение какой бы то ни было программы.
– Именно ею я и занимался последний месяц. Вертел ее так и сяк. Что там пользоваться: если угодно, я могу на память назвать все параметры программы.
Селдом сделал еще глоток и продолжал молчать, будто не осмеливался заговорить, не мог преодолеть какую-то мысленную преграду.
– Но программа наверняка для служебного пользования. Каждый раз, когда кто-нибудь прибегает к ней, остается запись.
Я пожал плечами:
– Вряд ли. Я скопировал ее, приносил в институт и несколько раз запускал на компьютерах в подвале. Что до секретности… – Мы обменялись понимающим взглядом. – Никто не требовал от меня клятвы именем королевы.
Селдом усмехнулся и медленно кивнул:
– В таком случае вы можете оказать нам огромную услугу. – Он подвинулся в кресле, наклонился вперед и понизил голос: – Вы когда-нибудь слышали о Братстве Льюиса Кэрролла?
Я покачал головой.
– Тем лучше, – заявил Селдом. – Сегодня вечером приходите в половине восьмого в Мертон-колледж, я хочу вас кое-кому представить.
Глава 2
Когда я появился у входа в Мертон-колледж, вечерний свет еще лился с неба, что свойственно летним английским дням, долгим и ясным. Дожидаясь, пока Селдом придет за мной, я загляделся на прямоугольник газона, устилавшего первый двор, и меня в очередной раз пленила тайна английских садов. Было что-то в пропорциях стен, их высоте или в четкости, с какой выступали гребни крыш, что позволяло – то ли с помощью оптического эффекта, то ли благодаря всеобъемлющему покою – чудесным образом приблизить небо, словно платоновская форма прямоугольника притянула к себе небесный образец, так что казалось, будто до него можно дотянуться рукой. Я заметил посреди газона яркие, симметрично расположенные клумбы маков. Косой луч проникал в каменные галереи, и угол, под которым он освещал вековые камни, заставлял вспомнить о солнечных часах древних цивилизаций и медленном, по миллиметру, обращении времени, недоступном человеку. Селдом возник из-за угла и провел меня в сад fellows[4]. Мы видели, как навстречу нам спешат профессора, похожие на стаю ворон в своих жестких черных мантиях.
– Сейчас весь колледж сбежится в столовую, на ужин, – объяснил Селдом. – Мы сможем спокойно побеседовать в саду.
Он указал на столик, отдельно стоявший в углу галереи. Глубокий старик посмотрел в нашу сторону, осторожно положил на стол сигару, отодвинул стул и привстал очень медленно, опираясь на трость.
– Это – сэр Ричард Ренлах, – шепнул Селдом. – Много лет был заместителем министра обороны Соединенного королевства, а теперь в отставке. Он – президент нашего Братства. Кроме того, Ренлах пишет шпионские романы, пользующиеся большим успехом. Разумеется, все, что вы сегодня услышите, следует хранить в тайне.
Я кивнул, и мы, сделав еще несколько шагов, приблизились к столику. Я пожал руку, исхудавшую, но хранившую некий дальний отсвет былой поразительной крепости, назвал свое имя, и мы обменялись первыми вежливыми фразами. Даже под складками морщин и под черепашьими веками угадывалась живая натура, особенно во взгляде, холодном и проницательном. Слегка кивая в такт словам представлявшего меня Селдома, Ренлах с неопределенной улыбкой на устах не переставал изучать меня, словно предпочитая самому убедиться во всем и только потом прийти к какому-то суждению. То, что этот человек был номером вторым в министерстве обороны, не умаляло его в моих глазах, а, наоборот, возвеличивало. Я прочитал романы Джона Ле Карре и знал, что во внешней разведке, как и в других подобных организациях, номер второй на самом деле является номером первым. На столике стояли три бокала и бутылка виски, из которой Ренлах, видимо, уже изрядно угостился. Селдом налил себе и мне достаточно, чтобы сравняться с ним. Когда обмен банальностями завершился, Ренлах взял со столика сигару и глубоко затянулся.
– Артур, полагаю, поведал, что история, которую мы должны вам рассказать, весьма щекотливая. – Он обменялся взглядом с Селдомом, словно, приступая к сложному заданию, искал у него поддержки. – Так или иначе, рассказывать будем вдвоем. С чего же начать?
– Как посоветовал бы Король, – откликнулся Селдом, – начинайте сначала, следуйте до конца, а после остановитесь.
– Но, возможно, придется начинать еще раньше, – заметил Ренлах и откинулся на спинку стула, будто собираясь экзаменовать меня. – Что вам известно о дневниках Льюиса Кэрролла?
– Я даже не знал, что таковые существуют, – отозвался я. – На самом деле я почти ничего не знаю о его жизни.
Я почувствовал свою ущербность, словно на экзамене в свою студенческую пору: когда-то, в подернутые туманом детские годы, я прочитал, в неточном испанском переводе, «Алису в Стране чудес» и «Охоту на Снарка». И, даже если посещал Крайст-Черч, где Кэрролл читал лекции по математике и произносил проповеди, и скользил взглядом по его портрету в обеденном зале, мне и в голову не приходило искать следы, которые он оставил. Кроме того, тогда я испытывал безразличие – осознанное и, надо сказать, благотворное – к авторам произведений и в целом уделял больше внимания вымышленным творениям, чем их творцам из плоти и крови. Но, разумеется, в последнем я не мог признаться, это прозвучало бы пренебрежительно по отношению к двум членам Братства Льюиса Кэрролла.
– Дневники сохранились, – продолжил Ренлах, – однако не полностью. За свою жизнь Кэрролл исписал тринадцать тетрадей, и первый биограф писателя, его племянник Стюарт Доджсон, был, наверное, единственным счастливцем, кто смог прочитать их целиком. Мы это знаем, потому что в первоначальной биографии 1898 года он цитирует отрывки из всех тетрадей. Потом тетради свалили в кучу где-то в доме, и все. Но к столетию со дня рождения Кэрролла интерес к его творчеству возродился, и родственники решили вытащить на свет божий и собрать воедино все разрозненные бумаги. Они попытались восстановить дневники и обнаружили, что четыре из первоначального числа тетрадей пропали. Была ли то небрежность, утрата во время переезда, забывчивость? Или кто-то за три десятка лет, какой-нибудь родственник, чересчур пекущийся о том, чтобы защитить репутацию Кэрролла, тоже прочитал дневники, подверг их собственной цензуре и исключил эти четыре тетради, поскольку в них имелись слишком компрометирующие детали? Этого мы не знаем. К счастью, сохранились те, которые охватывают период, когда он познакомился с Алисой Лидделл и написал «Алису в Стране чудес». Но даже и там ученые, пристально исследовав их, обнаружили обескураживающую подробность, заронившую сомнения, вызвавшую к жизни разного рода версии и гипотезы. В тетради 1863 года не хватает нескольких страниц, а одна вырвана, та самая, что относится к весьма щекотливому моменту в отношениях Кэрролла с родителями Алисы.
– Щекотливому… в каком смысле? – спросил я.
– В самом, я бы сказал, прямом. – Сэр Ричард Ренлах снова затянулся сигарой, и тон его приобрел несколько иной оттенок, словно он приготовился ступать по минному полю. – Вы, несомненно, знаете о том, какая история лежит в основе книги об Алисе. Во всяком случае позвольте напомнить: тем летом 1863 года Кэрроллу уже было за тридцать, он жил в комнатах для холостяков в Крайст-Черч, читал лекции по математике и размышлял, принимать ли ему церковный сан. Восемь лет назад в Крайст-Черч прибыл новый декан, Генри Лидделл, и обосновался там с супругой и четырьмя детьми: Гарри, Иной, Алисой и Эдит. С этими детьми Кэрролл постоянно пересекался в садах библиотеки, но в момент их первой встречи Алисе едва исполнилось три года. Вначале он подружился со старшим сыном, Гарри, и даже помогал ему с математикой по просьбе декана. Вскоре Кэрролл начал описывать в своем дневнике встречи и прогулки, все более частые, со старшей девочкой, Иной, которую всегда сопровождала гувернантка, мисс Прикетт, женщина, судя по всему, лишенная привлекательности. Кэрролл исподтишка высмеивал ее вместе с девочками. Подрастая, Алиса тоже стала принимать участие в играх, какие выдумывал Кэрролл, слушала песенки, какие он сочинял, и присоединялась к группе, которая в летнее время отправлялась на речные прогулки, всегда в компании мисс Прикетт, как всякий раз указывалось в дневнике. Кэрролл тогда уже вовсю увлекался фотографией, купил первое оборудование и часто проводил фотосессии с девочками, снимая их в самых разных позах и костюмах, порой даже полуобнаженными, как на знаменитой фотографии Алисы в образе нищенки. Как ни странно нам это может показаться сейчас, то ли благодаря ореолу респектабельности, какой придавало ему положение преподавателя Оксфорда и одновременно клирика, то ли потому, что Кэрролл производил впечатление человека эксцентричного, однако безобидного, или просто те времена отличались наивной уверенностью в незыблемости правил, но ни декан, ни его супруга не препятствовали этим играм и прогулкам. Достаточно было Кэрроллу отправить записку, и он мог забирать детей на целый вечер и плавать с ними по реке. Во время одной из таких прогулок, год назад, он рассказал девочкам историю Алисы под землей, и Алиса Лидделл взяла с Кэрролла обещание, что тот запишет историю так, чтобы получилась книга. Он медлил полгода, прежде чем приняться за дело, и к лету 1863 года все еще не закончил сочинять. Но, безусловно, продолжал пребывать в наилучших отношениях с семьей Лидделлов. Теперь мы приближаемся к 24 июня. Утром Алиса и Эдит забегают в комнаты Кэрролла, чтобы позвать его на прогулку в Нанхем, к которой присоединяются декан, миссис Лидделл и еще несколько человек. Всего десять, и Кэрролл указывает каждого по имени. Гувернантка мисс Прикетт, в виде исключения, не участвует в прогулке, что весьма необычно, вероятно потому, что детей сопровождают родители. Они берут напрокат большую лодку, гребя по очереди, переплывают реку, пьют чай под деревьями, а вечером, когда остальных развозит по домам экипаж, Кэрролл с тремя девочками возвращается поездом. В дневнике, фиксируя момент, когда он остается с девочками наедине, он отмечает в скобках «mirabile dictu»[5]. Это выражение Кэрролл употреблял, если события неожиданно складывались в его пользу. Потом добавляет: «Приятная прогулка, очень приятно завершившаяся». «Очень» подчеркнуто его собственной рукой.
– Сколько лет было девочкам? – спросил я.
– Уместный вопрос, хотя в те времена возраст воспринимался по-другому. «Прошлое – чужая страна», как говорил Хартли, и это относится к обычаям тоже. Достаточно вспомнить, в виде парадокса, что по закону девушки могли выходить замуж в двенадцать лет, но вместе с тем в иных областях жизни они были более инфантильны, чем нынешние. Сам Кэрролл неоднократно использует выражение «девочка-супруга» в отношении малолетних жен других деятелей эпохи. Ине исполнилось четырнадцать лет, вполне развитая девочка-подросток, высокая, красивая, если судить по фотографиям. Она была первой подружкой Кэрролла, ее имя часто встречается в дневнике. То лето было последним, когда она могла выходить без компаньонки. Алисе исполнилось одиннадцать, и уже год она была любимицей Кэрролла. Многие современники свидетельствуют об особой привязанности, какую Кэрролл испытывал к ней, однако любопытно, что в дневниках об этом почти нигде не говорится открытым текстом. Она уже почти достигла двенадцати лет, возраста, в котором Кэрролл терял из виду или заменял своих девочек-подружек. Эдит исполнилось девять. – Ренлах взглянул на нас, словно ожидая вопроса, и, прежде чем продолжить рассказ, налил себе еще виски. – В тот день после прогулки Кэрролл уходит к себе и спокойно засыпает, а завтра снова просит отпустить с ним девочек, но на сей раз миссис Лидделл приглашает его к себе домой, и там имеет место памятный разговор, закончившийся их разрывом. Миссис Лидделл просит Кэрролла держаться в стороне от ее семьи. Что могло случиться во время прогулки или в поезде, по пути домой? Что заметила миссис Лидделл в отношениях Кэрролла с ее дочерьми? Что рассказали девочки, вернувшись домой? Все, что Кэрролл написал по данному поводу, находилось, без сомнения, на вырванной странице. Ясно одно: отношения Кэрролла с той семьей охладели, и он отдалился от Лидделлов на несколько месяцев. Он предпринимает попытку снова встретиться с девочками, но миссис Лидделл отказывает наотрез. И когда Кэрролл наконец-то завершает книгу, то не может лично вручить ее Алисе – приходится послать экземпляр по почте. Несмотря ни на что, и это тоже любопытно, отношения не прерываются окончательно. По прошествии времени его опять принимают в доме, хотя и не допускают слишком тесного общения с девочками. Впоследствии Кэрролл встречается с миссис Лидделл и продолжает посылать девочкам экземпляры своих книг до самого их совершеннолетия. Даже еще раз фотографирует Алису в тот самый день, когда ей исполняется восемнадцать лет.
– Похоже, что бы он ни сделал, это не сочли слишком серьезным, – заметил я. – Или же сомнение благосклонно разрешили в его пользу.
– В этом, собственно, и заключается вопрос: действительно ли Кэрролл сделал что-то во время поездки в поезде? Преступил ли он границы, которых, вероятно, придерживался по отношению к девочкам всю свою жизнь? Было ли некое нарушение, например физический контакт? Нечто такое, о чем девочки разболтали, не поняв до конца, но что пробудило в матери всяческие подозрения? Или и впрямь это было лишь смутное ощущение опасности, которое мать почувствовала во время прогулки, возможно, увидев его близкие, фамильярные отношения с ее дочерьми? Или поступило предупреждение от кого-то из взрослых членов группы, видевшего, как Кэрролл уединяется с девочками? Или, как предполагают, нечто иное? Один из выдающихся членов нашего Братства, Торнтон Ривз, недавно опубликовал биографию Кэрролла, самую полную на сегодняшний день, и, дойдя до этой черной дыры, предположил, что в ходе той беседы Кэрролл попросил руку Алисы. Это встревожило миссис Лидделл и заставило ее увидеть происходящее в совершенно другом свете.
– Грянул гром секса над идиллической викторианской лодочкой, – усмехнулся Селдом.
– Вот именно, – кивнул Ренлах. – Гроза с громом и молниями разразилась в свое время над головой Кэрролла, а ныне перешла в подспудную борьбу внутри нашего Братства.
– Борьбу… между какими-то фракциями? – спросил я.
Ренлах, казалось, обдумывал, как лучше ответить: будто он выразился чересчур откровенно и хотел теперь по-иному обозначить проблему.
– Дебаты, до сих пор открытые, по поводу того, преступной или невинной была любовь Кэрролла к девочкам. За свою жизнь он поддерживал отношения с десятками девочек, и ни одна из них, ни их родители ни разу не упомянули о каком-то сомнительном поведении. Кэрролл отдавал предпочтение девочкам и дружил с ними при ярком свете дня, со всей откровенностью. Ни в переписке, ни в документах, связанных с ним, нет ни одной улики, которая позволила бы преступить тонкую черту между помыслом и поступком. С другой стороны, мы знаем из тех же дневников, что в годы, когда Кэрролл бывал у Лидделлов, он переживал острейший духовный кризис, молил Господа, чтобы тот наставил его на путь истинный, позволил отрешиться от грехов. Но что за грехи? Опять-таки – грехи в поступках или только в помыслах? О подобном никогда не пишут открытым текстом, да и дневнику нельзя полностью доверять. Отец Кэрролла был архидьяконом, и в детстве сын получил строгое религиозное воспитание: любая сомнительная мысль, малейшее смятение чувств разрешались молитвой. В итоге вся биография Кэрролла строится на шатком основании, покоится на презумпции невиновности, пока не будет доказано обратное. И хотя многие в наше время предпочитают воображать самое скверное, все, кто объявил охоту на Кэрролла-педофила, до сих пор не сумели предоставить ни одного убедительного доказательства.