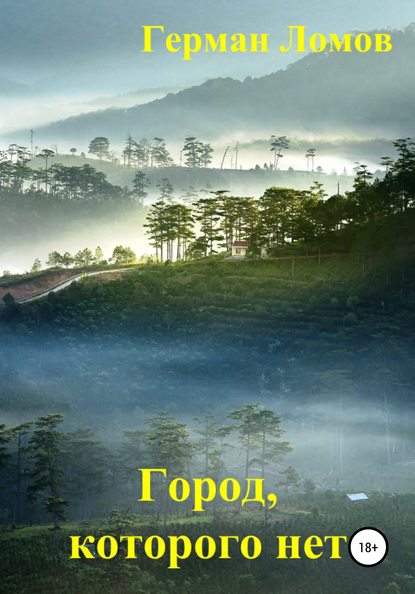Полная версия:
Герман Ломов Одинокий волк потерянной стаи
- + Увеличить шрифт
- - Уменьшить шрифт

Предисловие к электронному изданию
Социологи недавно наконец «объяснили» всплеск интереса к «дискотекам восьмидесятых», «Намедни», телеканалу «Ностальгия» и прочим проектам «о прошлом» тем обстоятельством, что детство, юность и молодость многих респондентов пришлась на вторую половину семидесятых – девяностые годы прошлого века. Мол, де, в этом и скрыта истинная причина, от этого и такой ажиотаж!
Социологи будто стакан шмали на обратный билет до Земли на Марсе обменяли… Очевидно, что когда ты молод, ученик или студент, ты наиболее восприимчив к окружающему миру в позитивном контексте. Все дороги перед тобой, вся жизнь впереди, как бы высокопарно или дежурно это не звучало. И, конечно же, медийные проекты «из прошлого» – это просто психологический «якорь», обуславливающий воспоминания юности, а значит – счастья. С тем наивным умилением собственной бесшабашностью и раздолбайством, когда сидят бородатые мужи на встрече выпускников и вспоминают: «А помнишь, как мы?…» – «Гы-гы, такое забудешь». Всё мило, пока кто-то не предложит: «Повторим?!». В лучшем случае, примут за шутку, в худшем – позвонят санитарам…
Именно этого чувства наивного умиления я боялся, когда спустя четверть века взял в руки пожелтевшие самиздатовские страницы «Волка»…
«Шёл» он, помнится, тяжело… «От хорошей жизни писателями не становятся», – сказал кто-то из великих. «Волк» пришёлся на завершающийся полуторагодичный этап первой (!) депрессии в моей жизни, из которой, к слову, именно он меня и вытащил. За это я ему даже сейчас, спустя годы, благодарен! Он просто показал Путь…
Именно с него я начался как писатель. Пусть форма подачи материала и стиль изложения ещё наивны и неуклюжи, но это – не более поиска стиля; в этом есть что-то от «отточки пера».
Итак, спустя семнадцать лет чувства наивного умиления «Волком» я не обнаружил: желания «всё это спрятать и никому не показывать» не было. Зато отчётливо проявились некоторые тенденции, о существовании которых я ещё пять – шесть лет назад даже не задумывался.
Если озадачиться вопросом актуальности «Волка» с высоты прошедшего времени, неизменно возникнет вопрос: «В чём ценность этого произведения? Что так обескуражило автора после почти двадцатилетнего прочтения?».
«Волк» ценен не тем, что частично отражает события нелёгкого для страны 1993-го (об этом и сказано-то вскользь, наброском); не описанием поведенческих стереотипов на грани нервного срыва; не предельной искренностью и откровенностью от удивления тем, что ты есть на этом свете и даже не эмоциональным накалом повествования.
Поражает, насколько точно, без искажений и прикрас тогда ещё двадцатилетний автор «прорисовал» своё будущее. Как он увидел его? Где узнал? Казалось бы, сделанные украдкой, невзначай, на уровне подсознания этюдные мазки со временем выросли в самостоятельные полноценные картины Жизни.
Переезд на ПМЖ в Москву, астрологические штудии, обретение Веры, писательская стезя, даже фактическое место автора в среде «коллег по цеху» – ведь всё это в полной мере соответствует тому, что «видел» я тогда, семнадцать лет назад! Будто просто «вспомнил своё будущее»…
И даже пока ещё несбывшийся прогноз о «17 июля» с высоты некоторых авторских «специальных познаний» не так чтобы и абсурден!..
Нужно только малость подождать…
Автор
Автор выражает глубокую признательность и благодарность Гаврилову Сергею Давидовичу, Глущенко Александру Юрьевичу, Ларину Владимиру Владимировичу, Лариной Юлии Александровне, Лариной Светлане Владимировне, Шевелёву Виталию Викторовичу за моральную поддержку и содействие в издании настоящей книги.
С этого момента мы распростились с обществом
и вступили на путь одиночества:
ибо только этот путь верен и безопасен.
Саади
Одиноким Волкам,
покинувшим пределы зоопарка,
посвящается
* * *
Я ищу таких, как я, сумасшедших и смешных,
Сумасшедших и больных.
А когда я их найду, мы уйдем отсюда прочь,
Мы уйдем отсюда в ночь.
Мы уйдем из зоопарка.
Е. Летов
В мои неполные двадцать два я очень часто встречал особую породу людей – обитателей зоопарка. В толпе их нелегко узнать. Они сливаются с массой логичных, законопослушных граждан и живут в ней. Живут по своим, особым, никому не изведанным законам. В основном это молодые люди шестнадцати – тридцати лет. К сожалению, очень большая часть этого неизведанного лагеря так навсегда, под давлением системы, и остается в зоопарке, – иначе любое организованное общество и не назовешь. Части же, очень малой, удается оставить эти сваренные второпях клетки и вольеры и, несмотря на то, что ни один раз их хлещут по щекам и связывают руки обстоятельства – джунгли, – они счастливы. Ибо это и есть жизнь.
* * *
Я хотел написать поэму – появилась жестокая проза.
Я хотел перерезать вены – лишь слегка оцарапал кожу.
Я, желая пройти сквозь стену, не решился на главный шаг.
Я хотел… я решил…но не сделал: просто Солнце светило не так.
* * *
Я хотел написать поэму –
Появилась жестокая проза…
Мой стол усыпан грудами черновиков: листы, листики, листочки, шпаргалки, клочки бумаги, газетные полосы, смятое, даже исписанная туалетная бумага есть. Я хотел написать поэму об убийце президента.
Я хотел… я решил…но не сделал:
Просто Солнце светило не так.
Сначала не мог поймать слог, потом не мог определить тему: то ли поэма будет в виде хронологической последовательности убийства, то ли, что, несомненно, лучше, в виде мыслей героя на заданную тему. На этом и опутали меня лианы мыслей. Подёргался, попрыгал, покричал – нет никого на пути. Один блуждаю давно уже. Стал выбираться сам.
Пошёл курить на кухню. Мысли роились вяло: Александр II. Реформа 1861 года. Каракозов. Он палач. Неудачное покушение. Он уже жертва. Александр же, будучи потенциальной жертвой, приговаривая Каракозова к смерти, становится палачом. Проходит пятнадцать лет. Палач Александр становится жертвой палача Гриневицкого. Палача, ставшего жертвой в момент казни: Гриневицкого разорвало брошенной им же бомбой.
Другой пример. Столыпин. Взрыв на Аптекарском острове. Здесь – Столыпин жертва. Россию покрывают «столыпинские галстуки». «Я так понимаю: смерть – как расплата за убеждения». Здесь Столыпин – палач. 01 сентября 1911 года палач погибает от пули, выпущенной в театре палачом Богровым. Спустя два – три месяца палач, точнее, уже жертва Богров повешен палачом Юшковым. Палачом в буквальном смысле слова.
Самая трагическая судьба. Николай II. Ходынка. Кровавое воскресенье. Палач поневоле? 17 июля 1918 года. Екатеринбург. Палач становится жертвой. А его палачи? Троцкий, Сафаров, Берзин, Голощёкин, Белобородов? Умирают в застенках сталинских лагерей и тюрем. Бедняге Троцкому даже в Мексике скрыться не удалось…
«Жертва – он же палач, палач – он же жертва. Возможно, в этом непреложный закон Абсолюта», – мелькнуло в голове, когда залётная крыса – куда только домовой с комендантом смотрят? – пересекала по диаметру нашу почему-то квадратную общажную кухню.
Я хотел написать поэму –
Появилась жестокая проза…
Мой стол усыпан грудами черновиков: листы, листики, листочки, шпаргалки, клочки бумаги, газетные полосы, смятое, даже исписанная туалетная бумага есть. Заходите – даром отдам. Может, у вас получится поэма об убийце Президента.
* * *
Последнее
В отдаленном городе Энске,
Что затерян в просторах страны,
Жили двое – Олег и Владимир –
Вместе пили, учились, росли,
Вместе строили планы и даже
Умудрились, в конце концов,
При наличии разных родителей
Походить на двух близнецов.
Но однажды, осенним денёчком,
Где-то в августе иль в ноябре,
Скука ль наших друзей одолела,
Иль душа полыхала в тоске…
После бурной недели запоя –
Сколько можно так жизнь прожигать?
К черту – тёлок, гулянку и водку –
И отправились в город. Гулять.
Жарко. Скучно. Осенние мухи
На помоях притихли и спят.
Вдруг плакат: «JFK. Выстрел. Даллас».
Попадает под взоры ребят.
Не промолвив друг другу ни слова –
Они знали, что делать и как –
Только скрипнула дверь потихоньку
Да слегка надломился косяк.
В кинозале прохладно и пусто,
Растворяется, гасится свет…
Мы пока оставим героев.
Не мешать же в кино. Я – эстет…
Лишь когда саблезубые титры
Поползли, по экрану скользя,
Вышли, взяли бутылочку водки,
Покурить в парке сели друзья.
На скамейке сначала сидели,
Вдруг Олег пересел на асфальт:
«Вовка, вижу – тебя звали Освальд,
А меня звали – Джон Фитжеральд.
Вижу осень. Ноябрь. И Даллас.
Люди, флаги, ряды этажей,
Стекол глянец и ствольное жало
В отрицанье листвы тополей.
А затем, за прикладом винтовки
Я увидел тебя и твой лик…
Может это во сне? Понарошку?
Переписан сценарий на крик?
Вовка, видишь меня? Я – в машине
Обнимаю красотку-жену,
Улыбаюсь, но жить мне осталось
Где-то, может, минуту одну».
«Да. Я вижу, Олежка, я – Освальд.
Вижу спины мелькают, бока…
Ты в кортеже на главной машине,
Я с винтовкой в углу чердака…
Появились они в воскресенье.
Как узнали мой адрес? И где?
Обещали почёт, уваженье…
А делов-то – огонь по тебе.
Я не смог. «Что за бред»? Отказался:
Пули выпустил так… Не смотря.
За «такую стрельбу» их же люди
Через сутки «убрали» меня.
Будь готов, я стреляю по тени,
Но уже разыгралась пурга…
Твой убийца в кустах, за спиною,
Нагибайся в машине. Пора».
Все… Щелчок за спиною раздался…
В суете шелестели кусты…
И молчали друзья на асфальте:
Не успели проститься… Увы.
В захолустном городе Энске,
Что затерян в просторах страны,
Жили двое – Олег и Владимир –
Вместе жили и вместе ушли.
Удивится жестокий читатель:
«Что привидется в пьяном бреду?»
Только выстрел гремел не в Далласе…
А по Энску, в осеннем саду…
* * *
Когда-то, очень давно, было это лет двадцать тому назад, вышел я на эту дорогу. Много нас было поначалу. Но, как всякая тропинка имеет много ответвлений, поворотов, так и меня завели неведомые лесные тропы в даль лесную и остался я в этой чаще один. Последний мой спутник… Расстался я с ним. Он сам свернул.
И вот брожу я то по лесу, то на дорогу какую набреду. Одинокий Волк Потерянной Стаи.
Брожу я и боюсь только двух вещей: треска сучьев деревьев ночью и шелеста придорожной травы на ветру.
Но не смейте встать на мою дорогу, не смейте идти по моим, с таким трудом проложенным следам. И уж храни Вас Господь, если встанете плечом к плечу со мной.
Это только мой путь.
Загрызу на хуй!
* * *
– Вашим творческие планы, Ломов.
– Дожить до утра.
* * *
Я не помню ни лиц, ни характеров. Я помню только наличие.
Мальчика Володю, лет пятнадцати, и девочку, семи-восьми лет, со странным именем Камчатка. Это были мои адъютанты. У нас была строжайшая дисциплина. Я требовал беспрекословного подчинения: Володя таскал мои вещи, а Камчатка была обязана охранять недвижимое и, почему-то, оружие. Служили мы исправно.
Настала пора прощания. То ли я, двадцатидвухлетний монарх, был обязан умереть, то ли просто уехать куда-то. Не знаю. Но расставание обещало быть вынужденным и долгим.
Я в белой рубахе, почему-то без галстука, вышел то ли из штаба, то ли из обычной землянки, снял с гвоздя охраняемую Камчаткой авоську и присел на пороге. Подошёл Володя.
– Друзья мои, вы ещё такие молодые, вы – дети, а я втащил вас в рамки такой жесткой муштры. Простите, если можно, конечно. Я обязан уехать. Когда-нибудь мы встретимся… Мне, наверное, будет лет сорок, возмужает Володя, а Камчатка превратится в очаровательной красоты леди. Вы забудете меня, как только я покину пределы гарнизона. А, встретившись на улице, лет через двадцать, вы меня просто не узнаете. И вас долго будет мучить вопрос: почему этот средних лет мужчина, увидев вас, судорожно схватился за сердце и, как в песне «брызнули слёзы, как камни, из раненых скал».
Володя молчал, натянув кадыком юношеского горла струну потока эмоций.
Я представил нарисованную мною картину: я был твёрдо уверен, что так всё и случится. Уткнувшись лицом в рукав накрахмаленной рубашки, я зарыдал. По уже прошедшей боевой юности, по потерянным через какие-то минуты друзьям.
Детской, мокрой от волнения ладошкой, Камчатка коснулась моей макушки.
– Спасибо Вам, Герман Владимирович, Вы были так добры ко мне. Спасибо Вам за Ваши подарки.
Я пытался вспомнить, что я подарил, кроме отобранного детства этому лепестку, этой маленькой девочке, взявшей вместо куклы, по велению времени, моё снаряжение, и не смог. А она продолжала:
– Не плачьте, Герман Владимирович, господину нехорошо плакать перед адъютантами.
Да, она ещё много не понимала, мой маленький адъютант, но я отвернулся…
… – Ломов, Ломов, ты плачешь во сне. Какие-то проблемы? – окликнули меня справа.
– Я только что потерял своих лучших друзей. Теперь уже навсегда, – ответил я, просыпаясь.
Я не помню ни лиц, ни характеров. Я помню только наличие.
* * *
Товарищам по службе… и не только
посвящается
Невоенный гарнизон
Мы были друг за друга готовы жизнь отдать,
Глоток последний фляжки отдать были готовы,
Но вызвал командир меня, сказал: «Тебе пора!
И завтра ты покинешь пределы гарнизона».
Вернувшись к вам, я бросил фуражку на газон,
Прилег и сам. «Я ухожу». И потянулся сонно.
В ответ вы промолчали, но каждый вспоминал
Мои последние бои в составе батальона.
Металась взаперти душа, я на локте привстал,
Спокойно прикурил, но молвил раздражено:
«Забудут командир и подчиненные меня,
Как только я покину пределы гарнизона.
И даже в памяти у вас не будет места мне,
Зачем ушедших помнить? Нет резона.
И только плиты на плацу да кроны тополей
Запомнят, как я покидал пределы гарнизона».
Назавтра, тихим утром, покуда сон еще
Не думал оставлять доверенного трона,
Он тихо вышел и уже никто и никогда
Не помнил, как он покидал пределы гарнизона.
* * *
Одна наводила послеобеденный макияж, другие обсуждали последствия бурной ночи, третья делала массаж спины четвёртой, а пятая примеряла вновь приобретенный бюстгальтер…
Молодому практиканту стало жутко от этих неосторожно нанесённых оскорблений: мужик, всё-таки.
Зашла шестая: «Здравствуйте, девочки».
«Добрый день», – откликнулся почему-то молодой практикант под бурный смех представительниц прекрасного пола.
«Вот уж, действительно, ручной», – молвили все в один голос.
А в суде снова отключили тепло и свет, и теперь уже никто не сможет рассказать, насколько был красив Наполеон.
* * *
Харламову О.В.
Летает мой сосед по комнате, над стулом. Буревестник эдакий. Отчёт о практике сдать готовится. Стержней у него нет. Как стеклодув из одного в другой чернила перекачивает. Таракана бы ему подкинуть: может и его засосёт в эту пластмассовую колбу. Таракан, наверное, совсем охуеет от наглости такой.
* * *
Севрюкову В.А.
За окном ударили заморозки. Самое время сидеть дома, в полумраке, а кухне, за чистой скатертью. Чаёк попивать, сигареты потягивать.
А они молча глядели в окно на огни ночного города, понимая, что ещё предстоит долгий путь в никуда этой ночью и какое-то необъяснимое чувство радости от предстоящего действия наполняло каждого.
Часы пробили одиннадцать. Затушив сигареты, они покинули тихое пространство кухни. Ночь приняла каждого в свою бездну…
…Их разделяли 83 489 километров и 176 световых лет.
* * *
Сидел. Читал газету. Анекдоты.
«Потерялась собака породы ротвейлер, ошейник коричневый, кожаный, черная с рыжими подпалинами, четыре года, сука… падло! Зачем я живу в этой стране?».
Прочитал – и головой об стол, зарыдав. От жгучей правды и собственного бессилия. Вот так анекдот…
* * *
Хорошо сидеть в каком-нибудь офисе. Просто так. Гостем. Сидеть и ничего не делать. Стирательную резинку в руках мять бестолково, шилом в стену тыкать, орлянку крутить случайно найденной монетой. А кругом – барышни. Милые и не очень. И работы, впрочем, до хуя. Плевать. Водить тупым, ничего незначащим взглядом по стенам. Если бы ещё в офисе курить разрешили – вообще бы на девятом облаке оказался.
* * *
В ряде регионов страны возникли криминальные зоны – Армения, Кавказ, Средняя Азия – большая тревога.
Центральные органы располагали информацией.
Мне снились окровавленные банкноты у подъездов
И одинокий прозрачный глаз, простреленный побережьем сломанных подразделений,
Птица, прибитая гвоздем к телу суток,
Уходящие степи, разрезанные насквозь,
Пылающее мясо на пепле страны. Это дождь обознался.
Запах розы и черных крыльев.
Мне снилось мое приближение
И украшенные бриллиантами ноги ушедших лет,
И лик обжаренной сковородки, как прадеда чистых страниц.
* * *
Отдыхая в пещере – шел тогда 973 год нашей эры – в Мексике, в пляшущем огне я увидел:
Потерянное портмоне забытого этнографа,
Много-много бензопил у башен городской ратуши и
образ Гитлера, только без усов.
Через 18 дней я был принесен в жертву богине Детросфеме. Сгорел на костре. А ведь был ювелиром. Ну, никакого уважения у этих туземцев.
Ужасное было времечко, скажу я Вам…
* * *
Ненавижу, когда плачут женщины и дети. Не в истерике, а тихо, спокойно. Не могу. Сразу же ничтожеством себя чувствую. Оттого и реакция неадекватная: когда успокаиваю, когда ухожу, когда начинаю психовать, стулья пинать.
* * *
Вечером он шёл по улице. Осень. Забрызганные грязью авто, пасмурные пешеходы, всё было хреново – даже душа материлась. Он шёл и не знал, куда смотреть. Вдруг, когда ему уже хотелось закричать на всю улицу, какая-то неведомая сила подняла его взгляд к небу. И небо сгустками облаков, сквозь которые были видны очертания яркого, синего облика Вселенной, виновато улыбнулось ему.
* * *
Ровинскому М.А.
Москва слезам не верит,
Москва тебя лелеет,
Москва тебя балует,
Москва тебя зовёт,
Москва тебя прощает,
Москва не упрекает,
Напоит и накормит,
Москва тебя поймёт.
Столица – не глубинка,
Но каждый здесь – соринка,
Любой, несильный духом,
Отсюда прочь уйдёт.
Москва тебя согреет,
Посолит: соль не преет.
Кровавыми зубами
Москва тебя сожрёт.
04.10.1993
* * *
Я бежал по зоопарку. Не в переносном смысле. В прямом.
Забежал я туда исключительно на пять – десять минут. Была у меня цель…
Слева и справа мелькали бассейны, террариумы, аквариумы, клетки, вольеры. Всё проносилось. Но мне нужны были только две клетки: степного волка и льва. Она…
Одинокий и забитый, но не сдавшийся взгляд исподлобья, шерсть дыбом. И какая-то наглая, дерзкая, вызывающая восторг и восхищение полуоскал – полуулыбка – полузлоба… И жуткая уверенность, что, мол, всё равно не сдамся, не сдохну здесь, уйду, только меня и видели. Вот бы у кого жизни-то поучиться. Горжусь, серый брат.
Через пару-другую минут натыкаюсь на вторую цель. Вот он – Царь зверей. Даже жутко до озноба в ногах стало.
Поведение у нашего монарха, будто он не в клетке находится, а на воле, в прериях: то лежит, один глаз прикрыв, положив голову на лапы, то думать начинает – по клетке мягкой поступью строго по периметру шагает.
Лев – не горилла, с глупыми криками тараща глаза, по клетке носиться. Ему даже взаперти достоинство нужно держать за глотку.
Здесь силу воли и духа иметь надобно.
Это гнусное дело постоянным жестом голодно.
* * *
Отчего-то, не знаю почему, я встал на сторону всех аутсайдеров, оппозиционеров, алкоголиков, неудачников, бомжей, авангардистов, непризнанных писателей и поэтов, имеющих в перспективе только лихолетье. У них есть, чему поучиться.
А в детстве, вроде бы, был «прилежным и умненьким» мальчиком.
* * *
Если нет ни сил, ни выхода, тогда надо уходить достойно, не сдавшись, как это сделали Янка, Башлачёв, Селиванов и другие мои братья и сёстры по оружию и фронту. Они победили, попрали, в первую очередь, свирепый закон самосохранения, в конечном итоге саму смерть. Те же, кто остаётся после них, обязаны удерживать как свои, так и осиротевшие участки фронта и воевать за себя и «за того парня». Фронт держится на нас, нам нельзя умирать от слабости, тоски и безволия, мир держится на каждом из нас – истинно живом.
Е. Летов
– О, «дух» прибыл, – кричали они мне в спину. Кто – с радостью, кто – с завистью, а кто – и со злостью. Не обращая внимания на окрики, я шёл «на ковёр» к Главному.
– А, Ломов, привет-привет, дружище, – говорил мне Главный, – прибыл значит. Добрался нормально?
– Нормально вроде, – я, признаться, несколько оторопел от такого радушия: Главный, всё же.
– Один?
– Один.
– Это плохо. Потери терпим. Ещё бойцы нужны. Куда распределиться желаешь?
– Куда пошлёте – туда и желаю. Не мне выбирать.
– Не, брат, у нас так не воюют: у нас каждый должен быть на своём месте. Выбирай.
Он полистал какие-то бумаги, похожие на боевой блокнот. Такие полевые командиры в планшетах носят.
– Давеча ходатайства пришли… Вот, поэты с менестрелями пополнения просят. Плохи там дела. Янка, СашБаш, Игорян, Витёк… Все полегли. Слыхал?
– Слыхал, – ответил я и зачем-то привстал. – А я-то с какого боку? У меня стихов – кот наплакал. Да и качество – ещё то. Ну какой я поэт?
– Это ты брось, – резко оборвал Главный мои восклицания. – Быть поэтом – это не стишки сочинять. Поэт – это состояние души. Диагноз, если хочешь. А стихи и поэмы – это так, материальное воплощение борьбы. Оружие в битве!..
– Если уж можно выбирать, – неожиданно осмелел я, – к ним не пойду. Не сдюжу.
– Куда же тогда?! – он растерянно развёл руками.
– А одному можно? Без участия в подразделениях? Я привык в одиночку работать от меланхолии и скорбности ума. В секрет, какой-нибудь? – с опаской спросил я.
– Есть у меня такие. Воюют поодиночке. Но гнусное это дело. Страшно там…
– А кто это? – выпалил я, забывшись, и сразу покраснел от своей наглости.
– Сказать не могу. Военная тайна. В тени они. Бойцы невидимого фронта. Понимаешь?
Я кивнул.
– А впрочем, согласен, – вдруг неожиданно согласился Главный. – Иди, осмотри позиции и выбирай место дислокации.
– Потом к Вам? Доложить?
– Зачем? Не надо. Займёшь позицию и воюй себе на здоровье. И обо мне забудь. Я тебе боле ни хозяин и ни слуга. И помощи от меня не жди. Умрёшь неизвестным. Имя твоё только после смерти на поле брани найдут. Лет эдак… через… А не знаю, в общем. Найдут, так найдут, не найдут – не обессудь. Плохо воевал, значит.
– Можно идти?
– Иди, – молвил он с каким-то показным равнодушием. Понимает, наверное, что долго не выдержу, – да, чуть не забыл, – услышал я уже на пороге, – запрещаю:
1. Работать без прикрытия. Все боевые действия и вылазки совершать исключительно под псевдонимом.
2. Любое общение на темы фронта. Духовное одиночество обязательно.
3. Брать на себя обязательства. Ты никому ничего не должен, кроме денег.
4. Жить за пределами России.
Имеешь одно право: почувствуешь, что силы на исходе – можешь уйти. Маршрут не обозначаю. Право выбора – за тобой: хочешь – наверх, хочешь – в сторону. Но район боевых действий оставь обязательно. Теперь всё.
Я вышел из штаба.
– О, «дух» прибыл, – кричали они мне в спину. Кто – с радостью, кто – с завистью, а кто – и со злостью. Не обращая внимания на окрики, я отправился занимать круговую оборону.
Один…
* * *
30 марта. Среда.
Событие дня: на перекрестке с корнем вырвали светофор. Но он и лежа работает. Моргает, подлец, не сдается.
Общение: 46 минут с секундами.
Молчание: 23 часа 13 минут с секундами.
Одиночество: 29 часов.
* * *
А время всё шло и шло. И главная звезда Льва, его альфа – Регул, уходила всё дальше и дальше в сторону Магелланова пролива. А вместе с ней уходил и ветер. Ветер Юга. Ветер Огня. Его Ветер. Ветер отсутствия денег, но широты творчества. Приходил другой – чуждый ему. Он уже чувствовал его успокаивающее дыхание. И он уже знал, что…