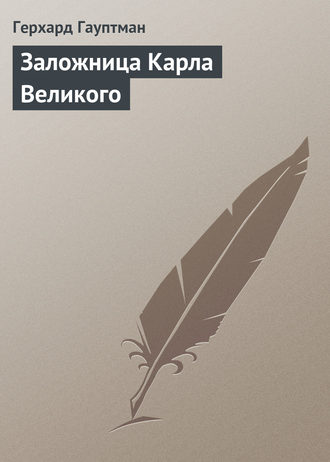
Герхард Гауптман
Заложница Карла Великого
КАРЛ. За лошадью твоей она бежала?
РОРИКО. Да. Три мили пробежала. она за мной. Я пустил галопом лошадь, и она летела вслед.
КАРЛ. Окрылены, что-ль, ноги у неё?
РОРИКО. Быстрей она бежит, чем зверь лесной, спасаясь от собак: ловка на редкость и легка как пух. Я сжалился над нею, наконец, и крикнул: – За кем ты мчишься? Ответ был: – За тобой! Опять ей крикнул я: – За дьяволом, а не за мною! – нет, за тобой! – За падалью ты, как собака, гонишься, ей крикнул я, сильней пришпорив лошадь. – Остановись, ты упадешь, опять сказал я. – Сердце не выдержит и разорвется. Передохни, не то умрешь ты, не покаявшись в грехах.
КАРЛ. А что ж она в ответ?
РОРИКО. Пронзительно и дико захохотала. – Убирайся в свой монастырь! я крикнул в бешенстве – иль уползи обратно в аахенский притон, куда меня домчал мой конь, от страха ноздри раздувая, и где, на горе мне, тебя я подобрал!
КАРЛ. Не благородно с нею ты поступил.
РОРИКО. Не благородно, знаю – не только с нею, но и с собой. Все ж не хотел ее ударить и не решался оставить в поле. Все бешенство свое излив, я вспомнил притчу о добром самарянине, и, завернув ее в мой плащ, повез к себе домой. Старик привратник перекрестился, увидев нас: меня за повода держащим лошадь, ее закутанной в седле.
КАРЛ. Куда же вы приехали?
РОРИКО. Сюда.
КАРЛ. Где остановились?
РОРИКО. У сенешаля старого, близ входа в сад.
КАРЛ. Так, значит, Герзуинда…
РОРИКО. Здесь, к сожаленью: пока она на попеченьи сторожа, приставленного к виноградникам, и в домике живет его.
КАРЛ (поднимается, долго смотрит в лицо Рорико и затем разражается несколько искусственным смехом). Так вот каким рассказом, Рорико, прикрыть ты захотел на редкость смелую, безумную проделку? Зачем так много слов? Ты мастер сети расставлять. И неужели я для того на волю птичку отпустил, чтобы стрела твоя попала ей в нежный пух? Боюсь, не хватит, безумный граф, на этот раз, терпенья моего и дочери моей Ротрауты. Она, ты знаешь, следит за благонравьем при дворе.
РОРИКО. Мне больно, что ты дурно судишь о своем слуге.
КАРЛ. А мне, что соблазнил ты девочку, и дерзко на нее ж клевещешь. Довольно! В том, что случилось, я виновен. Но для того, чтобы не умножать вины, решил я зову внять Господню; орудием тебя избрал Он, чтоб снова ко мне приблизить Герзуинду. Хочу я снова повидать ее и снова попытаться, не сможет ли совет разумный, соединенный с властью, исправить то, что злого сотворила чрезмерная поспешность. Ты вздрогнул? Не знаешь разве, что милость короля не долговечна… Вот мой приказ: пусть, ничего не говоря ей, Герзуинду приведут сюда, чтоб погулять среди кустов и гряд. Затем, пусть все ее оставят, и я ее как бы случайно встречу.
(Рорико удаляется с поклоном. Карл стоит задумавшись. Потом он оглядывается, чтоб убедиться, что он один, и замечает двух ратников, которые, стоя в отдалении, ждут его приказаний)
КАРЛ. Унесите копья. (Они вынимают копье Карла из мишени и уносят самую мишень) Скажи, охотник, кто там над бузиной склонился у домика, в котором живет садовник?
1-ЫЙ ОХОТНИК. Девочка какая-то.
КАРЛ. Не внучка ли садовника?
1-ЫЙ ОХОТНИК. Быть может и она. Но нет; волосы черны как смоль у той – у этой золотые.
КАРЛ. Узнай, кто эта девушка. Иль нет – уйдите.
(Охотники удаляются, слышен громкий смех Герзуинды. Король бледнеет, стоит не двигаясь и пристально смотрит в направлении, откуда появляется, наконец, Герзуинда; она, запыхавшись, гонттся за бабочкой и подходит совсем близко к Карлу, не замечая его)
КАРЛ. Куда бежишь?
ГЕРЗУИНДА (слегка вскрикнув). Я бабочек ловлю.
КАРЛ. А знаешь ты, на чьей земле?
ГЕРЗУИНДА. Хозяин здесь граф мэнский, Рорико.
КАРЛ. Ты думаешь, что здесь поместье графа Рорико?
ГЕРЗУИНДА. Не знаю право. Быть может, Ротрауте принадлежит оно. Мне все равно, она ль, дочь короля, или возлюбленный её здесь грядки полет и овощи ростит. Навряд ли бабочкам капустным счет они ведут, иль мертвым головам. Никого не опечалит пропажа ящерицы маленькой.
(Она в эту минуту словила ящерицу и видимо всецело ею поглощена)
КАРЛ. Плохо пришлось тебе бы, Герзуинда, когда бы думал я как ты. Но обрати свой взгляд и на меня: сегодня в третий раз меня ты видишь. Подумай, вспомни! Я тот старик со взором утопающего, который тебе свободу дал. Ты видишь: дышит он, не утонул и снова на твоем пути стоит. Быть может, взгляд его сегодня не будет тягостен тебе; быть может, сильная рука теперь тебе нужнее, чем тогда – теперь, когда узнала ты свободу?
ГЕРЗУИНДА. Помолчи! Ты видишь, какую ящерицу я прелестную поймала!
КАРЛ. Вижу. Но слушай, Герзуинда: не привык стоящий пред тобою с глухими говорить, и не советую тебе глухою притворяться. Я пред тобой виновен. Прихоти послушный толкнул тебя я в пропасть, хотя и знал, что гибель и позор грозят тебе на дне, что копошатся гады там. Я тебя толкнул, и собственной рукою спасу тебя из глубины падения и горя. Ты поняла меня?
ГЕРЗУИНДА (со смехом). Колонной Ирмина клянусь, что нет.
КАРЛ. Какая дерзость! Языческое племя, к которому принадлежишь и ты с твоим безумьем, хотя обречено на мрак, все ж, чистоту блюдя, одно лишь знает для тебя и всех тебе подобных: веревку! Когда себя не соблюдает дева, дают ей выбор: иль самое себя веревкой задушить, или чтоб женщины кнутами гнали ее по городу из дома в дом, пока, не вынеся позора, не умрет она.
ГЕРЗУИНДА. (с некрасивой резкостью). А сами тоже самое с мужьями делают, за что казнят других, волчицы злые! Им слаще кровь проливать, чем страстью любовной упиваться!
КАРЛ. Чьи слова ты повторяешь, Герзуинда?
ГЕРЗУИНДА (удивленно). На твоем ведь языке я говорю.
КАРЛ. Но мысли чьи?
ГЕРЗУИНДА. Кто мне сказал, что женщины собаки, и что они безмозглы? Это знает и самый глупый из мужчин.
КАРЛ. Кто ты, Герзуинда? Глаза мои ушам не верят, а уши глазам не могут доверять. Глаза мне говорят, что ты ребенок и рада будешь кукле. Но уши думают иное: женщина она, мне говорят они, – и тяжесть женской доли изведала она до дна. Скажи, поверить ли ушам, иль взору?
ГЕРЗУИНДА (смеясь). Подари мне куколку! Пожалуйста. Но все ж не думай, что молодых пятнадцать лет подобны дням пятнадцати слепых котят.
КАРЛ. Что ж предпринять? Я вижу, правда, что поступаешь ты не слепо и не ветренно; ты смело и с решимостью упорной идешь на зло. Прав, быть может, Эркамбальд. Быть может, правда, что в тебя вселился демон, и живет в дворце, слоновой костью изукрашенном и золотом, в дворце, что Герзуиндою зовется, изгнав оттуда Бога. Но, слушая тебя, не понимаю, почему в столь чистом и красивом доме не живет прекрасная душа, почему в нем зло и ужасы таятся?
ГЕРЗУИНДА. Странно. Вы все, мужчины, таковы. Всякий, кто брал меня, мне тоже говорил, что ты, – и обвинял меня за то, что я ему давала. (Внезапно обвивая ему шею руками) Не будь строптив, старик.
КАРЛ (не двигаясь). Будь я Рорико, граф Мэнский, я б оттолкнул тебя; но я король, я Карл – и следовать его примеру не могу.
ГЕРЗУИНДА (стоя на подножьи статуи и все еще не снимая рук с шеи Карла). Вы все напрасно тратите так много слов! Молчите, и с благодарностью, без слов, берите то, что вам дают.
КАРЛ. Молчи, дитя греха, прижитое святой, во сне сатиром оскверненной! Уйди. Уйди из жалости! Стынет разум, бледнеет власти сила перед тобой, перед улыбкой тонких уст. Что мне мешает пальцами, вот так, нажать на шею белую – чтобы не стало твоей недоброй силы, саламандра, и чтоб в моих руках осталась чистая и благостная плоть, не искаженная душой бесовской?
(В страстной борьбе с самим собой отталкивает в изнеможении Герауинду)
ГЕРЗУИНДА. Ай, ай! мне больно!
(Отвернув от неё лицо, Карл тяжело переводит дыхание, стараясь успокоиться. Герзуинда отходит от него, следит за ним исподлобья и трет руки. Вскоре Карл снова начинает)
КАРЛ. Когда бесплодны наставленья, приходится прибегнуть к власти, – отеческой, но непреклонной. Не постигнет кара тебя, – тебе я волю словом королевским дал все, хотя б и самое бесстыдное, свершать. Но не было согласья моего зло над тобой творить другим: будет теперь работа сыщикам моим, и будет палачам кого на воздух вздернуть! Скорее назови мне имена. Скорей! Вот грифель; вот дощечки из воска свежого. Напиши скорее имена гуляк распутных, дерзнувших под сенью моих соборов палатинских бесстыдно согрешить с тобой. Скажи мне, Герзуинда, имена, и я их твердою рукою в воск впишу, и к каждому прибавлю: смерть, смерть, смерть!
ГЕРЗУИНДА (вне себя, но твердо, несмотря на свой ужас). Нет, не сделаешь ты этого. Нет! Не сделаешь. Не назову тебе я никого, кто исполнял мою лишь волю.
КАРЛ. Так имя Рорико впишу я, графа Мэнского.
ГЕРЗУИНДА (спокойно). Впиши его. Жалеть не стану, когда слепой удар сразит слепого.
КАРЛ. Ну, хорошо. Когда спущу я свору, сама она сумеет дичь выследить. Если не хочешь всех назвать, то назови мне одного, кто был тебе дороже всех.
ГЕРЗУИНДА. Зачем? Чтоб на кресте его ты распял?
КАРЛ. С тобою повенчать – ужель такое наказанье?
ГЕРЗУИНДА (быстро, испуганно). Нет, не хочу я вместо всех лишь одного!
КАРЛ (с облегчением). Ну, значит, ты не знаешь, Герзуинда, ни многих, ни даже одного. Теперь впервые на месте кажется мне легкий пушок твой на висках. Наконец рассеялись слегка туманы злые с бедной твоей души, (все более величественно и отечески). Не проник еще ко мне твой взор из глубины. Еще душа твоя едва проснулась, и в полусвете ты ощупью идешь. Пусть воссияет свободно луч грядущей юности твоей во всей красе и ясности; тогда, в прозрачном сияньи утреннем, весна твоя распустится. Имей терпенье, Герзуинда. Кто ждать не хочет, пока на виноградной лозе нальются грозди, тот кислое вино лишь вкусит. Поверь мне, ты сама не знаешь кто ты – кто я: я ж знаю и тебя и самого себя. Знаю, и все-ж – подумай только! – все-ж руку помощи не отвращаю от тебя. Ты спросишь, почему? Магистр Алькуин считает муравьев достойными раздумья долгого и бережно несет их на соломинке издалека домой. Вот так и я. Страшусь я, что ли? Страшны мне муравьи? Ногой ступал я на целые селенья муравьев. Всех родичей твоих, весь твой народ осилил я. Так не спасаться ж бегством мне от тебя. Послушай, Герзуинда: считай своим поместье это. Здесь, в саду, ты, от земли оторванная, снова корни пустишь. Здесь медленно расти ты будешь, здесь расцветешь, созреешь на попеченьи у садовников искусных. Здесь, под защитой стен твоих, живи привольно. Будь госпожей; прислужницы тебя в убранства пышные оденут, носить ты будешь золото. И всякое веселье по твоему приказу здесь устроят. Одно лишь…
ГЕРЗУИНДА (поспешно). Должна я как цветок любимый короля в гряде стоять недвижно?
КАРЛ. Ты знаешь разве цветок любимый короля?
ГЕРЗУИНДА. Конечно. Ребенком лет семи сама сажала я с благоговеньем мальвы короля.
КАРЛ (все более благородным, чисто отеческим тоном). Теперь благоговенье чуждо твоей душе. Не будь оно так чуждо, ты почитала бы с благоговеньем – самую себя, согнала бы позор с царицы неба, отраженной в тебе как в зеркале. И трепетно б хранила чистый лик небесной матери от грешных рук и от прикосновенья нечестивых. В этом доме, Герзуинда, кипят горячие источники; из плоти грешной извлекают они отраву и очищают кровь. И здесь, в груди моей, горячий родился источник. Струи любви отцовской текут во мне неудержимо. Торопись. Очисти душу от грехов, омой все пятна, Хотя покрыта ты была б теперь грехами, все ж будет день, когда тебе скажу я – покорствуй только чистой воле моей, скажу: – пойди и покажись священникам. В тот день предстанешь светлой ты пред миром, подобно безгрешному небесному цветку, подобно лилии в руках Марии.
(Он кладет правую руку на голову Герзуинды; она целует его опущенную левую руку)
Занавес.
Действие третье
(Снова в поместьи короля вблизи Аахена; покой внутри дома с колоннами под куполом; стены и купол украшены византийской мозаикой; пол из цветного мрамора; открытые и закрытые двери ведут во внутрь дома; одна дверь ведет в сад, магистр Алькуин и граф Рорико поднимаются по нескольким ступенькам на колоннаду из покоя, расположенного ниже. Магистр Алькуин, высокий старик с благородной осанкой, у него вид ученого и в то же время поэта и светского человека; он в длинной священнической одежде)
РОРИКО. До сюда – и не дальше могу я довести тебя. По знаку ж первому, который даст привратник, я должен буду, господин магистр, удалить тебя из дома и из сада – хотя бы даже короля и не успел ты повидать.
АЛЬКУИН. Как? Даже если призван я посланием собственноручным короля?
РОРИКО. Ты призван королем?
АЛЬКУИН. Конечно, граф. Не то сидел бы мирно я за книгами моими и, чуждый любопытства, не стал бы слухам я внимать, поверь – как не внимал и до сих пор. (Слегка насмешливо) Что тут у вас за тайны? Зачем могучий Карл в засаде спрятался? Опасен путь сюда по узеньким дорожкам, через трясины, кольцом замкнувшие ваш островок и этот дом. Говорят, усилился разбой на всех дорогах, и потому наш Геркулес беде помочь бы должен был и шкуру львиную надеть на плечи, а не сидеть у прялки… Не знаю для чего.
РОРИКО. Тут, в подземельи замка, горячий бьет источник – ключ юности, как называет его король. Для пользования водами приехал Карл.
АЛЬКУИН. Ключ юности? Что этим словом называет он?
РОРИКО. Как что? источники горячие.
АЛЬКУИН. Ну да, конечно. Я понял, милый граф, – и знаю хорошо я патриарха нашего. К тому же, видел я, как пастухи – не пастыри народа, а пастухи ягнят – свои от старости похолодевшие и коченеющие ноги купали, чтоб согреть, во внутренностях молодых ягнят. И Зевс, верховный пастырь и всех богов и всех людей, от холода порой дрожал, хоть вечной молодостью одарен был. Боялся он состариться и – как ни странно – почувствовал себя опять он юным в образе быка. И я в спине стал холод ощущать. Ключ юности!.. Но если в прок идет леченье первейшему из всех людей… Пусть выберет он, наш Зевс земной, любую из своих овечек… Хотел сказать я, пусть купается в каких желает водах.
РОРИКО. Тебя призвал король – и потому садись, почтеннейший магистр. Призвал он также для доклада и Эркамбальда, канцлера. Я вижу в этом знак хороший. Иначе… врача не достает, чтоб правильно вести леченье. Я не смею ничего сказать – и не могу, и не хочу. Не в силах я понять его могучий дух и направлять его. При взгляде на него, я только – повинуюсь. Но не помолодел на вид он от купаний. Сам посмотри. Я слышу на террасе шаги его.
(Он быстро отходит вглубь. Алькуин еще раз оглядывает свою одежду и становится направо; чернокожий слуга открывает извне садовую дверь и пропускает мимо себя Карла. Король несколько бледнее чем прежде, взгляд его менее спокойный и твердый. Он выступает из полосы дневного света, которые бросает длинную тень, замечает Алькуина и вглядывается в него, держа руку вид глазами)
КАРЛ. Не могу еще я различить, кто ты.
АЛЬКУИН. А я сейчас признал того, кого не мог бы мы признать – Давида.
КАРЛ. Флакк – это ты!
АЛЬКУИН. Да, я слабый Флакк, который в руки попался воинов твоих суровых. Они, в лесу рассыпавшись, стоят на страже Цезаря, как будто в стане вражеском живет он. К счастью, пощадили они меня.
КАРЛ. Для человека и для всех людей то место – стан врагов, где человек живет и люди! (Хлопает в ладоши) Садись! По знаку калифа Гаруна-аль-Рашида из ничего блаженство рая возникает. Я ж магии не знаю. Я грубый франк и предложить могу я только вино любимое твое; к вину ж вареного и жареного. Вот все, чем после трудного пути ты можешь подкрепиться в жилище бедном поселянина.
АЛЬКУИН (смеясь). Я скромен – большего не требую.
(Двое сарацинских слуг в пестрых тюрбанах появляются и с низким поклоном Карлу целуют землю)
АЛЬКУИН (взглянув на слуг, шутливо). И с бедностью Давида я мирюсь.
КАРЛ. Гасан, хотим мы есть как боги.
(Слуги, которые поднялись, снова падают ниц, целуют землю, потом встают и уходят)
АЛЬКУИН. А все ж ты маг – как вижу!
КАРЛ. Увы – не маг я! От калифа Гаруна-аль-Рашида четырех я получил еще других рабов в подарок – совсем таких как эти; а также – как знаешь ты и должен знать, невольниц темнокожих такое же число. Совсем забыв о них вначале, теперь сюда я вздумал их призвать – и лишь тогда подарок оценил калифа. Они купанье так приготовляют, так в простыни укутывают, так тело разомнут, не дожидаясь приказаний, что ими нахвалиться я не могу. Ты думаешь изнежить могут рабы угодливые? Нет: изнеженный, таким уже родился. У меня нет этого в крови – не сделаюсь изнеженным я никогда, мой Флакк. Теперь узнай, зачем тебя призвал я. Ты родился в Нортумбрии, и ты саксонской крови?
АЛЬКУИН. Да, король Давид.
КАРЛ. Так скоро ты услышишь и увидишь в моем доме нечто тебе сродни. Об этом, впрочем, потом поговорим. Теперь мне нужен не саксонец – а брат по разуму и по значенью мне равный. Ты, Флакк, таков. Владеешь ты мечом духовным, что на земле Господь оставил. Его ты поднял – как поднял я меч светский. Ты Петр для меня – гораздо более чем римский Петр – меча хранитель и ключей. В божественном Господь тобой руководит, и в человеческом не менее того от Бога и только от Него твои сужденья. Вот почему я человека в тебе приветствую, который понимает, а не судит, который хочет жизнь прославить, а не умертвить. Когда б отбросить я хотел то, что душою овладело, как дядя мой Пиппин, ушедший в монастырь, то мне нужна была бы только пустая келья – я не искал бы друга. Ты мой друг и предан мне, мой Флакк. Послушай: приключилось со мною чудо. Люди говорят, быть может… Не знаю, что люди говорят, но чувствую, как будто из земли в меня вливаются по тысяче каналам, как в молодое дерево, живые соки. Смешно это, быть может, и странной кажется насмешкой над собственным моим рассудком деревенским и над законами календаря крестьянского. Давно уж высохший, годами отмеченный ствол, отдавший соки растеньям чужеядным, на нем живущим, опорой им служащий, чтобы по-прежнему тянуться прямо к солнцу они могли, хотя он сам уж мертвый… Вот этот старый ствол вдруг ожил! В листочках шум поднялся: Как! Старый Карл, масличное дерево засохшее, вновь жить задумал! – и не для нас… шипят… а для себя! Ну да. Быть может, стыдиться следует пред вами Карлу, лишнему на свете старику, в том, что он жив еще. Но хочет жить он – это правда.
АЛЬКУИН. Государь! Давид великий в братстве вашем рыцарском! Оно, семью дарами пламенея святого духа и высясь надо всем земным, тебя собою окружает как драгоценный камень оправа золотая… Что мы без тебя? Ты плугом владеешь так же как мечем и так же хорошо писать умеешь. На свет ты вызываешь живущее в земле, а мирно на ней живущих питаешь ты и охраняешь. Чтя небо, ты сеятель Христовой жатвы. Дитя лепечет имя Карла, еще не зная имени отца. Карл – не простое слово, а силы великой знак. Повздорят ли между собой соседи – произнеси лишь слово Карл – и распря кончена. Воюют ли народы – Карл! скажи – и восстановлен мир. Царит ли мир – раздастся слово Карл! и потемнеет небо, задрожит земля, и слово Карл! звучит угрозой тишине, войну обозначая. Вот в Византии император – кумир народа; произнеси лишь слово Карл! – и любовь к нему развеется как прах по ветру. Кто ж дерзнул бы наставником стать Карла и возвеличиться над ним?
КАРЛ. Власти ничьей я над собою не боюсь. Я слишком грубый франк – чтоб справиться со мною. Когда я здесь стою, в кольчуге и щитом вооруженный, едва ль копье чье либо в тело мне проникнет – едва ли даже кожу мне заденет. Но иногда я обнажаю душу, доверчиво покровы сняв… и уязвим тогда суровый Карл в том, что он нежного в душе таит. (Сарацинские слуги вносят накрытый стол и устанавливают его; другие держат золотые тазы и кувшины для омовения) Я был здесь одинок. Садись к столу! (Он и Алькуин садятся у стола; им льют воду на руки) Мне мило и желанно одиночество, но все ж не доставало мне друга одного. (Он поднимает кубок и пьет, чокаясь с Алькуином; наступает короткая пауза, затем Карл снова говорить) Желаешь? Я могу приятное составить за трапезой нам общество.





