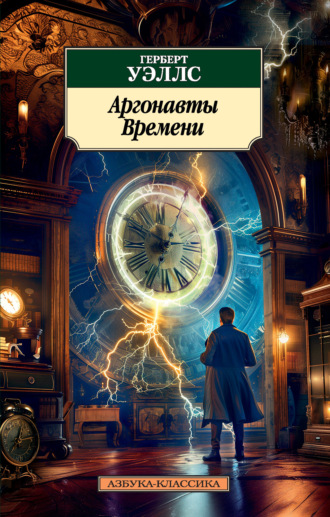
Герберт Джордж Уэллс
Аргонавты Времени
Алек почувствовал, что этот упрек во многом справедлив.
– Что же мне тогда делать?
– Обретите вдохновение.
– Но я думал, что это и было вдохновение!
– Как же! – Портрет сардонически усмехнулся. – Всего-навсего фантазия, что пришла вам в голову, когда вы увидели, как шарманщик смотрит на ваше окно! Ночное бдение! Ха-ха!
Алек застонал.
– Так и есть! Я женат. Дни вдохновения миновали. О, если бы обратить время вспять! Я отдал бы все на свете, только бы вернуть вдохновение, освободиться от унылой домашней жизни, которую веду с недавних пор. Я… я мог бы отдать душу ради искусства!
– Как пожелаете, – ответил портрет, и затем воцарилось безмолвие.
– Эй! – воскликнул Алек; внезапно осознав, с каким хладнокровием только что принял на веру столь необыкновенный феномен, он ощутил неловкость. – Вы что-то сказали? – спросил он после паузы. – Я говорю… Вецетти… или как там вас… вы что-то сказали?
В тишине он мог слышать стук собственного сердца. Картина хранила молчание, только красный глаз горел как раскаленный уголь.
Он очень медленно приблизился к картине и провел рукой по красочному слою. Вне всяких сомнений, краска – просто краска. Должно быть, он задремал. Ему довелось прочесть много научной литературы о галлюцинациях и прочих подобных явлениях, и потому он не был сильно напуган; и все же… Он чувствовал на себе взгляд красного глаза, но тот оставался совершенно невозмутим.
– Вы желаете сказать еще что-то? – спросил Алек, демонстративно смешивая все краски на палитре. – Потому что, если нет…
Тык, тык, тык – принялся он тыкать кистью в холст, мазок за мазком торопливо закрашивая это раздражающе смелое на язык создание. Некоторая заминка вышла с устранением красного глаза: он, казалось, продолжал алеть сквозь слои краски, которые наносились поверх него. Наконец, выдав что-то вроде подмигивания, исполненного затаенной иронии, пропал и он.
Все пятна и мазки, все изгибы и контуры несносной фигуры на полотне скрылись из виду. Алек с облегчением отступил от картины. «До чего ж я суеверен», – в нерешительности думал он, тщательно осматривая уничтоженный портрет. И вдруг в бессмысленной мазне ему почудились какие-то очертания.
– Боже мой! Вот и идея! – воскликнул он и, сложив пальцы в подобие рамки, поднес их к самым глазам.
Он услышал тихий стук в дверь. Это была жена. Через несколько мгновений дверь отворилась, но он не обернулся.
– Алек, – произнесла она, – ты знаешь, который час?
Ответа не последовало.
– Уже почти полночь, Алек.
Снова никакого ответа.
– Алек, ты собираешься писать всю ночь?
– О да! Да! – отозвался он, не оборачиваясь, и из-за резкости тона его слова прозвучали едва ли не бранью; когда же, ощутив легкое чувство вины, он оглянулся, Изабель уже ретировалась.
Это и в самом деле была блестящая идея, да что там – Алека как будто внезапно озарило вдохновение свыше! Изгибы наверху напоминали сходящиеся своды крыши; внизу смутным пятном темнел рыцарь, стоявший на страже; а посредине, в том белом пространстве, которое Алек интуитивно искал с самого начала, расположились неусыпно бдящие духи Рыцарства, Благородства, Чистоты и Веры. Замечательный по форме и колориту, этот замысел явился ему во всей ясности зримого материального образа. Не прошло и минуты, как он уже лихорадочно готовил краски. Рассвету предстояло застать работу в разгаре.
Он трудился как одержимый, когда в глухой ночи жена снова постучала ноготками в дверь мастерской. Сделав шаг назад, чтобы оглядеть полотно, он увидел, что она стоит на пороге в белой пижаме.
– Алек, – сказала она, – уже четыре часа утра. Ты так вконец себя загонишь.
– Прочь отсюда! – грубо приказал он и, пока жена поспешно удалялась по коридору, подошел к двери, захлопнул ее и запер на ключ. Ему почудилось, что он слышит плач Изабель; но в этот момент взгляд Алека упал на рождавшуюся его усилиями картину, и он забыл обо всем прочем.
Когда свет лампы с цилиндрическим фитилем сделался желтым в бледных солнечных лучах, хлынувших в комнату, Алек все еще продолжал самозабвенно работать. Значительная часть картины была вчерне завершена; она уже смотрелась великолепно.
Что это? Стук в дверь.
– Войдите.
Однако дверь была заперта. Не отводя глаз от холста, Алек отворил ее и услышал голос Лиззи, младшей служанки.
– О сэр, с вашего позволения, хозяйка прислала меня сказать, что она больна и просит вас прийти к ней.
– Больна? – повторил Алек, возвращаясь к картине и нанося на холст немного пурпурной краски.
– Ночью она поскользнулась на ступеньках лестницы, сэр, и утром у нее ужасно разболелись бок и спина, сэр.
– Это залитое лунным светом окно превосходно, – произнес Алек, задумчиво продолжая работать кистью. – А… Лиззи!
– Слушаю, сэр.
– Принеси мне кофе и сэндвич.
И, напрочь забыв о болезни жены (новость, которую он, по правде говоря, едва расслышал), Алек вернулся к своему грандиозному замыслу, сосредоточившись на обманчиво однотонных фигурах молящихся, стоящих в окнах, и на надгробных изваяниях, призванных создать эффект глубокого безмолвия вокруг бодрствующего рыцаря. На него наконец снизошло подлинное, несомненное вдохновение. Прежде он опасался, что его задумка выльется в нечто столь же безжизненное, как те несусветные полотна на сходные сюжеты, которые собраны в зале Чантри Южно-Кенсингтонского музея на радость незадачливым потомкам. А теперь его полотно по богатству деталей и силе красок было достойно кисти Тициана, по гармонии линий – кисти Лейтона[33] или Рафаэля. Этот замысел был утренней зарей его славы. Трудиться, трудиться, трудиться – две недели, возможно, три, и затем наступит заря бессмертия!
Час проносился за часом, творение Алека мало-помалу превращалось в шедевр. По мере того как продвигалась работа, Алек, казалось, утратил всякую способность испытывать утомление: он не ощущал ни голода, ни жажды. Картина завораживала его все сильнее и сильнее; наружные впечатления становились все глуше и глуше. Он смутно припоминал каких-то людей, отвлекавших его несообразными речами о болезни жены и тому подобных глупостях; лампу, заново зажженную и вскоре опять начавшую угасать на фоне снопа красных искр, поднявшегося над очагом; переполох в доме, который он поднял, чтобы раздобыть для нее керосин; прислугу, отчаянно пытавшуюся его успокоить; остановившиеся часы; сон урывками прямо в одежде, на полу возле мольберта. Но все эти воспоминания были неотчетливыми и спутанными и напоминали скорее мимолетные обрывки сновидения, нежели реальные события. Единственной связной идеей, давшей единственный плод, великолепный и естественный, была Великая Картина – все более прекрасная, все явственнее обретавшая черты совершенства.
Это рождение безупречного шедевра, сопровождавшееся вдохновенными паузами, было поистине величественным. Дни пролетали незаметно; трижды гасла лампа. Алек мог сказать, что его жизнь достигла своей наивысшей точки, – если бы не бледные, но настойчиво повторявшиеся видения несчастья, которое произошло с Изабель, и не воспоминания о красноглазой фигуре, одолевавшие его в недолгие часы забытья. И то и другое вносило зыбкую тревогу в экстатическое блаженство чистого искусства, которым он жил.
– Ваша жена опасно больна; падение повредило ее внутренние органы. Она может умереть.
– А? Что? А, это вы!
Перед ним стояла мать его жены, за ее спиной маячил доктор. Оба смотрели на Алека с нескрываемым ужасом в глазах. Но он не придал этому значения. В последние несколько дней все вокруг выглядели странно.
– Она умирает, – мрачно произнес доктор.
– Умирает? Она? О ком вы говорите? – Алек опять подошел к картине и с нежностью прикоснулся к поверхности холста.
– О вашей жене.
– О моей жене… Доктор, какое сегодня число?.. Бдение… Доктор, не уходите, не взглянув на мою картину. Так какое, вы говорите, число нынче?.. А! Стало быть… да, самое время выставить ее в Академии![34] – Он не мешкая выскочил на лестничную площадку и прокричал: – Лиззи!
– Ради бога, дружище, тише! Вы же не хотите ее убить?
– Убить? Что за вздор! Мне нужен кеб. Бдение завершено!
Драгоценная картина! Он должен сам снести ее вниз. Как тихо в доме! На лицах двух слуг, стоявших в дальней части холла, запечатлелся благоговейный трепет. Совершенство уже начало свое триумфальное шествие. Теперь они, несомненно, понимают, что он гений. Скоро это поймет и остальной мир.
Он уже садился в кеб, когда доктор с побелевшим лицом показался на пороге дома, спустился с крыльца, схватил Алека за руку и что-то заговорил.
– Вы идиот! Отпустите мою руку!
Затем кеб покатил в сторону Берлингтон-хауса. Алек любовно разглядывал картину, держа ее на коленях.
Она смотрелась прекрасно, хотя освещение было тусклым. Казалось, что… да, свет струился сквозь нее; промасленный холст стремительно обретал прозрачность. Происходящее было поистине странно и, по правде сказать, неприятно. Портрет, который он замалевал, вновь проступил наружу – со всеми изначальными мазками и пятнами. Потом из-под него стало пробиваться то, что Алек так старался скрыть: сперва возникло алое мерцание, за ним показались едва заметные контуры. Глаз на зловещем лице с каждой секундой горел все ярче, как будто хотел выжечь всю ту красоту, ради которой Алек работал. Да! Это была та самая дьявольская красноглазая фигура – она торжествующе ухмылялась, после чего со смехом произнесла:
– Как видишь, я все еще здесь.
– Кто?.. Что? – выдохнул Алек и умолк, открыв рот.
– Вот теперь ты целиком посвятил себя искусству. Дружище, ты понял, что сказал тебе доктор?
Хрясь!
…Некоторое время все было как в тумане, даже уверенность в том, кто он такой, несколько пошатнулась. Алек видел, что лежит с раздавленной рукой среди обломков кеба, налетевшего на подводу с бревнами, и ощущал боль и покалывание в ране. Он также заметил, что великая картина безнадежно повреждена (в ней зияла огромная дыра, странным образом повторявшая очертания жуткой красноглазой фигуры), а потом задался вопросом: «Где я сейчас?»
Дальше – резкий переход: больничная палата. Вероятно, какое-то время он был без сознания. Алек услышал, как медсестра с грубоватым лицом сказала другой:
– Руку придется ампутировать.
Он разом лишился руки и картины – обманчивая мечта о бессмертии растаяла, не оставив следа. Его охватили горечь и скорбь, захотелось утешения и покоя. С острой тоской он вспомнил о жене, о ее нежных прикосновениях, чутком взгляде и ласковом голосе. Страшная боль пронзила его – он словно наяву услышал слова доктора: «Во имя благопристойности вернитесь – она мертва». Наваждение, во власти которого он находился, миновало. Что он отринул, погнавшись за призраком славы? О, какая низость, какое безрассудство, какая безумная неблагодарность! Что за сила смогла принудить его к этому, что за демон сумел подчинить его своей воле?
– Тебя посетило вдохновение.
Алек повернул голову. Возле койки, скрестив руки и зловеще ухмыляясь, стоял красноглазый человек – творение его кисти.
Алек хотел было закричать, но обнаружил, что онемел; хотел соскочить с койки, но тело его не слушалось.
– Ты мечтал испытать вдохновение. Искусство несовместимо с семейными добродетелями. Твоя жена мертва; ты обрек ее на смерть, когда отдал душу ради искусства.
– Отдал душу ради искусства?
– Да. Ха-ха! Как жаль, что ты лишишься руки!
И тут красноглазый человек уселся верхом на Алека и уставился единственным сверкающим оком на свою собственность.
– Зачем ты породил меня? – спросил он.
Его дыхание, отдававшее серой, обжигало Алеку ноздри и рот, а рука опять саданула неимоверной болью, точно в нее разом воткнули тысячу раскаленных игл.
– О жена моя! Я умираю!
– Не стоит звать жену; ты принадлежишь мне, – прошипел демон, склонившись к его лицу. – Послушай! – продолжал он с жестокой неторопливостью. – Когда художник создает образ, не вкладывая в него душу, иначе говоря, не имея ясного представления, что он хочет выразить, когда он пишет бесцельно и бездумно, надеясь, что его произведение случайно осенит некий дух, – дух иногда и в самом деле его осеняет. Именно так я вошел в твою картину, и ты знаешь, какую сделку я с тобой заключил.
Это было ужасно. Демон оказался тяжелым как камень, его дыхание обжигало Алеку ноздри. Но горше всех убийственных мук, от которых он страдал, горше даже, чем страх и боль, было чувство вины перед женой. Он пожертвовал ею ради искусства – а может ли искусство сравниться с ее всеохватной любовью и нежностью? Его недолгая жизнь с нею, сотни мелочей, о которых он успел позабыть, в мгновение ока всплыли в его памяти – с горькой безнадежностью мимолетного видения пери в небесах.
– Жена моя, – воскликнул он, – жена моя!
Демон вновь склонился к нему и прошептал:
– Умерла, умерла.
Затем он распростер над головой что-то черное – плащ? или это было крыло?
Все пребывало во мраке, как на том свете. У Алека возникло ощущение, что он стремглав падает в темный бездонный колодец. Что это было – умирание? Или он уже умер? Казалось, его засасывает в гигантскую черную воронку, в какой-то нескончаемый водоворот. Нет никакой надежды?
Внезапно разлитое в пустоте оглушительное безмолвие прорезал призыв его жены:
– Алек!
Он обратил взор вверх и увидел, что Изабель, окутанная лучезарным светом, смотрит на него с неизмеримой высоты и взгляд ее полон беспредельного сострадания и прощения. Алек протянул к ней руки, хотел окликнуть ее, однако голос не слушался. И тогда он осознал, какая непреодолимая пропасть навсегда разлучает со счастьем и красотой того, кто пренебрег любовью.
Вниз, вниз, вниз!
– Алек! Алек, очнись!
Он сидел в старом, обитом бархатом кресле возле рояля, а над ним склонилась жена. Он заморгал, как филин. Потом почувствовал покалывание в левой руке.
– Я что, уснул? – спросил он.
– Ну разумеется. Я увидела, как ты опять клюешь носом, и подумала, что не надо тебя будить, поэтому перестала играть и вышла. Впрочем, мне следовало догадаться, что стоит Лиззи уронить поднос на лестнице – и ты проснешься.
– Значит… – произнес Алек, потирая глаза, покуда вставал с кресла, – значит, вот что произошло, когда разбился кеб!
– Ты нынче очень нежный, – заметила жена чуть погодя, когда они спускались на первый этаж.
– Дорогая, я виноват перед тобой и раскаиваюсь в том, что позволил никчемной фантазии встать между нами.
И с этого дня он вновь сделался «очень нежным» мужем.
1888
В духе времени
История неразделенной любви
Перевод Н. Роговской.
Искушенный читатель, несомненно, слышал имя Обри Вейра. Вейр издал три сборника интимной лирики – подчас даже слишком интимной, – и его колонка «О делах литературных» в «Клаймаксе» пользуется широкой известностью. Байроническая физиономия поэта украшает интервью, напечатанное в «Настоящей леди». Этот тот самый Обри Вейр, который убедительно доказал, что Диккенс-юморист проигрывает Диккенсу-сентименталисту, и обнаружил у Шекспира «налет буржуазности». Однако читатели пребывают в досадном неведении относительно эротических истоков вдохновения Обри Вейра. Некоторое время назад он избрал своим литературным прототипом Гёте, и, возможно, это отчасти извиняет его временное невнимание к столь важному аспекту творческой личности, как сексуальность.
А между тем общеизвестно, что любовные похождения таят в себе главную опасность для литератора и одновременно питают наш интерес к нему. Иначе что бы мы наблюдали? Гладкую скалу респектабельной жизни пиита – никаких оползней, никаких живописных эффектов. Свойственное творческой братии непостоянство сердечных привязанностей, располагающееся на шкале пороков рядом с жадностью и определенно выше пьянства, зовется гением или, более развернуто, как в случае Обри Вейра, осознанием гениальности. Следуя моде, которую завел еще Шелли, всякое молодое дарование свято верит в то, что его долг перед самим собой и его долг перед женой – вещи несовместимые[35], и в своем ниспровержении мещанской морали заходит настолько далеко, насколько хватает средств и смелости. Что есть добродетель, как не отсутствие воображения? И вообще, назвался поэтом – будь любезен соответствовать эталонному образу, и я не знаю ни одного рифмоплета, в чьих любовных делах не творился бы полный кавардак, – и ни одного, кто время от времени не изливал бы свои амурные невзгоды в сонетах.
Даже Обри Вейр не остался в стороне: иногда он ночь напролет ронял слезные сонеты в свой промокательный блокнот, притворяясь, будто спешно сочиняет очередную «литературную беседу», – если жена спускалась в шлепанцах узнать, отчего он так засиделся. Надо ли говорить, что жена его не понимала? Причем сонеты он кропал еще до того, как в его жизни появилась другая женщина, – просто тяга к супружеской измене естественна для творческой души. Вернее, до того как появилась другая женщина, он написал больше сонетов, чем после, потому что после он все свободное время занимался подрезкой и подгонкой старых заготовок, перешивая, если можно так выразиться, скроенное по универсальному лекалу платье своей романтической страсти – с учетом индивидуальных особенностей роста и комплекции новой пассии.
Обри Вейр жил в небольшой вилле из красного кирпича; позади – лужайка, спереди – вид на холмы, убегающие вдаль от Райгейта[36]. Жил он на доход от неафишируемого капитала, понемногу сколоченного литературным трудом. У него была красивая, славная, добрая жена, которая (как повелось у любящих и добропорядочных жен, скромно отступающих в тень) не искала в жизни другого счастья, кроме заботы о том, чтобы у ее маленького Обри Вейра всегда была на столе разнообразная вкусная домашняя еда и чтобы дом их был самым ухоженным и нарядным из всех известных им домов. Обри Вейр отдавал должное жениной стряпне и гордился своим домом, а все ж его снедала тоска, ведь его творческий дар чахнул без стимула. К тому же Обри Вейр начал полнеть, того и гляди превратится в толстячка.
В страдании мы сами познаем ту истину, что в назидание другим поём[37], и Обри Вейр твердо знал, что его душа не родит добрый урожай, покуда его чувства остаются непаханой целиной. Но попробуй вспахать поле чувств в целомудренном Райгейте!
Короче говоря, романтические чаяния Обри Вейра не находили опоры в окружающей действительности – так высаженный посреди цветочной клумбы росточек вьюна напрасно ищет, за что ему зацепиться. И вот наконец долгожданное чудо в лице «другой женщины» свершилось и сердечные усики Обри Вейра жадно обвились вокруг нее.
Далее следует правдивое изложение событий, составляющих самый яркий романтический эпизод в жизни и творчестве Обри Вейра.
Его «другая женщина» была совсем молоденькая девушка, с которой он познакомился на теннисном корте в Редхилле[38]. Обри Вейр прекратил играть в теннис после неприятности с глазом мисс Мортон; кроме того, в последнее время он стал пыхтеть и потеть, а это не красит поэта. Упомянутая юная леди только недавно прибыла в Англию и не умела играть. Оба естественным образом откочевали к двум свободным плетеным креслам перед кустами мальвы и по соседству с глухой теткой миссис Бейн, и между ними завязалась непринужденная беседа.
Имя у другой женщины было малообещающее – мисс Смит, – хотя ее лицо и одежда отнюдь этого не предполагали. Зато с ее происхождением все было в порядке: мать – индуска, отец – чиновник британской колониальный администрации в Индии[39], и оба уже умерли. Сам Обри Вейр, в котором счастливо смешалась кельтская и тевтонская кровь (именно эта смесь рекомендуется ныне всем претендующим на лавры литератора), просто не мог не верить в благие последствия от смешения рас для судеб изящной словесности. Девушка была во всем белом. Красиво очерченное, выразительное бледное лицо с темно-карими глазами под облаком вьющихся черных волос, а во взгляде, устремленном на Обри Вейра, – любопытство пополам с робостью… Обворожительный взгляд, особенно по контрасту с пресловутой «прямотой» заурядной райгейтской девицы.
– Отличный корт – лучший в Редхилле, – заметил Обри Вейр для поддержания разговора. – Мне нравится, что здесь не выпалывают ромашки. – И он грациозно повел своей довольно изящной рукой в сторону ромашек.
– Очаровательные цветы, – согласилась леди в белом. – Всегда ассоциировались у меня с Англией – может быть, из-за картины, которую я видела «еще там», когда была маленькой: на ней дети сплетали венки из ромашек. И я мечтала, что, когда приеду на родину, доставлю себе такую же радость. Увы! Боюсь, я выросла из детских забав.
– Не понимаю, почему нужно отказывать себе в невинных радостях, когда становишься взрослым!.. Почему взросление непременно подразумевает забвение? Лично я…
– Ваша жена взяла у Джейн рецепт фаршированной форели? – внезапно подала голос глухая тетка миссис Бейн.
– Понятия не имею, – ответил Обри Вейн.
– Очень вкусно, – заверила глухая тетка миссис Бейн. – Даже вам понравится.
– Мне все нравится, – сказал Обри Вейр, – я не привередлив…
– Очень вкусно, говорю вам! – повторила глухая тетка миссис Бейн и вновь впала в прострацию.
– Да, так я о том, – продолжил Обри Вейр, – что мне до сих пор самое большое удовольствие доставляют детские забавы. У меня есть маленький племянник, мы с ним вместе запускаем воздушных змеев – и еще неизвестно, кто больше радуется, он или я! Кстати, вот вам удобный способ претворить в жизнь мечту о венках из ромашек: уговорите какую-нибудь девочку пойти с вами.
– Этот способ я уже испробовала. Взяла на прогулку по лугам девчушку Мортонов и невзначай затронула тему цветов и венков. Так она отчитала меня, мол, негоже тратить время на «разные глупости». Представляете, какое разочарование!
– Это все гувернантка – лишает ребенка детства, обкрадывает его самым возмутительным образом! – прокомментировал Обри Вейр. – А какая жизнь без детства? Некоторые люди никогда не были детьми и, соответственно, не способны повзрослеть, – пустился он в рассуждения. – Их жизнь совершенно бесцветна. Они как… как растения, выросшие без света. Они не знают любви – и не страдают от ее утраты. Они… сейчас мне не приходит в голову лучшего сравнения… они как цветочный горшок, в который забыли посадить душу. Но чтобы человеческая душа нормально развивалась, ей на первых порах необходима живая непосредственность, ребячливость.
– Да, – задумчиво произнесла темная леди[40], – беззаботное детство, практически никаких ограничений – делай что хочешь! Таким должно быть начало жизни.
– А после – через волшебство и неуверенность юности…
– …к воле и действию, – закончила за него темная леди. Она не сводила мечтательного взора с холмистых далей Даунза, но при этих словах ее сцепленные на коленях пальцы сжались сильнее. – Ах, жизнь прекрасна – жизнь мужчины… человека свободного, самодостаточного!
– Ну и наконец, – подсказал ей Обри Вейр, – мы подходим к кульминации, венцу жизни. – Он помедлил, торопливо взглянул на нее и вполголоса, почти шепотом прибавил: – А венец жизни – это любовь.
Глаза их встретились, но она тотчас потупилась. У Обри Вейра что-то екнуло в груди и к горлу подкатил комок… Впрочем, его эмоции слишком сложны для анализа. Он и сам удивился, что разговор принял такой оборот.
Внезапно глухая тетка миссис Бейн ткнула его в живот слуховой трубкой, а с теннисного корта послышалось раскатистое «По нулям! Победила любовь!»[41].
– Я говорила вам, что у дочек Джейн скарлатина? – спросила глухая тетка миссис Бейн.
– Нет, – ответил Обри Вейн.
– Да-да, они шелушатся, – объявила глухая тетка миссис Бейн, поджав губы и несколько раз медленно, многозначительно кивнув им обоим.
Ненадолго воцарилось молчание. Казалось, вся троица глубоко задумалась о чем-то, чего словами не выразишь.
– Любовь… – вновь заговорил Обри Вейр непререкаемым философическим тоном, вальяжно откинувшись на спинку кресла и сложив руки в замок, точно святой, возносящий молитву (взгляд его фокусировался на носке собственной туфли), – любовь, по моему убеждению, составляет весь смысл жизни… все прочее обман или фантом. Любовь превыше разума, выгоды и рациональных объяснений. Но ни в одну из эпох, судя по литературным источникам, она не была в таком плачевном положении, как в нашу. Никогда прежде ее не укладывали так безжалостно на прокрустово ложе, никогда так не презирали и не пресекали, не чинили ей препятствий на каждом шагу, никогда ею так не помыкали… Прямо слышишь, как полицейские командуют: «Эрот, вам сюда!» В итоге мы растрачиваем эмоциональные силы, гоняясь за златом и славой, и на празднике жизни мы изгои, жалкие рабы с потухшими, неутоленными сердцами.
Обри Вейр вздохнул, и снова повисла тишина. Девушка взирала на него из таинственной тьмы своих необыкновенных глаз. Она прочла множество книг, но еще ни разу не встречала живого литератора: Обри Вейр был первым, и его манеру изъясняться она приняла за особый дар – как это свойственно юным девицам во все времена.
– Мы словно бенгальские огни, – продолжал витийствовать Обри Вейр, окрыленный тем, что произвел на нее впечатление, – безжизненное инертное нечто, пока нас не коснется искра… И тогда уснувшая было душа – если она не отсырела – вспыхивает и сверкает во всей своей красе. Живет полной жизнью! Знаете, иногда мне кажется, что, пережив золотую пору, нам лучше было бы сразу умереть, как эфемеридам[42]. Ибо дальше – лишь угасание.
– Э? – встрепенулась глухая тетка миссис Бейн, про которую все забыли. – Я не расслышала.
– Я только хотел сказать… – прокричал Обри Вейр, с трудом направляя поток своих мыслей в новое русло, – я только хотел сказать, что в Редхилле мало у кого такой прекрасный, ухоженный огород, как у миссис Мортон.
– Рот? Да, мне уже говорили. Это потому, что она вставила себе новые искусственные зубы.
Ее вмешательство несколько нарушило плавный ход беседы. Тем не менее…
– Я очень признательна вам, мистер Вейр, – сказала ему на прощание темная дева. – Мне будет о чем поразмыслить после ваших слов.
И то выражение, с каким она это произнесла, убедило Обри Вейра, что он не напрасно старался.
Мое перо бессильно описать, как начиная с того дня в душе Обри Вейра разрослась, подобно Ионовой тыкве[43], любовная страсть к мисс Смит. Скажу лишь, что он стал сумрачно-задумчив, а если долго не виделся с мисс Смит – раздражителен. Миссис Обри Вейр заметила перемену в муже, но вину за нее возлагала на брызжущего ядом литературного критика из «Сэтэдей ревьюер» (где и впрямь иногда перегибают палку). Обри Вейр перечитал роман «Избирательное сродство»[44] и дал почитать его мисс Смит… Как ни трудно поверить в это членам нашего клуба, именуемого Ареопагом, то есть литературным собратьям Обри Вейра, факт остается фактом: он бесспорно сумел увлечь темноокую, очень неглупую и удивительно красивую девушку.
Обри Вейр без конца вещал о любви и судьбе – одним словом, морочил девушке голову обычной пустой трескотней второсортного поэта. И вместе они рассуждали о его поэтическом даре. Он целеустремленно, хотя и скрытно искал ее общества и при каждом удобном случае дарил и зачитывал ей вслух наиболее пристойные из своих неизданных сонетов. И пусть его байронические черты кажутся нам слишком пресными – женский ум живет по своим законам. А кроме того, если девица не совсем примитивна, у литератора имеется огромное преимущество перед всеми, за исключением проповедника: кто еще способен выставлять напоказ каждое движение своего сердца?
Наконец настал день, когда он встретился с ней наедине – возможно, случайно, – на тихой дорожке, ведущей в Хорли[45]. Дорожку с обеих сторон окаймляли густые живые изгороди с обильными душистыми вкраплениями жимолости, вики[46] и медвежьего уха[47].
Они детально обсудили его поэтические замыслы, а потом он прочел ей стихи, впоследствии опубликованные в «Хобсонс мэгэзин»: «Полон нежности и неги…» Стихи он сочинил накануне. И хотя, на мой взгляд, чувства, выраженные в них, донельзя банальны, здесь все же слышна спасительная нота искренности – редкая гостья в поэзии Обри Вейра.
Читал он неплохо, отбивая ритм взмахами белой руки, и мало-помалу в голос его проникло неподдельное волнение. «…К тебе, к тебе одной!» – завершил он, пристально глядя на нее.
До этой секунды он был целиком сосредоточен на своих стихах и на том впечатлении, которое они должны произвести. Теперь все это стало не важно. Она стояла, опустив руки и сплетя пальцы. Глаза смотрели на него с нежностью.
– Ваши стихи берут за душу, – тихо сказала она.
Ее подвижное лицо так чудно выражало все нюансы переживаний! Внезапно он забыл и про свою жену, и про свое положение поэта второго ряда и только не отрываясь смотрел на девушку. Не исключено, что при этом его классические черты претерпели определенную метаморфозу. На краткий миг – который всегда будет жить в его памяти – судьба вырвала Обри Вейра из его маленького тщеславного эго и вознесла на вершину благородной простоты. Листок со стихами выпал из его руки. Осмотрительность как ветром сдуло. Сейчас лишь одно имело для него значение.
– Я люблю вас! – выпалил он.
В ее глазах метнулся страх. Сплетенные пальцы рук судорожно сжались. Она побледнела.
Затем губы ее приоткрылись, словно готовясь что-то сказать, и она вплотную приблизилась к нему, так что они оказались лицом к лицу. В то мгновение для них в целом мире не существовало ничего и никого – только он и она. Обоих трясло как в лихорадке.
– Вы любите меня? – спросила она шепотом.
Обри Вейр стоял и молчал, словно язык проглотил, дрожа всем телом и вглядываясь в ее глаза. Они лучились таким светом, какого он сроду еще не видал. Он сам не понимал, что происходит, в душе творилось что-то невообразимое. Обри Вейр вдруг смертельно испугался того, что натворил. Не в силах выдавить из себя ни слова, он кивнул.
– И это адресовано мне? – спросила она прежним боязливо-недоверчивым шепотом. И вдруг: – Ох, любимый мой, любимый!..
Тут уж Обри Вейр прижал ее к себе, и ее щека легла ему на плечо, и губы их слились.
Вот так случилось самое памятное событие в жизни Обри Вейра. В своих сочинениях он по сей день возвращается к нему снова и снова.
Чуть поодаль от них какой-то мальчуган влез на изгородь и воззрился на целующуюся парочку – сперва удивленно, затем – с презрительным возмущением. Не ведая своей судьбы, он поскорее отвернулся, уверенный, что сам-то никогда не опустится до такого: лизаться с девчонками – фу! К несчастью для райгейтских сплетников, стыд за сильный пол накрепко заклеил ему рот.
Через час Обри Вейр возвратился домой – притихший, меланхоличный. Чай для него был накрыт, его дожидались обожаемые кексики (миссис Обри Вейр сказала, что свою порцию съела раньше). На столе стоял букет хризантем, преимущественно белых, его любимых, в фарфоровой вазе, о которой он не раз отзывался с одобрением. Едва он приступил к еде, жена подошла сзади – чмокнуть своего благоверного.







