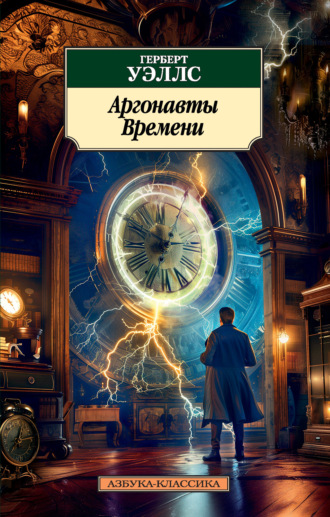
Герберт Джордж Уэллс
Аргонавты Времени
Тем временем стало известно, что это преподобный Элайджа Кук, три недели назад пропавший из Ллиддвудда вместе с доктором Мозесом Небогипфелем.
Девятнадцатого августа сиделка вызвала автора из рабочего кабинета – больной выразил желание поговорить с ним. Автор обнаружил его в здравом уме, вот только глаза священника странно блестели, а лицо было мертвенно-бледным.
– Вы преподобный Элайджа Улисс Кук, магистр искусств, выпускник Пембрук-колледжа Оксфордского университета, приходской священник Ллиддвудда, возле Рустога в Карнарвоне.
Больной кивнул.
– Вам что-нибудь говорили о том, как я здесь очутился?
– Я нашел вас в зарослях камыша, – пояснил я.
Он ненадолго умолк, задумавшись.
– Мне нужно дать показания. Вы готовы их выслушать? Они касаются убийства старика по фамилии Уильямс, которое случилось в тысяча восемьсот шестьдесят втором году, нынешнего исчезновения доктора Мозеса Небогипфеля, похищения воспитанницы в четыре тысячи третьем…
Автор вытаращил глаза.
– В году четыре тысячи третьем от Рождества Христова, – уточнил Кук. – Она еще не родилась. Я также хотел сообщить о нескольких нападениях на официальных лиц, совершенных в 17 901 и 17 902 годах…
Автор закашлялся.
– В 17 901 и 17 902 годах, вместе с ценнейшими сведениями медицинского, социального и физиографического характера за все эти столетия.
После консультации с врачом было решено записать показания священника; на них-то и основана оставшаяся часть рассказа об Аргонавтах Времени.
28 августа 1887 года преподобный Элайджа Кук скончался. Его тело было доставлено в Ллиддвудд и захоронено на местном кладбище.
Часть 2
Эзотерическая история, основанная на показаниях священника
АНАХРОНИЧЕСКИЙ ЧЕЛОВЕК
В первой части повествования мимоходом упоминалось о попытке преподобного Элайджи Улисса Кука унять суеверное возбуждение сельчан, предпринятой памятным вечером 22 июля. Она оказалась безуспешной, и тогда он вознамерился предупредить нелюдимого философа о грозившей ему опасности. С этой целью он покинул охваченную слухами деревню и в молчаливой сонной жаре июльского дня направился вверх по склону Пен-и-пулла к старому Мансу. Громкий стук в тяжелую дверь отозвался внутри гулким эхом и вызвал дождь из кусков штукатурки и гнилой древесины у расшатанного крыльца; за исключением этих звуков, ничто не нарушило дремотную тишину летнего полдня. Вокруг царило такое безмолвие, что застывший в ожидании священник отчетливо различил голоса косарей с лугов, которые раскинулись в миле отсюда, ближе к Рустогу. Подождав некоторое время, визитер снова постучал и снова подождал, прислушиваясь; наконец шум падающего мусора умолк, и преподобный явственно ощутил пульсацию крови в собственных сосудах, то нараставшую, то спадавшую, подобно невнятному гомону далекой толпы, и мало-помалу наполнявшую его сознание тревогой и беспокойством.
Он опять постучал, нанося громкие дробные удары тростью, уперся рукой в дверь и что есть силы стукнул по ней ногой. Изнутри донеслось эхо, протестующе лязгнули петли, затем створки дубовой двери разошлись, и в голубом сиянии электрического света изумленному взору священника предстали руины внутренних стен, нагромождения досок и охапки соломы, груды металла, кипы бумаг и опрокинутые аппараты.
– Доктор Небогипфель, простите меня за вторжение, – воззвал он, однако единственным ответом ему были отзвуки его собственного голоса, которые раздались среди черных балок и скопления смутных теней, сгустившихся наверху.
Почти с минуту он стоял на пороге, подавшись вперед и вглядываясь в сверкающие механизмы, диаграммы, книги, валявшиеся вперемежку с остатками еды, ящиками, горами кокса, сена и мелкого мусора, что заполонили неразгороженное пространство дома. Потом, сняв шляпу и ступая на цыпочках, словно тишина вокруг была священной, он шагнул в явно пустовавшее убежище доктора.
Заглядывая во все углы, преподобный осторожно пробирался через хаос со странным предчувствием, что вот-вот обнаружит Небогипфеля притаившимся где-то в резких черных тенях среди мусора, – настолько завладело им невыразимое ощущение почти осязаемого человеческого присутствия. Это ощущение было таким сильным, что, усевшись после бесплодных поисков на заваленную чертежами Небогипфеля скамью, он невольно воззвал к тишине сдавленным хриплым голосом:
– Его здесь нет. Но мне нужно кое-что ему сказать. Я должен подождать его.
Вниз по стене в пустом углу позади него скользнул кусок штукатурки – и священник, мгновенно покрывшись испариной, обернулся на звук. Там ничего не было, но, приняв прежнюю позу, он застыл на месте: перед ним бесшумно и быстро возник Небогипфель – ужасно бледный, с руками в красных пятнах, скорчившийся на странного вида металлической платформе и пристально смотревший глубоко посаженными серыми глазами в лицо гостя.
Кук чуть было не завопил от страха, но язык его словно прилип к гортани, и он мог лишь глазеть, как зачарованный, на причудливое лицо, которое внезапно стало зримым. Губы доктора дергались, дыхание вырывалось короткими судорожными всхлипами. Нечеловечески высокий лоб взмок от пота, жилы сделались узловатыми, вздулись и побагровели. Священнику бросилось в глаза, что красные руки Небогипфеля дрожат, а рот открывается и закрывается, как будто его обладатель с трудом мог говорить.
– Кто… что вы здесь делаете? – выдохнул он наконец.
Вместо ответа Кук, со вставшими дыбом волосами и открытым ртом, продолжал таращиться на красноречивое алое пятно, которое растеклось по белой слоновой кости, сверкающему никелю и блестящему черному дереву платформы.
– Что вы здесь делаете? – повторил доктор, поднимаясь. – Что вам нужно?
Кук сделал непроизвольное движение.
– Ради всего святого, что вы такое? – вопросил он, и тут присевший на корточки призрачный карлик поплыл перед его глазами, сметаемый в темную безмолвную ночь черными занавесями, которые опустились со всех сторон.
Когда преподобный Элайджа Улисс Кук пришел в себя, он обнаружил, что лежит на полу в старом Мансе, а доктор Небогипфель, уже без пятен крови на руках и малейших признаков волнения на лице, склоняется над ним, стоя на коленях со стаканом бренди в руке.
– Не тревожьтесь, сэр, – сказал философ с легкой улыбкой, когда священник открыл глаза. – Я не развлеку вас ни бесплотным духом, ни чем-либо столь же необычным… могу я предложить вам это?
Священник безропотно выпил бренди, затем недоуменно взглянул в лицо Небогипфелю, тщетно пытаясь вспомнить, что произошло перед тем, как он лишился чувств. Наконец он смог принять сидячее положение и тогда увидел наклонную металлическую конструкцию, появившуюся вместе с доктором; перед его мысленным взором тотчас промелькнуло все, что случилось недавно. Он перевел взгляд с устройства на отшельника, потом обратно.
– Здесь нет никакого обмана, сэр, – с едва уловимой насмешкой в голосе произнес Небогипфель. – В том, чем я занимаюсь, потусторонние сущности не участвуют. Это самое настоящее механическое устройство, определенно принадлежащее этому жалкому миру. Простите – я отлучусь на минутку.
Он поднялся с колен, взобрался на платформу из красного дерева, опустил ладонь на замысловато изогнутый рычаг и повернул его. Кук протер рукой глаза. Бесспорно, здесь не было никакого обмана. Доктор и машина исчезли.
На сей раз преподобный джентльмен не испытал страха, а ощутил только легкую нервную оторопь, увидев, как доктор тотчас «в мгновение ока» появился вновь и спустился с платформы. Тот двинулся по прямой, заложив руки за спину и опустив голову, и шагал так, покуда не наткнулся на препятствие в виде циркулярной пилы; тогда, резко повернувшись на каблуках, он произнес:
– Я подумал, пока был… далеко… Хотите отправиться в путешествие? Я был бы очень рад спутнику.
Священник все еще сидел на полу с непокрытой головой.
– Боюсь, вы сочтете меня недогадливым… – медленно начал он.
– Полноте! – перебил доктор. – Это я оказался не слишком догадлив. Вы, несомненно, жаждете получить объяснения всему увиденному… хотите узнать, куда я направляюсь. За последние десять с лишним лет я так мало разговаривал с людьми этой эпохи, что отвык делать необходимые скидки на способности чужого ума. Я постараюсь все объяснить, насколько смогу, но, боюсь, не очень-то преуспею… Это долгая история… вы находите удобным сидеть на полу? Если нет, вон там стоит отличный ящик, а позади вас – охапка соломы. Или вот эта скамейка – с чертежами ныне покончено, но, подозреваю, там остались кнопки. Вы также можете усесться на «Арго Времени»!
– Нет, спасибо, – задумчиво ответил священник, подозрительно оглядывая означенное кособокое сооружение. – Мне вполне удобно и здесь.
– Тогда я начну. Вы читаете сказки? Современные сказки?
– Боюсь, вынужден признаться, что я читаю много беллетристики, – с ноткой самоосуждения произнес преподобный. – Вероятно, в Уэльсе у рукоположенных священников, совершающих церковные таинства, слишком много свободного времени…
– Вы читали «Гадкого утенка»?
– Ганса Христиана Андерсена? Да… в детстве.
– Изумительная сказка! Со времен моего одинокого детства она всегда была полна для меня слез и окрыляющих надежд и не раз спасала от неописуемых бедствий. Если вы как следует уразумели ее смысл, то без труда поймете, каким образом в человеческом уме может зародится идея подобной машины. Когда я читал эту простую историю в первый раз, я уже мало-помалу приучался на собственном горьком опыте сторониться людей, среди которых родился, – и понял, что она повествует обо мне. Это я – гадкий утенок, которому суждено обернуться лебедем, прошедший через презрение и горечь, чтобы воспарить к вершинам величия. С той минуты я мечтал о встрече с человеком, близким мне по духу, мечтал найти сочувствие, в котором остро нуждался. Двадцать лет я жил этой надеждой, жил и работал, жил и странствовал, даже любил – и в конце концов впал в отчаяние. Лишь однажды за долгие годы своих напряженных исканий я встретил – среди миллионов недоумевавших, изумленных, равнодушных, презрительных, вероломных и хитрых взглядов – глаза, что взглянули на меня так, как я желал… взглянули…
Доктор умолк. Преподобный Кук всмотрелся в черты собеседника, ища следы того глубокого чувства, которое одушевляло его последние слова. Лицо Небогипфеля было печально, хмуро и задумчиво, губы плотно сжаты.
– Короче говоря, мистер Кук, я обнаружил, что являюсь одним из тех выдающихся каготов[22], которые именуются гениями, – человеком, опередившим свой век, мыслящим категориями более мудрой эпохи, творящим то и верящим в то, чего не дано уразуметь его современникам; я понял также, что мне уготованы долгие годы молчания, душевных страданий и одиночества – горчайшей из земных мук. Я осознал, что я – анахронический человек, чье время еще не пришло. Меня поддерживала одна-единственная призрачная надежда, и я цеплялся за нее до тех пор, пока она не обрела воплощение. Тридцать лет непрерывных трудов и глубочайших раздумий о тайнах материи, формы и жизни – и вот он, «Арго Времени», корабль, плывущий сквозь время, и теперь он унесет меня в путешествие через века, в эпоху, к которой я принадлежу, к людям моего поколения.
«АРГО ВРЕМЕНИ»
Доктор Небогипфель сделал паузу и, внезапно засомневавшись, взглянул на священника, который выглядел озадаченным.
– Вам кажется, что «путешествие во времени» звучит как бред безумца? – спросил он.
– Это определенно идет вразрез с общепринятыми представлениями, – сказал священник с легкой полемической ноткой в голосе, очевидно имея в виду «Арго Времени». Как видим, даже священник Англиканской церкви может порой заподозрить ближнего в ложном восприятии действительности.
– Это определенно идет вразрез с общепринятыми представлениями, – дружелюбно согласился философ. – И даже более того: это бросает общепринятым представлениям смертельный вызов. Всевозможные представления, мистер Кук, – научные теории, законы, догматы веры или, если обратиться к первоосновам, логические предпосылки – называйте их как угодно, – все они, вследствие бесконечности всего сущего, являются лишь схематичными карикатурами на невыразимое, тем, чего следует всячески избегать, кроме тех случаев, когда это помогает сформулировать результаты, – подобно тому как живописцу помогают наброски мелком, а инженеру – чертежи и сечения. Но людям, в силу ограниченности их природы, трудно в это поверить.
Преподобный Элайджа Улисс Кук кивнул со сдержанной улыбкой человека, которому оппонент, сам того не желая, дал фору.
– Прийти к мысли, что идеи отражают сущность вещей, так же легко, как катить бревно. Именно поэтому едва ли не все цивилизованные люди верят в истинность геометрических построений древних греков.
– О сэр, прошу прощения, – перебил Кук. – Большинству людей известно, что геометрической точки, как и геометрической прямой, в действительности не существует. Сдается мне, вы недооцениваете…
– Да-да, это общепризнано, – спокойно согласился Небогипфель. – Но возьмем, например… куб. Существует ли он в физическом мире?
– Несомненно.
– Мгновенный куб?
– Не знаю, что вы подразумеваете под «мгновенным кубом».
– Существует ли тело, обладающее длиной, шириной и высотой, но лишенное каких-либо иных расширений?
– А какие еще могут быть расширения? – спросил Кук, вскинув брови.
– А вам не приходило в голову, что в физическом мире не может существовать никакой формы, не имеющей временно́й протяженности? Неужели ваш ум не посещала догадка, что человечество отделяет от геометрии четырех измерений – длины, ширины, высоты и длительности – лишь инерция мышления, восходящего в своих основах к левантийским философам бронзового века?
– Глядя на вещи подобным образом, – сказал священник, – невольно приходишь к выводу, что в учении о трехмерном универсуме кроется какой-то изъян; но…
Он умолк, однако выразительное «но», на котором оборвалась его реплика, весьма красноречиво свидетельствовало о предубеждении и недоверии, переполнявших его мысли.
– Когда, вооружившись этим новым светочем Четвертого Измерения, мы пересмотрим с его помощью нашу физическую науку, – продолжил, немного помолчав, Небогипфель, – то обнаружим, что больше не заперты в безнадежной клетке нашего времени, не привязаны к своему поколению. Передвижение по оси длительности – навигация во времени – окажется достоянием геометрической теории, а затем и прикладной механики. В давнюю пору люди могли перемещаться лишь по горизонтали и в пределах некоторой, до известной степени замкнутой территории. Над ними проплывали облака – недосягаемые сущности, таинственные колесницы грозных богов, обитавших средь горных вершин. На деле странствия людей той далекой эпохи были ограничены двумя измерениями и вдобавок сдерживались окружающим Мировым океаном и гиперборейским страхом. Однако те времена канули в Лету. Сперва корабль Ясона проложил себе путь через Симплегады[23], а спустя столетия Колумб бросил якорь в бухте Атлантиды. Еще позднее, разорвав путы двухмерности, человек вторгся в третье измерение – вознесся к облакам на монгольфьере[24] и спустился в роскошные подводные кладовые в водолазном колоколе[25]. А теперь пришло время сделать следующий шаг, за которым нас ждут скрытое прошлое и неведомое будущее. Мы стоим на горной вершине – а внизу раскинулись бескрайние равнины веков.
Умолкнув, Небогипфель окинул взором своего слушателя.
В лице преподобного Элайджи Кука читалось выражение сильного недоверия. Длительный проповеднический опыт открыл ему глаза на некоторые истины, и с тех пор он с подозрением относился к пышной риторике.
– Ваши слова – это фигуры речи, или мне следует понимать их буквально? – осведомился он. – Вы говорите о путешествиях во времени в том же смысле, в каком иной говорит о Всемогущем, пролагающем путь Свой сквозь бурю, – или вы… э-э-э… имеете в виду то, что сказали?
Доктор Небогипфель сдержанно улыбнулся.
– Подойдите и взгляните на эти чертежи, – предложил он и затем принялся как можно проще объяснять новую геометрию четырех измерений.
Теперь, в свете диаграмм и моделей, предъявленных Небогипфелем в подтверждение своих слов, предубеждение Кука мало-помалу стало сходить на нет. Вскоре он поймал себя на том, что задает вопросы и все глубже проникается интересом, по мере того как Небогипфель не спеша и с исчерпывающей ясностью раскрывал великолепное устройство своего необыкновенного изобретения. Время летело незаметно, и, когда доктор перешел к рассказу о своих исследованиях, священник, бросив взгляд на дверной проем, с удивлением узрел снаружи глубокую синеву сгущавшихся сумерек.
– Это путешествие, – сказал Небогипфель, завершая свою историю, – будет преисполнено невообразимых опасностей… даже краткий испытательный полет оказался сопряжен со смертельным риском… но оно сулит и невообразимые – и поистине божественные – радости. Хотите отправиться со мной? Хотите оказаться среди людей Золотого века?..
Однако при упоминании о смерти мысли Кука обратились вспять – к тем жутким ощущениям, которые он испытал при первой встрече с философом.
– Доктор Небогипфель… могу я спросить? – Он помедлил в нерешительности. – У вас на руках… Это была кровь?
Небогипфель изменился в лице и медленно произнес:
– Остановив машину, я обнаружил, что по-прежнему нахожусь в этой комнате… Что это?
– Это ветер шумит в кронах деревьев по дороге к Рустогу.
– Скорее напоминает гул голосов поющей хором толпы… так вот, остановившись, я обнаружил, что по-прежнему нахожусь в этой самой комнате. За столом сидели старик, юноша и мальчик и читали сообща какую-то книгу. Я стоял позади них, они меня не замечали. «Злые духи искушали его, – читал старик, – но, как тут написано, „тому, кто устоит против них, будет дарована жизнь вечная“. Они приходили как умоляющие друзья, но он избежал всех их козней. Они являлись под видом ангелов и богов, но он противостал им именем Царя Царей. Говорят, однажды, когда он переводил на немецкий Новый Завет, пред ним предстал самый Сатана…» Тут мальчик испуганно обернулся и, издав испуганный вопль, лишился чувств… Двое других накинулись на меня… Это была схватка не на жизнь, а на смерть… Старик вцепился мне в горло с криком: «Человек ты или дьявол – я поборю тебя…» У меня не было выбора. Мы катались по полу… в моей руке оказался нож, выпавший из дрожащей руки его сына… Слышите?
Он умолк и прислушался; в лице Кука, продолжавшего смотреть на него, читался прежний ужас, вызванный воспоминанием о пятнах крови на руках доктора.
– Вы слышите, что они кричат? Вслушайтесь!
«Сжечь колдуна! Сжечь убийцу!»
– Слышите? Нельзя терять времени.
«Смерть убийце сирых и убогих! Смерть приспешнику дьявола!»
– Быстрее! Быстрее!
Кук непроизвольно сделал отстраняющий жест рукой и направился к выходу. Толпа черных фигур, озаренных алыми факелами, с ревом ринулась навстречу священнику и вынудила его отпрянуть. Он закрыл дверь и повернулся к Небогипфелю.
Тонкие губы доктора скривились в презрительной усмешке.
– Если останетесь, они убьют вас, – сказал он и, обхватив запястье безвольно повиновавшегося гостя, силой увлек его к сверкавшей металлом машине. Кук сел и закрыл лицо руками.
В следующий миг дверь распахнулась и на пороге, моргая, застыл старый Причард.
Тишина. Затем – хриплый вскрик, тотчас перешедший в резкий, пронзительный вопль.
Громоподобный рев, похожий на грохот вырвавшегося на свободу мощного потока воды.
Полет «Арго Времени» начался.
Как окончилось путешествие? Почему Кук рыдал от радости, когда возвратился в девятнадцатый век? И почему Небогипфель не вернулся с ним? Все это (и многое другое) было предано бумаге, и в зависимости от того, как распорядится Судьба, об этом в свое время прочтет – или не прочтет никогда – любознательный читатель.
1888
Служитель искусства
Перевод С. Антонова.
Алек услышал, как его жена заиграла, бросил кисти и подошел к креслу, стоящему возле старомодного кабинетного рояля. Это было широкое, обитое бархатом кресло, в котором ему приходилось сидеть, заложив руки за голову и блаженно бездельничая, если он вообще хотел там сидеть, – кресло, принуждавшее человека чувствовать себя совершенно непринужденно, отдаваться во власть Морфея и опиумного дыма.
Необыкновенно мелодичная игра Изабель была исполнена силы, в равной мере заключавшейся в ее пальцах и ее душе; она исполняла какой-то отрывок из Вагнера[26], что-то трудноуловимое, переменчивое – и неизменно притягательное, как сама жизнь. Расположившись в этом кресле и слушая ее, он как будто внимал пению сирен; существование становилось… так сказать, «одухотворенным», неожиданно освобожденным от всех будничных забот и привычного хода вещей.
Весь день Алек ломал голову над выражением одного никак не удававшегося ему лица и всякий раз при попытках определить, воспримет ли красоту этого лица заурядный наблюдатель, ощущал, как образ выцветает и истончается, словно крылья пойманной бабочки; а тут представилась восхитительная возможность ускользнуть от технической трудности. Он с радостью убежал от действительности и ныне блуждал – уже не смертный человек, а вновь бессмертная душа – в царстве воображения, с подобающей нетленному духу смелостью вторгаясь в неизведанные миры. День напролет он работал, развивая свой замысел рыцарского бдения, и, пока Изабель играла анданте, музыка наполняла его мысленный взор видениями темно-лиловых теней в загадочных храмах, одиноких красных огней перед призрачными алтарями, тусклых отблесков, едва различимых фигур в белых одеждах, молитв и благоговейного трепета – все было смутным, но безмерно прекрасным. Теперь же из-под ее белых рук вырывалось стремительное аллегро[27], и это незаметно оживило его фантазию. В затененные приделы его сознания одна за другой проследовали процессии; факел разогнал сумрак и стал гореть бледнее в свете дня; фигуры все прибывали и прибывали, сбиваясь в толпу; исполненные величия священники и воины, все более многочисленные, более молодые, более оживленные, безостановочно запруживали сцену – до тех пор, пока храмы, алтари, шествия не потонули, утратив всякий стройный порядок, в хаотичном танце торжествующих рыцарей и дам, пастухов и пастушек, шутов, уродцев, полишинелей, жуков-огнецветок, людей, в конце концов подхваченных водоворотом ангельских созданий, чертенят, карликов, фейри, сатиров, гамадриад, гарпий и ореад. Все быстрее и быстрее кружили они в танце, напоминая причудливый калейдоскоп. Внезапно по толпе, точно известие о чьей-то смерти по бальной зале, пронесся трепет – собравшихся поглотила тьма – музыка умолкла.
– Алек, – сказала Изабель, – ты засыпаешь; ты отчетливо всхрапывал, пока я играла.
– Ничего подобного, дорогая, я и не думал спать! Я просто закрыл глаза, дабы насладиться музыкой и поразмыслить над маленькой композиционной проблемой, – возразил он, чувствуя себя несколько уязвленным.
Изабель отвернулась от рояля, и Алек, не желая, чтобы недоразумение повторилось (она всегда думала, что он спит или нездоров, когда им завладевали грезы), открыл глаза так широко, как только мог, и немигающим взглядом уставился на нее.
– Алек, дорогой, не смотри так! Ты заболел? Или что-то угрожает моей прическе?
У Изабель были вьющиеся темно-каштановые волосы, того оттенка, который в косом свете отливает золотом. В этот вечер они слегка своевольничали (так сама Изабель это называла), и вокруг ее головы виднелось множество маленьких золотистых завитков, которые, расплываясь в янтарном сиянии стоявшей рядом лампы, создавали подобие яркого гало.
– Разве что сильфы, дорогая Белинда[28], – ответил Алек, скрывая легкое раздражение за видимой беспечностью. – А что, мой взгляд смущает тебя?
Изабель вновь заиграла, задумавшись.
– Я не хочу, чтобы на меня таращились, как на болванку для париков, – сухо изрекла она наконец. – Но ты можешь смотреть, если нравится.
И Алек продолжил смотреть – впрочем, с тщательно подавляемой яростью – на нимб вокруг ее головы и затененное лицо.
«Славное у нее лицо, – размышлял он. – Мягкие черты, кроткий взгляд; из тех бледных лиц с темными глазами, которые, быть может, и не поражают красотой, но бесконечно прекрасны в своей выразительности, лицо, на которое никогда не надоест смотреть, покуда продолжается жизнь, – и все же…»
Алек очень любил жену – несравнимо больше, чем себя или какое бы то ни было другое достойное любви создание, и все же… Это маленькое «и все же», это единственное роковое «но» сей же миг во всей своей ясности явилось на ум Алеку, внушенное нотками вульгарности, которые прозвучали в первых словах супруги, и, возможно, усиленное скрытой досадой на тот дух, что пронизывал теперь ее игру. Изабель, подумалось ему, была силой, враждебной искусству.
Алек был художником не только по профессиональному призванию, но и по душевному влечению; и как раз сейчас он неотступно размышлял о том, что величайшая его любовь находится не в этой уютно освещенной комнате, а в смежной с нею полутемной мастерской и что для человека, который женат на вечном Искусстве, обычный брак – непростительная ошибка, даже, пожалуй, что-то вроде двоеженства. Всеведущему читателю следует знать, что незадолго до описанной выше сцены Алек перелистывал томик Алджернона Суинберна[29], это дитя фантазии; к данному обстоятельству прибавились допущенные Изабель уничижительные переходы от игры воображения к храпу и от окруженных сильфами голов к болванкам из парикмахерской, а также тоскливая музыка (она теперь и впрямь сделалась тоскливой), – и все это сложилось в его сознании в одну общую картину. Собственно говоря, это была одна из тех тягостных минут недовольства семейной жизнью, какие вовсе не редкость у недавно женатых мужчин, наделенных умеренным умом и неумеренными амбициями, – особенно если такой мужчина провел несколько дней в плохо продуманных и бесплодных трудах. Жена Алека считала, что мирские заботы и невзгоды умеряют людское самолюбие. Он же полагал, что «ars longa, vita brevis»[30], – идея не новая и не оригинальная, из лексикона прописных истин; и вот он, художник, укорачивает свою жизнь, мало-помалу врастая в семейный уклад! Среди прочих одинаково пронзительных изречений ему вспомнились слова Мильтона о «таланте, зарыть который – равносильно смерти»[31]. Смерть! Утрата бессмертия! Неужели он обречен упускать моменты, предназначенные для творческого испытания? Долой такие мысли! В эту минуту он казался себе новым Мерлином, подпавшим благодаря музыке и мягкому креслу под чары новой Вивианы[32]; он, способный создавать неотразимо прекрасные полотна, тратил мгновения и часы на то, чтобы радоваться и быть в радость жене, которая низводила его на уровень болванки для париков.
Не позволить этому мгновению длиться было долгом Алека перед Искусством, которое имело над ним высочайшую власть. Он вернется к своему истинному призванию. И, не успев толком обдумать это решение, из смутного недовольства, которое в нем бродило, он принялся действовать.
Не рискнув бросить взгляд на жену, он поднялся и проследовал прямиком в мастерскую; когда он закрыл дверь, музыка внезапно умолкла и до него донесся шорох платья Изабель.
Алек зажег лампу с цилиндрическим фитилем, рассеивавшую вокруг ровный белый свет, и повернулся к картине.
В этот момент он услышал за спиной скрип тихо открывающейся двери, обернулся и увидел, как Изабель, вероятно вообразившая, что ему нездоровится, с тревогой заглядывает внутрь. Впрочем, внезапное раздражение, написанное у него на лице, заставило ее скрыться и бесшумно затворить дверь.
Мысли Алека непрестанно вращались вокруг молодого итальянца с тонкими бледными чертами, подвижными губами и блестящими глазами, которому предстояло превратиться в рыцаря, несущего ночную стражу. Впервые увидев юношу, художник был поражен пылкостью, сквозившей в его взоре. Он как влитой подходил на роль персонажа будущей картины. Алеку стоило лишь сказать: «Стань на колени. Прими благоговейный вид», тут же, не сходя с места, набросать эскиз – и дело было бы сделано. Однако в этот день, работая над портретом рыцаря, он испытал удивление и досаду, когда обнаружился любопытный феномен, проявлявшийся наперекор его усилиям. Алек старался запечатлеть облик молодого итальянца как можно точнее (что давалось ему с небывалым дотоле трудом) – но каким-то необъяснимым образом на полотне все отчетливее вырисовывался человек зрелых лет, со странно-зловещим выражением лица, исполненным не благоговения, а скрытой насмешки. Не понимая, как совладать с этим, Алек с радостью отложил переделку картины, чтобы послушать игру жены. Теперь же, под вечер, он вознамерился предпринять новую попытку одолеть возникшее препятствие, на сей раз игнорируя различия в оттенках цветов, – и выйти победителем.
– Кое-какие неточности еще остаются, – заключил он. – Возможно, брови чересчур раскосы. – С этими словами он направил свет лампы прямо на полотно и вновь взялся за палитру и кисти.
Лицо на холсте определенно выглядело так, словно жило собственной жизнью. Алек никак не мог понять, откуда исходит такое дьявольское выражение. Нужно было проверить это опытным путем. Брови? Едва ли. Однако он их изменил. Нет, лучше не стало – скорее наоборот, облик человека на портрете сделался еще более сатанинским. Углы рта? Брр! Ухмылка из мефистофелевски-глумливой превратилась в откровенно зловещую. Может быть, глаз? Катастрофа! Целясь в коричневую краску, он каким-то образом ткнул кисть в киноварь. Теперь глаз как будто повернулся в глазнице и уставился на него, сверкая огнем. В порыве гнева Алек ударил по картине кистью, полной красной краски; и тогда произошло нечто в высшей степени любопытное и странное – если, конечно, произошло.
Демонический итальянец закрыл глаза, поджал губы и стер рукой краску с лица.
Затем красный глаз опять открылся, и лицо на картине улыбнулось.
– Слишком уж вы вспыльчивый, – сказал портрет.
Как это ни удивительно, Алек не ощутил ни страха, ни сколь-либо сильного изумления – возможно, потому, что был сверх меры разозлен.
– Почему вы все время дергаетесь, гримасничаете, ухмыляетесь и щуритесь, пока я вас пишу? – спросил он.
– Вовсе нет, – возразил портрет.
– Именно так, – настаивал Алек.
– Все это делаете вы, – продолжал портрет.
– Нет, не я! – заспорил Алек.
– Нет, вы, – упрямо повторил портрет. – И не вздумайте снова заляпать меня краской, потому что сказанное – чистая правда. Весь день вы пытались наобум придать моему лицу удачное выражение. Воистину, вы и понятия не имеете, как должна выглядеть ваша картина.
– Имею, – запротестовал Алек.
– Не имеете, – решительно гнул свое портрет. – И прежде никогда не имели. Всякий раз вы приступаете к работе с самыми туманными представлениями о том, чего хотите добиться. Вы уверены лишь, что это должно быть нечто прекрасное, или благочестивое, или трагическое, – но во всем остальном полагаетесь на случай. Дорогой мой, неужели вы думаете, что можно писать картины подобным образом?







