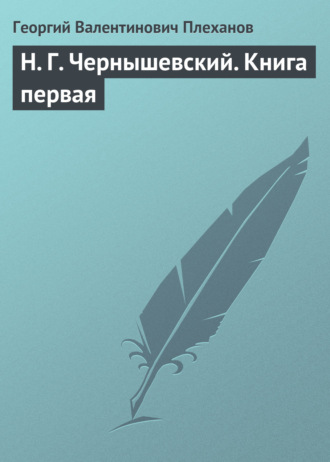
Георгий Валентинович Плеханов
Н. Г. Чернышевский. Книга первая
Только что изложенная рецензия еще раз показывает нам, что в своих исторических рассуждениях наш автор часто переходил с идеалистической точки зрения на материалистическую, и наоборот. Заключающееся в ней понимание истории пропитано духом идеализма. Но, когда Чернышевский рассматривает отдельные исторические явления, обусловливавшие собою успехи умственной жизни человечества, он нередко рассуждает, как материалист. «Различие сословий по материальному положению производит разницу и в их умственной жизни», – говорит он. Успехи средневекового просвещения основывались, по его словам, на материальных средствах, находившихся в распоряжении духовенства, среднего сословия и феодальных баронов. Таким образом выходит, что развитие мысли отнюдь не было наиболее глубокой причиной исторического движения. Напротив, оно само определялось экономическим развитием общества. Всякий видит, что материалистические взгляды этого рода находятся в резком противоречии с историческим идеализмом Чернышевского.
Мы уже знаем, что Чернышевский считал феодализм одной из тех «форм», которые своим возникновением и существованием задерживали поступательное движение народов. Этой идеалистической оценке феодализма противоречит только что указанная нами материалистическая его оценка, согласно которой феодализм был «формой», способствующей накоплению знаний, а следовательно, и прогрессивному движению человечества. Чтобы устранить это противоречие, Чернышевскому нужно было бы последовательно держаться или материализма, или идеализма. Но такая последовательность была недостижима для него, как для представителя переходной эпохи в развитии научного понимания истории: той эпохи, когда материализм уже вел борьбу с идеализмом в этой области, но когда он еще был далек от победы и когда последнее слово все еще принадлежало идеализму.
Нам могут напомнить, что, согласно нашему замечанию, разобранные нами рецензии Чернышевского появились уже после того, как исторические взгляды Маркса и Энгельса сложились в стройное целое. Мы и не забываем этого. Но мы думаем, что дело не решается здесь простыми хронологическими справками. Главные сочинения Лассаля тоже явились уже после того, как исторические взгляды Маркса и Энгельса приняли стройный вид, а между тем, по своему идейному содержанию, сочинения эти тоже принадлежат к эпохе перехода от исторического идеализма к историческому материализму. Дело не в том, когда вышло данное сочинение, а в том, каково было его содержание.
Если в предыдущие исторические эпохи прогресс знаний обуславливался складом экономических отношений, то, переходя к нашей эпохе, Чернышевскому нужно было спросить себя, каковы те ее экономические особенности, которые повели к открытию социальной истины и обеспечивали ее будущее осуществление в жизни. Но для того, чтобы задаться этим вопросом, нужно было решительно порвать с идеализмом и обеими ногами встать на почву материалистического объяснения истории. Мы не станем повторять, что Чернышевский был еще далек от разрыва с идеализмом и что его представление о дальнейшем ходе общественного развития было совершенно идеалистическим. Мы только попросим читателя заметить, что исторический идеализм Чернышевского заставлял его отводить в своих соображениях о будущем первое место «передовым» людям, – интеллигентам, как выражаются у нас теперь, – которые должны распространить в массе открытую, наконец, социальную истину. Массе отводится у него роль отсталых солдат подвигающейся вперед армии. Конечно, ни один толковый материалист не станет утверждать, будто средний «простолюдин» только потому, что он простолюдин, т. е. «человек массы», знает не меньше среднего «интеллигента». Он знает, конечно, меньше его. Но ведь речь идет не о знаниях «простолюдина», а об его поступках. Поступки же людей не всегда определяются их знаниями и всегда определяются не только их знаниями, а также – и самым главным образом – их положением, которое только освещается и осмысливается свойственными им знаниями. Тут опять приходится вспомнить основное положение материализма вообще и материалистического объяснения истории в частности: не бытие определяется сознанием, а сознание бытием. «Сознание» человека из «интеллигенции» более развито, нежели сознание человека из «массы». Но «бытие» человека из массы предписывает ему гораздо более определенный способ действия, нежели тот, который предписывается интеллигенту его общественным положением. Вот почему материалистический взгляд на историю позволяет лишь в известном и при том очень ограниченном смысле говорить об отсталости человека из «массы» сравнительно с человеком из интеллигенции: в известном смысле «простолюдин», несомненно, отстает от «интеллигента», а в другом смысле он, несомненно, опережает его. И именно потому, что это так, сторонник материалистического объяснения истории, отнюдь не повторяя нелепых нападок на интеллигенцию, идущих из черносотенного и синдикалистского лагеря, в то же время никогда не согласится отвести интеллигенции ту роль Демиурга истории, которую отводят ей обыкновенно идеалисты. Есть разные роды аристократизма. Исторический идеализм грешит «аристократизмом знания».
То, что в исторических взглядах Чернышевского было недостатком, вызванным неразработанностью Фейербаховского материализма, стало впоследствии основою нашего субъективизма, не имевшего ничего общего с материализмом и решительно восставшего против него не только в области истории, но также и в области философии. Субъективисты хвастливо называли себя продолжателями лучших традиций 60-х годов. На самом деле они продолжали только слабые стороны свойственного этой эпохе миросозерцания. Сильные стороны миросозерцания той же эпохи легли в основу взглядов материалистических противников «субъективизма». На этом основании нетрудно решить вопрос, кто собственно был более верен лучшим традициям 60-х годов.
Заговорив о «субъективистах», мы невольно вспоминаем их некогда частые и многоречивые рассуждения о «роли личности в истории». Правы ли были «субъективисты», утверждая, что в этих рассуждениях повторяются и развиваются взгляды наших великих «просветителей»? И да, и нет. Идеалистический взгляд на историю, как мы уже видели, по необходимости отводит «передовым личностям» страшно преувеличенную роль. И поскольку, например, Чернышевский держался этого идеализма, постольку его взгляд на роль личности в истории был близок ко взгляду «субъективистов». Но мы уже знаем, что в его миросозерцании существовали также зародыши материалистического объяснения истории. И поскольку они существовали, постольку взгляд Чернышевского на интересующий нас здесь предмет был как нельзя более далек от «субъективного» взгляда.
В речи Грановского «О современном состоянии и значении всеобщей истории», о которой с такой безусловной похвалой отзывается Чернышевский, приводятся между прочим следующие слова академика Бера: «Ход всемирной истории определяется внешними физическими условиями. Влияние отдельных личностей в сравнении с ними ничтожно. Они всегда почти приводили только в исполнение то, что уже было подготовлено, и так или иначе, а должно было совершиться. Стремление установить что-нибудь совершенно новое и неподготовленное остается безуспешным или влечет за собой только разрушение»[274]. Грановский ничего не возражает против этого взгляда. Не возражает против него и Чернышевский в своей статье о Грановском. Но как же относится этот взгляд ко взгляду сторонников материалистического объяснения истории? Он является намеком на него, первым шагом научной мысли в том направлении, по которому с таким успехом пошли впоследствии Маркс и Энгельс. «Личности», в самом деле, всегда приводили в исполнение только то, что уже было подготовлено. Тут Бер прав. Но он делает большую ошибку, когда сравнивает влияние отдельных личностей с влиянием внешних физических условий. Это последнее влияние редко бывало непосредственным. Чаще всего физические условия влияли на историю лишь косвенно, лишь через посредство тех социальных отношений, которые ими вызывались. Поэтому влияние отдельных личностей нужно было бы сравнивать не с влиянием внешних физических условий, а с влиянием социальных отношений. Однако методологически и это сравнение рискует быть очень неправильным, потому что социальные отношения суть отношения людей, а не каких-то метафизических сущностей, хотя и касающихся людей, но все-таки как будто им противостоящих. В действительности историю делают люди, но делают они ее так, а не иначе, не потому, что они сознательно хотят сделать ее именно так и именно не иначе, а потому, что их действия определяются не зависящими от их воли условиями. В числе этих условий нужно, разумеется, отметить и внешние физические условия; но главное место нужно отвести тем отношениям производства, которые возникают на почве данных производительных сил, в свою очередь немало зависящих от географической среды. У Бера есть ясные намеки на все это: недаром же он говорит о влиянии внешней природы на социальные отношения отдельных народов. Но то, что было справедливо в этих ясных намеках, получило надлежащее развитие лишь в историческом материализме Маркса-Энгельса.
В своем сочинении о Лессинге Чернышевский следующим образом формулирует свой взгляд на возможную роль отдельных личностей в истории:
«Ход великих мировых событий неизбежен и неотвратим, как течение великойреки: никакая скала, никакая пропасть не удержит ее, не говоря уже о плотинах, произвольно устраиваемых: плотиною ничья сила не пересыплет Рейна или Волги, и всесильная река одним напором выбросит на берег все сваи и весь мусор, которым дерзкая рука безумца хотела преградить ее течение; единственным результатом безрассудной политики будет только то, что берег, который спокойно напоялся бы рекой и зеленел роскошным лугом, будет на время истерзан и обезображен гневом оскорбленной волны, – а река пойдет-таки своим путем, зальет все пропасти, прорвет хребты гор и достигнет океана, к которому стремится. Совершение великих мировых событий не зависит ни от чьей воли, ни от какой личности. Они совершаются по закону столько же непреложному, как закон тяготения или органического возрастания. Но скорее или медленнее совершается мировое событие, тем или другим способом совершится оно – это зависит от обстоятельств, которых нельзя предвидеть и определить наперед. Важнейшее из этих обстоятельств – появление сильных личностей, которые характером своей деятельности дают тот или другой характер неизменному направлению событий, ускоряют или замедляют его ход и сообщают своею преобладающей силою правильность хаотическому волнению сил, приводящих в движение массы»[275].
К этим мыслям можно прибавить только два замечания.
Во-первых, появление сильных личностей тоже не случайно. Давно уже было замечено, что сильные личности часто появляются в истории именно тогда, когда есть большой спрос на них. Чем это объясняется? Просто-напросто тем, что сильные личности данного разряда не при всяком общественном строе могут найти приложение для своих способностей. Вот, например, никто не станет оспаривать, что сильная личность Наполеона положила чрезвычайно глубокую печать на известную историческую эпоху. Но нужны были особые исторические условия для того, чтобы сила Наполеона могла развернуться во всей своей полноте. Продержись старый порядок 30-ю годами дольше, и мы не знаем, как сложилась бы жизнь Наполеона. Говорят, что за несколько лет до революции он хотел уехать в Россию, чтобы служить в русской армии. Нечего и говорить, что карьера, которая ждала бы его там, ни в каком случае не привела бы его к мировому господству. А Наполеоновы маршалы? В 1789 году Ней, Мюрат и Сульт были унтер-офицерами. Не случись революции, они, может быть, никогда не увидели бы офицерских эполет. В том же году, т. е. в том году, когда началась революция, Ожеро был простым учителем фехтования, Ланн – красильщиком, Гувион Сен-Сир – актером, Мармон – наборщиком, Жюно – студентом юридического факультета и т. д. Все эти люди имели очень большие военные способности. Но старый порядок не позволил бы этим способностям развернуться; известно, что при Людовике XV только одно лицо не дворянского сословия дослужилось до чина генерал-лейтенанта, а при Людовике XVI еще более была затруднена военная карьера для лиц не дворянского происхождения[276]. Выходит, стало быть, что общественные отношения, существующие в данное время у данного народа, определяют собою, будет или не будет открыта в данной области дорога для известной категории сильных личностей. А так как всякий данный склад общественных отношений представляет собою нечто вполне закономерное, то ясно, что и в появлении сильных личностей на арене истории есть своя закономерность.
Во-вторых, справедливо то, что, раз появившись на исторической арене, сильная личность ускоряет своею деятельностью ход событий. Но и тут очевидно, что величина ускорения зависит от свойств той социальной среды, в которой приходится действовать сильной личности.
С этими оговорками взгляд Чернышевского вполне приемлем для сторонников современного материалистического объяснения истории. Не нужно много проницательности, чтобы видеть, как далек этот взгляд от учения наших субъективных социологов. Эти господа имели приятное обыкновение обвинять «учеников» Маркса в том, что те отказывались будто бы от наследства 60-х годов. Но если сопоставить их иеремиады с тем, что говорит о роли личности Чернышевский в только что приведенной нами выписке, то будет ясно, что эти иеремиады с таким же основанием, вернее, с таким же полным отсутствием логического основания, могли бы быть направлены по адресу Чернышевского, с каким они направлялись по адресу марксистов. Здесь, как и во всех других отношениях, только марксисты оставались верны лучшим заветам наших великих «просветителей» 60-х годов.
Глава шестая
Последние исторические сочинения Чернышевского
Как уже сказано, Чернышевский по возвращении из Сибири занимался, между прочим, переводом «Всеобщей истории» Вебера и к некоторым томам своего перевода сделал приложения, весьма важные для характеристики его исторических воззрений. Мы рассмотрим здесь некоторые из них.
Все эти приложения посвящаются изложению «научных понятий по некоторым вопросам всеобщей истории». По весьма понятной причине наибольший интерес имеет для нас приложение, рассматривающее те элементы, которыми производится, по мнению Чернышевского, прогресс.
Для Чернышевского прогресс заключается в улучшении человеческих понятий и привычек. Поэтому и вопрос о причинах, производящих прогресс, сводится для него к вопросу о том, чем вызывается названное улучшение.
Чернышевский говорит, что все те преимущества, какие имеет человеческая жизнь над жизнью животных, представляют собою результаты умственного превосходства человека. Поэтому основной силой, возвышавшей человеческий быт, Чернышевский признает умственное развитие людей. Конечно, умственная сила может производить и часто в самом деле производит вредные результаты; но она производит их, по замечанию Чернышевского, лишь под влиянием сил и обстоятельств, искажающих природный характер ее. «Само по себе умственное развитие, – говорит он, – имеет тенденцию улучшать понятие человека о его обязанностях относительно других людей, делать его более добрым, развивать в нем понятие о справедливости и честности»[277].
Это, как видим, тот самый взгляд, который Чернышевский излагал когда-то в своих заметках о книгах Гизо. Нет надобности пояснять, что взгляд, согласно которому умственное развитие является главной движущей силой прогресса, есть идеалистический взгляд.
Утвердившись на своей идеалистической точке зрения, Чернышевский рассуждает по-своему очень логично, говоря, что так как всякая перемена в народной жизни есть сумма перемен в жизни отдельных людей, составляющих нацию, то при рассмотрении тех обстоятельств, которые благоприятны или неблагоприятны улучшению умственной и нравственной жизни народов, нужно выяснить себе, от каких причин улучшается или портится отдельный человек в умственном или нравственном отношении.
Политическая экономия, – которая раньше других общественных наук выработала точные понятия об условиях прогресса, – установила как незыблемый принцип, что только добровольная деятельность человека производит хорошие результаты, между тем как все, делаемое человеком по внешнему принуждению, выходит очень плохо. Применяя эту истину к вопросу об успешности материального человеческого труда, мы получаем тот вывод, что «все формы недобровольной работы непроизводительны и что материальным благосостоянием может пользоваться только то общество, в котором люди пашут землю, изготовляют одежду, строят жилища, каждый по собственному убеждению в полезности для него заниматься той же работой, над которой он трудится»[278].
Применяя тот же принцип к вопросу о приобретении и сохранении умственных и нравственных благ, мы приходим к тому заключению, что «никакое внешнее принуждение не может поддержать человека ни на умственной, ни на нравственной высоте, когда он сам не желает держаться на ней»[279].
Эти выводы, подкрепляемые у Чернышевского рядом педагогических соображений, имеют в его глазах не только теоретическую, но и практическую важность. Образованные нации обыкновенно смотрят на дикие племена, как на детей, воспитание которых может и должно насильственно направляться к определенной благой цели. Так же смотрит образованное сословие цивилизованных наций на невежественные массы своих собственных стран. Чернышевский энергично восстает против этого взгляда. Он говорит, что даже самые грубые из дикарей вовсе не дети, а такие же взрослые люди, как и мы. Но если бы мы даже и признали верным неверное сравнение диких и необразованных людей с детьми, то мы все-таки не имели бы ни малейшего права применять насилие к воспитанию дикарей или «простолюдинов», потому что, как мы уже знаем, насилие ни к чему хорошему никогда не приводит. «Если мы, просвещенные люди какого-нибудь народа, – говорит наш автор, – желаем добра массе наших соплеменников, имеющей дурные, вредные для нее привычки, наша обязанность состоит в том, чтобы знакомить ее с хорошим и заботиться о доставлении ей возможности усвоить его. Прибегать к насилию – дело совершенно неуместное… Те ученые, которые желают, чтобы правительство какой-нибудь цивилизованной страны принимало насильственные меры для преобразования жизни своего народа, – люди менее просвещенных понятий, чем правители турецкого государства»[280].
Тут мы сделаем сравнение, которое, можно сказать, напрашивается само собой. Написанный Марксом устав Интернационала начинается тем знаменитым положением, что «освобождение рабочих должно быть делом самих рабочих». Это, если хотите, та же самая мысль, которую защищает Чернышевский. Но, формулируя эту мысль, Маркс обращается непосредственно к пролетариату, тогда как Чернышевский имеет в виду тех более или менее благовоспитанных людей, которые захотели бы заняться улучшением участи рабочего класса. Это коренное различие вполне соответствует той, указанной выше, особенности исторических взглядов Чернышевского, в силу которой настоящим действующим отрядом в истории ему представлялась собственно интеллигенция, а масса «простолюдинов» напоминала ему отсталые элементы армии. Мы уже сказали, что эта особенность находится в тесной причинной связи с идеалистическим характером исторических воззрений нашего автора.
Вопрос о насилии логически приводит его к вопросу о том, «в каких случаях разум и совесть могут оправдывать завоевание»[281]. Чернышевский говорит, что все такие случаи подходят под понятие самообороны. Более сильный народ всегда имеет возможность устроить свои отношения к менее сильному так, чтобы жить с ним в мире. Завоевание народа всегда является нарушением справедливости. Но это относится собственно к оседлым народам. На номадов Чернышевский смотрит иначе. Некоторые номады отличаются миролюбием; завоевание их несправедливо. Но многие номады занимаются грабежом своих соседей; их завоевание оправдывается разумом и совестью. И вот тут-то возникает вопрос, имеют ли цивилизованные завоеватели право принуждать завоеванных номадов к перемене их обычаев. Чернышевский отвечает, что имеют, насколько это необходимо для предотвращения разбоев. Беда лишь в том, что цивилизованные завоеватели думают обыкновенно лишь о своей собственной пользе, а не о пользе завоеванных. Поэтому они и прибегали к насилию; а если бы они думали о пользе завоеванных, то они помнили бы, что все хорошие результаты производятся не насилием, а кротостью и уменьшением насилия.
Однако существует множество будто бы достоверных исторических свидетельств в пользу того, что насилие улучшало нравы дикарей. Что думать об этих будто бы достоверных свидетельствах? Чернышевский отвечает: «Для историка, знакомого с законами человеческой природы, не может быть сомнения, что всякие рассказы подобного рода – вздорные сказки; задача его относительно их состоит в том, чтобы разъяснить, как возникли они, найти источники ошибок или мотивы преднамеренной лжи, которыми они порождены»[282].
Просветители XVIII века, равно как и социалисты-утописты XIX столетия, охотно апеллировали к человеческой природе в своих исторических рассуждениях. Но апелляция к человеческой природе, иногда, может быть, полезная в агитационном смысле, никогда не была благотворна для истории как для науки. Если человеческая природа неизменна, то она ничего не объясняет в истории, процесс которой сводится к беспрерывным переменам. Если же человеческая природа сама изменяется под влиянием исторических перемен, то очевидно, что эти последние не могут быть объяснены ею. Эти общие соображения вполне применимы и к только что изложенным рассуждениям Чернышевского. Он говорит, что всякое насилие ведет к вредным последствиям. Но какой же народ не повинен в насилии? Славянофилы говорили когда-то, что русское государство, в отличие от государств Западной Европы, основано было на договоре, а не на завоевании. Но эту теорию, вероятно, сам Чернышевский считал не более, как фантастической сказкой. Ни один народ не отказывался прибегнуть к насилию в тех многочисленных случаях, когда оно обещало принести ему пользу. А между тем исторические судьбы народов далеко не одинаковы. Чем же объясняется их различие? Тот же вопрос можно поставить и по отношению к внутреннему развитию каждого общества. Нет такого народа, во внутреннем развитии которого не играло бы роль насилие. А между тем и внутреннее развитие тоже различно у различных народов. Чтобы объяснить это, очевидно недостаточно сослаться на насилие. Наконец, самая возможность злоупотребления силой создается такими условиями, которые насилием вовсе не объясняются. Мы уже говорили, что так называемое военное вето имеет на разных стадиях исторического развития различный характер, обусловливаемый в последнем счете экономическими отношениями общества. Чернышевский и сам высказывает иногда подобные соображения. Так, например, в приложении к IX тому Вебера, озаглавленном «О различиях между народами по национальному характеру», он указывает на те обстоятельства, которые, по его мнению, преобразовали состав римского войска и тем ослабили его силу, подготовив таким образом падение Римской империи. По его словам, по мере того, как расширялись пределы римского государства, народ все более разделялся на два класса: большинство граждан покидало военную службу, так как далекие военные походы мешали ему заниматься хозяйством, а меньшинство совсем покинуло всякое хозяйство и стало заниматься военным делом как ремеслом. Это вызвало глубокие изменения в политическом строе Рима, ослабившие силу его сопротивления и т. д. Тут военная сила ставится в тесную причинную зависимость от известных экономических условий. И Чернышевский подчеркивает эту зависимость. «С той поры, как историки считают надобным изучать политическую экономию и толковать о разделении труда, – говорит он, – они в книгах о последних временах римской республики и о Римской империи сами разъясняют, какими экономическими силами была произведена замена войска, состоящая из граждан домохозяев, войском солдат по ремеслу и потом замена итальянцев на военной службе уроженцами областей, менее цивилизованных, и иноземными варварами. Потому давно пора было бы бросить фантазию о вырождении римлян, следовало бы говорить лишь о том, что масса итальянского населения перестала образовывать главную массу войска, непрерывно ведущего войны на отдаленных границах и живущего там в укрепленных лагерях. Таким образом падение Римской империи, завоевание Италии варварами достаточно объясняется уж одной той переменой, которую произвели в составе войска громадные завоевания римлян»[283].
Если бы Чернышевский последовательно развил высказанную здесь мысль, то ему пришлось бы совершенно отказаться от идеалистического взгляда, выраженного им в знакомой уже нам статье о причинах падения Рима. Но в том-то и дело, что подобные мысли высказываются у него лишь мимоходом и не получают дальнейшего развития. Высказывая их, он вовсе не видит надобности отказаться от исторического идеализма, и это происходит не от пристрастия к идеализму как философской теории. К этой теории Чернышевский вообще относится крайне отрицательно. Высказывая идеалистический взгляд на ход исторического развития, он продолжает считать себя последовательным материалистом. Он ошибается. Но его ошибка коренится в одном из главных недостатков материалистической системы Фейербаха. Маркс очень хорошо заметил: «Фейербах хочет иметь дело с конкретными объектами, действительно отличными от субъектов, существующих лишь в наших мыслях. Но он не доходит до взгляда на человеческую деятельность, как на предметную деятельность. Вот почему, в «Сущности христианства», он рассматривает, как истинно человеческую деятельность, только деятельность теоретическую…»[284]. Подобно своему учителю, Чернышевский тоже сосредоточивает свое внимание почти исключительно на «теоретической» деятельности человечества, вследствие чего умственное развитие и становится в его глазах самой глубокой причиной исторического движения. Читая его рассуждения о вреде насилия, можно подумать подчас, что он просто хочет дать несколько хороших советов человечеству И он, конечно, не прочь от того, чтобы дать хороший совет. Но то, что говорится им о насилии, имеет для него также и большое теоретическое значение. Он видит в насилии фактор, искажающий человеческую природу. А мы уже знаем, что человеческая природа была для него главной инстанцией, к которой он апеллировал в своем объяснении истории.
На человеческую природу, как и на все на свете, можно смотреть с различных точек зрения. Чернышевский смотрел на нее глазами материалиста. Но когда он пытался применить свое материалистическое понимание человеческой природы к объяснению истории, он в огромном большинстве случаев незаметно для себя приходил к идеалистическим выводам. Впрочем, это и раньше его нередко случалось с людьми, державшимися того материализма, который мы назовем домарксовским. Материалисты XVIII века тоже были идеалистами в истории.
В своих исторических соображениях Чернышевский исходит из той, несомненно материалистической, мысли, что человек есть животное, организм которого подчиняется известным законам физиологии. Физиология говорит, что для нормального хода жизни животного необходимо нормальное удовлетворение потребностей его организма: «она строго различает хороший ход функций организма от дурного; аппетит и результат его, своевременное принятие пищи в количестве, соответствующем надобностям организма, она относит к разряду фактов жизни, полезных для организма; голод и его результаты – к разряду фактов, вредящих организму»[285]. Вот это-то различение хорошего хода функций организма от дурного и применяется Чернышевским к истории. Насилие осуждается им как один из тех факторов, которые мешают хорошему ходу функций человеческого организма. Но каким же образом хороший или дурной ход функций человеческого организма может объяснить нам факт человеческого процесса? Вот каким.
«Физиология доказывает, что если организация человека не понизилась, а повысилась сравнительно с первоначальным своим состоянием, то ход жизни человеческого рода имел больше элементов, благоприятствовавших улучшению его организации, чем имевших тенденцию понижать ее. Исключительно этим преобладанием благоприятных для организма обстоятельств жизни над вредными для него объясняет физиология прогресс человека от первобытного состояния до того, сравнительно очень высокого развития умственных сил, когда он уж умел раскалывать кремни для приобретения себе орудий работы. Без сомнения, людям приходилось во времена этого прогресса много страдать от голода, от вредных явлений внешней природы, от ядовитых насекомых и змей, от сильных хищных зверей, от собственных нерассудительных поступков и от взаимных дурных отношений. Но как бы ни была велика сумма этих бедствий, она была меньше суммы фактов, полезных для человеческого организма. Если бы было иначе, то организация человека не повышалась бы, а портилась бы, он подвергался бы тому, что в зоологии называется деградацией, понижением организации»[286].
Уж эти строки ясно показывают нам, каким образом Чернышевский применял физиологические соображения к объяснению фактов человеческого прогресса. Но в этих строках соображения эти применяются лишь к тому периоду, который можно назвать доисторическим, или, вернее, докультурным в самом тесном смысле слова, т. е. периода, заканчивающегося тем, что человек приобретает умение делать себе каменное орудие работы. И тут Чернышевский продолжает оставаться на материалистической точке зрения, хотя и тут материализм его обнаруживает метафизический характер. В самом деле, опираясь на законы физиологии, Чернышевский повторяет уже раньше, – при разборе его статьи о теории Дарвина, – встречавшееся нам рассуждение о том, что вредное всегда вредно и никогда не может быть полезно[287]. Эти соображения, теоретическую слабость которых мы обнаружили выше, состоят в тесном родстве с историческим идеализмом; но в них свойственный этому идеализму характер сказывается лишь косвенно и притом преимущественно с методологической стороны. Чтобы понять, каким путем переходит Чернышевский со своей физиологической точки зрения на точку исторического идеализма, нужно принять в соображение ту его мысль, что «хороший ход функций» человеческого организма вел к развитию мозга, который увеличивал умственные силы человека и тем ускорял прогресс его знаний. Дарвин говорит: «человек никогда не достиг бы господствующего положения в мире без употребления рук, этих орудий, столь удивительно послушных его воле»[288]. Ту же мысль высказывал еще Гельвеций. Встречается она и у Чернышевского. Но у него она сразу приобретает своеобразный характер. «Говорят, и по всей вероятности справедливо, – замечает он, – что умение взять в руку камень или толстую палку и бить этим оружием по врагу увеличило безопасность людей, дало им возможность улучшить свою материальную жизнь и, благодаря ее улучшению, получить большое развитие умственных способностей»[289]. Умение взять в руку известное оружие увеличивает безопасность человека, дает ему возможность лучше удовлетворять свои материальные потребности и тем обеспечивать развитие органа мысли – мозга. Все дело в том, что у человека, благодаря каким-то особенностям истории его предков, головной мозг приобрел такое развитие, какого он не достиг ни у одного из человекоподобных существ. В чем именно состояли эти особенности, остается неизвестным. Но очень правдоподобно, по мнению Чернышевского, что предки людей по какому-то счастливому обстоятельству приобрели больше безопасности от врагов, чем какую имели другие существа, сходные или одинаковые с ним. «Но каким бы то ни было путем предки людей, по влиянию каких-то благоприятных обстоятельств своей жизни, приобрели такое высокое умственное развитие, что сделались людьми. Только с этого времени начинается та история их жизни, относительно которой возникают вопросы не общего физиологического содержания, а специально относящиеся к человеческой жизни»[290]. Что же касается вопросов этого последнего рода, то они решаются в истории человечества развитием ума и знаний. «Собственно превосходством ума и объясняется, – говорит Чернышевский, – весь дальнейший прогресс человеческой жизни»[291]. Здесь мы с поразительной ясностью видим, каким образом Чернышевский, так или иначе державшийся материалистической точки зрения в своих рассуждениях о человеческом организме, немедленно становится идеалистом, как только речь заходит об истории человечества.







