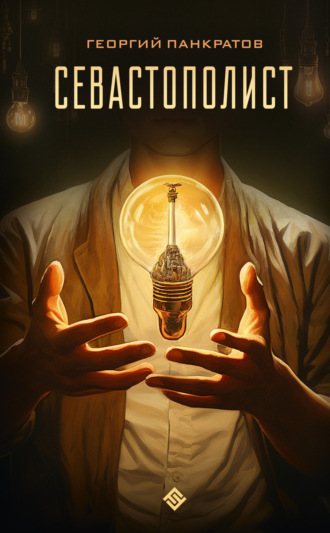
Георгий Панкратов
Севастополист
– Вы все друг друга стоите, – фыркнула она, выходя из машины. – Будто только из ласпей вышли. Истрачиваете себя на глупости.
– Керчь, милая, о чем ты? – беззаботно рассмеялся Инкер. – На что еще истрачивать себя в закрытом городе?
– Ладно, расслабьтесь, ребята, – сказал наконец я. – Мы снова здесь. Городской туризм и все такое…
– Что делать будем? – поинтересовалась Евпатория.
– Наслаждаться жизнью. – Я пожал плечами и присел прямо на дорогу, прислонившись спиной к двери нашего авто. Вдыхал воздух – здесь он, казалось, был чище, чем в жилой части, и теплее. Словно Башня нагревала его.
Это было сложно принять за правду, но, когда я присматривался к причудливой форме Башни, такая мысль не казалась невероятной. Башня состояла… как бы объяснить вам, чтобы вы смогли представить? А еще – вы назовете меня сумасшедшим; уверен, это случится не раз, но я все же рассчитываю, что вы поверите мне. Я хочу, чтобы поверили, а иначе зачем весь этот рассказ, зачем это все было?
Так вот, представьте электрический чайник; у нас такие были в каждом доме. Но только без ручки и носика, ну и без стекла еще. А главное – гигантский. Представьте его таким, каким только сможете вообразить, и, уверяю вас, эта фантазия окажется преуменьшением. Или, если хотите, представьте металлический утюг. Такие бывали и в наших домах, но их, как правило – не знаю почему, – редко использовали по назначению. В основном придавливали крышку, когда что-то жарили на сковороде. Уж не знаю, делают ли так у вас здесь. А лучше… лучше представьте себе что-то среднее между таким утюгом и электрическим чайником. И еще немножко тостером. Знаю, это получилось странно, но я простой парень, я провел всю жизнь внизу. Мне никому не приходилось рассказывать о Башне; а это как рассказывать о дереве, о море, о земле… Как бы вы описали землю? А воду? Представьте вдруг, что я ее не видел, и вам нужно объяснить мне, что это такое.
Так и Башня. Она была первозданной, монолитной. По правде говоря, описывать это невероятное творение через что-то, как совокупность каких-то разных частей, – чудовищно. Башню можно было описать лишь одним словом – Башня. Только это была она. Но если вы уже представили гигантский предмет (вспомните, как долго мы объезжали вокруг забора!), напоминающий чайник-тостер-утюг, но без дверей и окон, то это будет хотя бы немного похоже для тех, кто не видел Башни. Нет, не на нее саму – на ее основание.
На этом тостере располагался – грубо говоря, стоял, хотя все это было одним целым – другой, поуже, а на том – новый, точно такой же, но еще уже. Каждый из последующих «чайников» был еще и ниже предыдущего, но в чем они не различались – так это в цвете: Башня была темно-красной, бордовой, напоминала цвет густой артериальной крови. И еще она блестела, отражая блики солнца – ее поверхность была идеально гладкой, словно лакированной.
Я вновь зажмуриваюсь, вспоминая Башню, вспоминая сразу все наши бесчисленные прогулки, катания возле северных границ. Как же глупы слова «чайник», «стоял». Стоял – значит, мог упасть? Но Башня не могла упасть. В ней ничто не могло сдвинуться с места, шелохнуться. Она уходила в небо или, как считала та же Керчь, подпирала небо.
Керчь была умной, бывало, я прислушивался к ней. Когда мы увидели ее у обрыва спящей, именно я оказался тем негодяем, что потревожил ее сон. Я веселился, пока она пыталась прийти в чувство, плясал вокруг нее. Сказать вам по правде, что мы еще делали с этими старыми низкорослыми кустами, которыми так изобиловала Северная сторона? Мы курили их – измельчали, толкли до состояния пыли фиолетовые цветы и набивали ими трубки. Так и в ту последнюю поездку, облокотившись на машину, я курил этот сухой куст. Так и там, на обрыве, когда я был совсем еще мелким… Сухого куста хватало на всех, но в городе он никому не был нужен. Там было крыльцо и небо, у нас – дорога и пыль. И вечная красная Башня, куда ни кинь взгляд – она словно притягивала, возвращала, не давала отвернуться от себя.
А Керчь тогда отвернулась – мелкая задиристая Керчь.
– Давай познакомимся, – хохотал я. – Мальчик, кто твое имя, а, мальчик? Где твоя мама?
– Мы не будем знакомиться, – сухо сказала Керчь. – Мне с тобой будет скучно, ну а тебе – непонятно.
– Почему? – удивился я.
– Потому что мне уже скучно, а тебе – уже непонятно.
О, как я возненавидел ее за это! Как хотел развернуться и прыгнуть с обрыва в море, лишь бы забыть, что я слышал эти слова. Да, это стоило того, чтобы «обнулить» жизнь! Но я понял сразу, что буду слышать эту присказку далеко не от одной мелкой засранки: что в Севастополь пошло, то уже не отлипнет. Как каучуковый мячик, застрянет в волосах. Просто Керчь была первой, кто мне – и при мне – такое сказал.
И точно: на улицах, в метро, с больших экранов звучало это «скучно-непонятно», звучало как призыв. К действию, которого не было, которое было невозможно совершить. Таким же призывом выглядела Башня. «Если тебе скучно, – словно говорила она. – Если тебе непонятно…»
Да, именно так она нагревала воздух. Я думаю, потому возле нее и было так жарко. Ну, и курили много – становились активнее, без умолку говорили глупости, о которых непременно потом забывали. Все, кроме Феодосии.
Сухой куст мы курили все. Кроме Феодосии.
– Идите на хрен, – отворачивалась она и шла вперед по дороге, куда мы так и не доехали, видя лишь бесконечное продолжение странного, ведущего в начало самого себя пути. Она была наивна и прекрасна – словно действительно верила, что куда-то по этой дороге придет. Я представлял ее маленькой, любопытной, познающей мир, в коротком платьице бегающей между кустов: вот она зажмуривается и расправляет руки, словно крылья, и глядит, закинув голову назад, в небо. Хохочет… Прыгает, мчится куда-то, падает, катается по земле, кувыркается, лежит, отдыхает… Вот ей взгрустнулось, или она задумалась, присела, обхватив большими, непропорциональными худыми руками коленки, а на них ссадины, царапины – это резали колючки, впивалась сухая корявая земля. Ничего, заживет быстро! Быстро грусть пройдет. Быстро… как все быстро, и, представляя ее такой, испытывал только огромную безразмерную нежность.
И, замирая на мгновение, я ее видел – бегущую девочку в легком платьице, бегущую в новую жизнь. Нынешняя Фе, красавица из красавиц, наверное, хотела бы бежать от жизни… Не оттого, что жизнь плоха, а оттого, что известна, и оттого, что от жизни известно: маленькой девочки больше не будет, и убежать некуда. Я вдыхал горько-сладкий сухой куст, и мне казалось, что все уменьшается: и пыльная дорога впереди, и Фе, идущая по ней, и авто за моей спиной, и исполинская Башня, и оставленные где-то далеко улицы города… Все становится крошечным, и почему-то темнеет вокруг, словно на все, что существует, наваливается тень: как если бы ты открыл дверь в темный чулан, кладовку или погреб (ведь где еще в светлом нашем городе могло быть так темно?), но только это не ты отправляешься в темную комнату, а выпущенная тобой темнота отправляется осваивать пространство. Но ты не боишься, потому что растешь и становишься много, гораздо выше всего, что тебя окружает, – выше оставленных возле самой линии земли твоих друзей: они теперь единое целое с дорожным песком, с куцыми ворсинками-волосиками сухого куста, а ты растешь все выше, выше – ты уже вровень с Башней, ты тянешься к небу, ты преодолеешь его, порвешь его тонкую пленку, и… что там над ним, вверху? Вытечет, хлынет в дыру лопнувшего неба, заливая собой Севастополь, а ты… Ты хоть на миг увидишь, что там. Ты увидишь, где кончается Башня.
Только тогда я впервые понял, что вершину Башни всегда окутывают облака. В городе было мало облаков – они плыли по нескольким спланированным еще до меня и миллиардов таких, как я, маршрутам, будто небесные троллейбусы. Они всегда возвращались, как возвращались все мы, проходя линию. Но там, наверху, где Башня входила в небо, они лишь мельтешили вокруг, немного изменяя форму, но не исчезали, словно сами были частью Башни… Или, если уж мы вспоминали чайник, – иногда облака так клубились, что казалось: этот огромный чайник кипит.
Только здесь бывали грозы, и небесная вода стекала по скользкой сверкающей стене, а молнии отражались на ее идеальной глади. Но вода никогда не лила за пределами забора, который окружал Башню. Это мне нравилось: чего ж хорошего, если с неба льет вода? Ничего… Все это говорило лишь о том, что Башня жила по каким-то своим, неведомым всем нам законам. И с чем труднее всего смириться – мы были ей совсем не интересны.
– Это просто кусок металла, – услышал я голос Инкера. – Никчемная груда металла. И что мы вечно на нее так смотрим? Прыгаем вокруг нее, как муравьишки… Пошла она! Слышишь ты, эй!
– Ты чего? – оторопело спросил я.
– Она даже не живая, – пожал плечами друг. – Ты думаешь, там кто-то есть?
– Думаю? Да я уверен, – спокойно ответил я. – Иначе куда бы призывали избранных?
– А как они могут жить без окон? Без дверей? Может, их убивают там? Может, приносят в жертву?
– Скажешь тоже, – хмыкнул я, – в жертву кому?
– Может, это тюрьма, в которую заключили какого-нибудь исполинского бога, – хмуро предположила Керчь.
Да уж, с догадками у этих ребят никогда не возникало проблем. Но тогда я не захотел их слушать.
– Кто? Севастопольцы? – прыснула Евпатория. – Они и с нами-то, пятерыми, не знают, что делать… Куда б заточить… А тут – бога! Да ты видела вообще живого бога?
Не знаю, как насчет богов – в артеках нам о них не говорили, – а вот одну богиню я в своей жизни точно видел. И видел прямо теперь. Я решил поспешить и подскочил так, словно меня ужалил огромный жук-черниловоз, которых здесь было в избытке. Под ногами что-то хрустнуло, я тихо выругался и посмотрел на землю. Там лежали очки Феодосии; их было уже не спасти. Не сказать, чтобы я расстроился. Но увидеть свое лицо в осколках чего-то, что только миг назад было единым целым, а теперь лежало, бесполезное, исчерпавшее себя, не так уж приятно. Я скривился и поспешил догонять Фе.
Она замедлила шаг, словно давая понять: для того и уходила, чтобы я отправился за ней следом. Я поравнялся с ней. До линии возврата было далеко, но мы пошли еще медленней. Сзади слышался смех – Инкер набивал трубку сухим кустом, друзьям было чем заняться.
– Ну как ты? – спросил я.
– Тебе не надоело это все?
Я взял ее за руку, она взглянула на меня и криво усмехнулась. Наверное, мы смотрелись красиво: бесконечная дорога, кусты, небо, парочка простых и молодых…
– Ты – точно нет. – Я не хотел говорить о серьезном, хотя «серьезное» все чаще одолевало. Мы с Феодосией чувствовали друг друга, думали об одном. – Может, прокатимся вдвоем? Я развезу ребят…
– Инкер меня достал, по правде говоря. Он же ко мне клеится. Ты что, не видишь? Даже сегодня, пока ты отходил куда-то там, а мы ждали в машине…
– Он и к Евпатории клеится. Ты же знаешь… Наверное, думает: где-нибудь да получится.
– Евпатория без ума от тебя. – Она посмотрела на меня острым взглядом, словно хотела пробуравить.
– Знаю, – я пожал плечами.
– И что ты думаешь?
– Ничего.
– А то, что твой друг ко мне клеится? Тоже ничего?
Я понимал, к чему она клонит. Мне нравилась эта девушка, да, она была прекрасна. Но не хотелось говорить об отношениях, о планах, обо всех этих вещах, которые они, красавицы, так любят. Я вообще не знал, есть ли у нас отношения и должны ли они быть. Ведь мы всегда были друзьями. И то, что я чувствовал к ней, мне нравилось, но я сам не понимал до конца… Не понимал, что со мной, что с нашей компанией, что с миром и городом – ну да, это, в общем, одно и то же. Куда мне было понимать об отношениях? Я не хотел сдвигать этот камень с места – все и так хорошо, все нормально. А вот к Фе, похоже, приходила «жильца» – та самая.
– Наша компания маленькая, в ней непременно это случилось бы. Когда в компашке пять человек, все рано или поздно перенравятся друг другу.
– Почему-то со мной не так, – фыркнула она.
– Инкер – мой друг, – продолжил я. – Мы вместе почти с тех пор, как я открыл глаза. Как я себя помню. Даже вы все появились потом. Он странный человек; не знаю, почему так вышло. Порой мне кажется, что единственный, кто его по-настоящему интересует, – это я.
Феодосия рассмеялась:
– Когда он кладет мне руку на колено, я совсем так не думаю… Пожалуй, вообще на заднее не сяду. С ним опасно.
– Перестань. Я говорю тебе: ему и дел других не надо, кроме меня. Всю жизнь крутился – и помочь, и просто поболтать. Я порой говорил: что ты еще делаешь, кроме как со мной тусуешься? Он: а ничего. Скучно, говорит, один или с этими, вообще не знаю, чем заняться… Нет у него других дел. Да и какие дела тут? – Я рассмеялся, почувствовав прилив внезапного удовольствия, такого любимого мной благостного расположения духа, спокойного, умиротворенного и счастливого, за которое и любил эти фиолетовые цветы. Правда, ощущение было совсем недолгим и появлялось далеко не всегда. – А ты что же? Хочешь вызвать во мне ревность?
– Накрыло? – спросила Фе.
– Что? Ах да, накрыло, накрыло. Наконец-то, – я радостно закивал головой.
– Это хорошо, – сказала она. – Нет, я хочу в тебе вызвать совсем другие чувства.
– Ты и так вызываешь. – Я непроизвольно икнул и вдруг почувствовал себя глупо. Ощущение благости сбилось, что-то пошло не так. Я цеплялся за него своим сознанием, но оно ускользало, на него выплывала тьма. Я почувствовал страх, тревогу. – Ну надо же было икнуть, ведь знал, что это собьет!
– Фиолент. – Она остановилась. Мы ушли уже довольно далеко от компании, я видел лишь машину и силуэты вдали. Нас никто не мог слышать. – Ты не задумывался, что мы уже давно не веселимся? Что сбой, как ты говоришь, – он настал не под кустом вовсе.
Как же я любил это смешное выражение! «Ты под кустом, что ли?» – подкалывал я Инкермана, завидев того с красными глазами или излишне активным. «Поехали под кусты» – так мы приглашали друг друга прогуляться и покурить. Но тогда, слушая Фе, да еще на сбое, я осознал вдруг: мы ведь не приезжаем сюда просто так. Мы перестали просто ездить-кататься, гулять, отдыхать. Точнее, нет, мы все это делаем, но обязательно курим куст. Почему я не замечал этого? И почему мы перестали отдыхать не под кустом? Почему его курение стало чем-то разумеющимся, очевидным? Даже Керчь, молчаливая и медленная, вечно застывшая в своих раздумьях, постоянно курила его с нами. Ей-то оно зачем, это же мы, дурачки, раздолбаи беззаботные, мы гнали тяжелые мысли, мы не хотели думать. Куст развлекал нас. А что он делал с ней?
Эти мысли пронеслись в голове за миг. Но, видимо, все их можно было прочесть по лицу – оно так изменилось, что Фе прыснула со смеху.
– Ты чего? – спросил я. – Ты же не курила.
Фе была единственной, кому не понравился куст. Поначалу она сидела с нами, выпускала дым, потягивала трубочку, которую мы с Инкерманом сделали сами из толстого ствола все того же растения. А потом сказала: «Нет», – и больше к ней не прикасалась.
– Видел бы ты себя! – ответила она и тут же посерьезнела. – Не думай, что я смеюсь над тобой. Но этот куст – он вытягивает из вас все соки жизни. Вы станете такими же, как он. Выжженными, безжизненными. Вам только кажется, что все по-прежнему. Что вы развлекаетесь, веселитесь. Вы часто ничего вообще не говорите. Ты можешь стать примитивным. Послушай себя, свою речь! Ты говоришь односложно, избегаешь всего серьезного, ты ничего не хочешь, тебя ничего не волнует. Понимаешь, о чем я?
– Ничего не хочу? – возмутился я. – Послушай, Фе, а чего тут можно хотеть? Я живу с недалекими, слежу за цветами, вспахиваю огород. А если я свободен – с тобой, моими друзьями, вами! Я люблю этот мир, наш город, но что здесь можно хотеть? Ты знаешь?
– Хотеть измениться, – сказала она. – Хотеть изменить жизнь в этом городе.
– Я обычный парень. И я проще, чем ты думаешь. Хочешь говорить о чем-то запредельном – иди обратись к Керчи… Я живу в этом городе, и мне не нравится, как здесь живут. Но разве можно жить как-то еще в Севастополе? Даже если захочу… Я не знаю, чего здесь желать, понимаешь? Я ничего другого не знаю – ничего, кроме того, что есть. И знаешь? – Мне хотелось как-то эффектно, ярко закончить, поставить жирную точку и закрыть этот разговор. Но ничего эффектного не находилось, и я произнес наконец: – Какая разница, если и так хорошо?
– Ты не хотел бы раздвинуть границы? – спросила Фе, и я увидел, как в ее глазах отразилась Башня, мне показалось, что там – над этой Башней в ее глазах – собрались тучи и сверкнула яркая молния. Я перевел взгляд на реальную Башню и не увидел ничего подобного.
– Раздвинуть линии возврата? – усмехнулся я. – Тебя не учили разве? Такого не случалось. Это невозможно. Ты не можешь взлететь, ты не можешь дышать под водой, ты не можешь передвинуть линию… Это наш мир, детка!
– Ты много куришь куст. Пока не подсел на него, ты не говорил «не могу», «не можешь». Это было не про тебя.
– Нет. – Я покачал головой. – Это просто жильца подбирается.
– Жильца – это начало жизни, – возразила она. – А ты говоришь как уже переживший, тебе на Правое море пора.
Она отвернулась и зашагала от меня прочь.
– Ну давай, – крикнул я. – Покажи, как раздвинуть границы! Пройди линию возврата! Расширь ее, давай, детка!
Я издевался над ней.
– Главное – это твои границы. Их и надо расширять! Тебе тесно в них. Нам всем тесно.
– О да! – воскликнул я. – Ты понимаешь то же, что и я. А я – то же, что и ты. Вот только что мы с этим будем делать?
– Не знаю, – отчаянно крикнула она. – Не знаю. Но куст – это не выход! Куст – это тот же небосмотр, только для тех, у кого совсем нет башки.
– Я простая песчинка на улицах этого города, – растерянно сказал я. – И вообще, хва…
– Взгляни на Башню, – вдруг сказала Фе. – Она входит в небо, как входит нож в масло. Это красиво, не находишь?
– Для горизонтального города – более чем. Есть на что поглазеть, есть куда съездить. В обнимочку сфоткаться. Хочешь?
– Фи! Мы уже сто раз так делали.
– Конечно, – пожал плечами я. – Но это же так прикольно.
– Так жизнь и проходит, – сказала девушка. – Что мы с тобой будем делать? Сначала породнимся, потом расплодимся, потом устанем от всего и отключимся. Перестанем даже на мол ходить. Ты забросишь свою машину, пересядем на троллейбус, а то и вовсе никуда не станем выезжать. Будем ждать на крыльце, прислушиваться: не слышен ли зов Правого моря?
– Полегче, детка, – рассмеялся я. Меня немного напрягли все эти «породнимся», «расплодимся». – Не слишком ли торопишь события?
– Фи, да очнись ты! – воскликнула она. – Или ты вечно будешь под кустом? Услышь меня! Я не говорю о своих планах. И вообще, знаешь: мне страшно представить теперь, что у нас с тобой что-то будет. Но это вариант развития событий. Один из возможных здесь. Либо так, либо поодиночке. Либо с кем-то другим, но все то же самое! Мы живем у подножия Башни, копошимся. Как муравьи возле столба на остановке.
– Ну и к чему ты клонишь? – устало спросил я. Похоже, что куст прекращал свое действие. Мне хотелось, чтобы и этот разговор, к которому я давно потерял интерес, прекратился.
– Похоже, веселью конец, Фи, – тихо сказала девушка. – Мы уже не те, что были прежде, понимаешь? Все это надоело. Ты знаешь, что нас отличает от них? Тех, кто там, по этой трассе, в обе стороны?
– Они не курят сухой куст? – издевательски спросил я.
– Они не ищут себя. Для них все понятно, и им больше ничего не надо. Они не тоскуют по чему-то другому.
– Потому что знают, что ничего другого нет, – сказал я. – Зачем отрицать очевидное? И я их прекрасно понимаю. Они нормальные люди, просто слегка скучноваты.
– Пятьсот тысяч человек могли бы организовать свою жизнь иначе, чем жить в двухэтажных домах на одинаковых улицах, растить одинаковые цветы. Ты никогда не думал?
– В их жизни не хватает движухи. – Я присвистнул. – А так они нормальные ребята.
– Ну да, – разочарованно протянула Феодосия. – Ты становишься таким же; осталось немного, Фи. Ты думаешь, что они не любят нас и другие такие компашки только потому, что мы веселимся, а их не зовем? Потому что купаемся, катаемся, праздно гуляем, целуемся, слушаем музыку, так?
– Ну почему не любят? Просто не понимают.
– Нет, они косятся на нас. Они считают нас подозрительными. Они думают о том, что с нами делать. Как перевоспитать. Ты никогда не слышал их разговоров?
– Да что мне слушать их разговоры! – взорвался я. – И твой разговор не особо…
Но Фе вдруг обхватила мое лицо руками и приблизила к себе, не дав договорить.
– Каждый из нас ищет себя. Это нас отличает от них, а не веселье, не музыка, не машина. Мы на фоне их сонной жизни слишком заметны: постоянно мельтешим, постоянно громко говорим…
– Я всегда считал: им просто скучно жить, – сказал я. – Знаешь что, давай вернемся обратно. Прокатимся до линии, развезем ребят, а потом еще побудем вдвоем. Это обычные загоны, депрессуха. Пройдет.
Фе молчала.
– Пойдем, пойдем. – Я взял ее за руку и увлек за собой. – Я покажу тебе Севастополь! Целый огромный город, представляешь? И только тебе одной! Ты была когда-нибудь в Севастополе?
Девушка наконец рассмеялась. Ее смех был не таким, как мой, да и вообще любой, который я слышал. Звонче, что ли.







