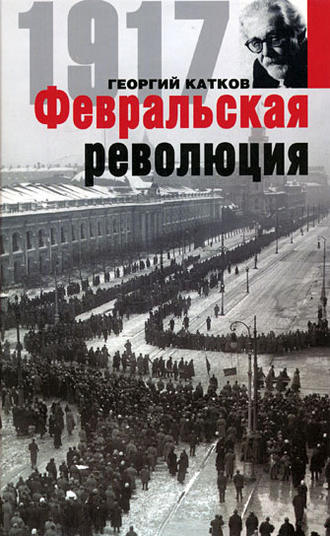
Георгий Михайлович Катков
Февральская революция
3. Патриотизм и революция
Лидеры Думы, за исключением тех из них, которые принадлежали к революционным фракциям, то есть левым социалистам, социал-демократам и «трудовикам»[17], никогда не склонялись полностью на сторону революционного дела. Они часто тормозили политическую активность московских комитетов самодеятельных организаций. Так, член Государственного совета В.И. Гурко в своих мемуарах пишет, что князь Львов и Челноков присутствовали в январе 1917 года на сессии «Прогрессивного блока» и выразили мнение, что Россия при существующем режиме не добьется победы и что спасение страны – в революции. Их заявления были встречены подчеркнуто враждебно: члены «Прогрессивного блока» Петрограда «откровенно указали, что признание необходимости революции в ходе войны равносильно предательству своей собственной страны»[18].
Среди либералов лидер думских кадетов П.Н. Милюков наиболее активно противодействовал революционным тенденциям. В ходе всей войны вплоть до Февральской революции Милюков постоянно выступал, внутри или вне Думы, против любого предложения, направленного на смену режима путем революционных и антиконституционных действий, хотя сам страстно желал этой смены. Он поступал так из опасения того, что революция в условиях войны могла привести к анархии и поглотить парламентские учреждения, с которыми были связаны его надежды на собственную политическую карьеру, на укрепление влияния его партии и торжество либерального дела. Его часто критиковали за такую позицию как в парламентской фракции кадетов, так и на митингах и конференциях вне Думы, когда обсуждалась тактика кадетской партии. О позиции Милюкова можно судить по его воспоминаниям о неудавшейся революционной акции – так называемом Выборгском воззвании, принятом по инициативе кадетов в 1906 году после роспуска 1-й Думы[19]. Еще больше он опасался анархии в России, страшного, по словам Пушкина, «бессмысленного и беспощадного русского бунта». Эти слова русского поэта Милюков цитировал в выступлении перед коллегами по партии в конце июня 1916 года в качестве предупреждений.
Но позицию Милюкова определяли не только негативные соображения. Короткий период «национального единства», начавшийся с заседания Думы 26 июля 1914 года, дал Милюкову возможность сблизить позиции с думскими фракциями правого от кадетов фланга и выработать с ними общую программу, которая оставляла надежду, что ее поддержат либералы из Совета министров. В период 1914–1915 годов велись переговоры с целью формирования такой коалиции парламентского большинства, они увенчались соглашением, подписанным 25 августа 1915 года представителями ряда думских партий и Госсовета. Эта партийная коалиция известна под названием «Прогрессивный блок». Ее создание явилось выдающимся достижением парламентской деятельности Милюкова.
Программа «Прогрессивного блока» отличалась эклектичностью, нельзя было ожидать, что соглашение окажется достаточно прочным[20]. Ни одна из подписавших документ партий не полагала, что программа будет реализована немедленно, особенно в условиях военного времени. Более важной представляется организация «Прогрессивного блока», потому что впервые за время существования 4-й Думы сформировалось думское большинство, имевшее мощную поддержку со стороны либеральных членов Госсовета. Оно намеревалось вести переговоры с властями о формировании «правительства народного доверия».
Поскольку ожидалась определенная либерализация правительства, у Милюкова созрело твердое убеждение, что сотрудничество с правительством в военное время укрепит позиции кадетов в борьбе за конституционную реформу. Позднее, после того как попытка либеральных министров прийти к соглашению с «Прогрессивным блоком» была сорвана в августе – сентябре 1915 года премьером Горемыкиным, Милюков отказался от идеи лояльного взаимодействия со сменявшими друг друга кабинетами Горемыкина, Штюрмера и Трепова. Однако он не уставал предостерегать своих партийных соратников и лидеров самодеятельных организаций против преувеличения возможностей оппозиции и перехода к откровенно революционным действиям. С точки зрения Милюкова, это лишь сделало бы «Прогрессивный блок» уязвимым для обвинений в непримиримости и спровоцировало бы правительство на драконовские реакционные меры. Кроме того, Милюков поддержал решение думской фракции кадетов свести требование правительства, ответственного перед Думой, к более мягкой формулировке: «правительства, пользующегося доверием народа». 13 марта 1916 года во время политического банкета в Москве Милюкова спросили, каким образом он согласовывает эту формулировку с программой кадетской партии. Ведь в ней содержалось требование установления парламентского правления. Милюков ответил: «Кадет вообще – это одно, кадет в «Прогрессивном блоке» – совсем другое. Как кадет я выступаю за министерство, ответственное перед парламентом, но по тактическим соображениям в качестве первого шага мы теперь выдвигаем формулу «министерства, ответственного перед народом». Дайте нам заполучить такое министерство, и затем силой обстоятельств оно очень скоро трансформируется в действительно ответственное парламентское правительство. Все мы убедимся, что последнее требование сформулировано, как надо»[21].
Милюков был уверен, что после окончания войны царское правительство окажется в безнадежном положении, а победа российского либерализма, то есть кадетской партии, будет полной и окончательной. «Правительство, – заявил он на заседании думской фракции кадетов в феврале 1916 года, – движется к пропасти, и с нашей стороны было бы неразумно открывать преждевременно ему глаза на то, что оно ведет крайне глупую игру». Согласно сводке московского департамента секретной службы, касающейся настроений в столице на февраль 1916 года, Милюков полагал, что с окончанием войны правительству потребуются огромные финансовые средства, которые можно было получить лишь посредством иностранных займов[22]. В такой обстановке Дума стала бы чрезвычайно важным органом, который был бы способен нанести решающий удар самодержавию. Без поддержки Думы правительство не смогло бы добыть за рубежом и гроша!
Публичные выступления Милюкова в Думе следует сопоставить с его призывами к сдержанности в приватной обстановке. Даже его речь от 1 ноября 1916 года нельзя считать подстрекательством к восстанию масс. Энергичное осуждение либеральным политиком правительства и устремлений к абсолютной власти самодержавия отнюдь не означали сигнала к выступлению масс, но скорее последний пункт в длинном обвинительном заключении против самодержавного режима. Обличая существующий режим, Милюков надеялся ускорить процесс исторического развития, который, по его убеждению, неизбежно приведет к установлению в России конституционной монархии[23].
Не все члены партии кадетов или лидеры самодеятельных организаций разделяли взгляды Милюкова[24].
Милюкову, человеку сильному и упрямому, поборнику строгой партийной дисциплины, удавалось держать под контролем парламентскую фракцию кадетов, однако на многочисленных партийных конференциях, особенно в Москве, он сталкивался с мощной оппозицией, возглавлявшейся Н.В. Некрасовым и князем Львовым и поддерживавшейся адвокатами Мандельштамом и Маргулисом. Они открыто выступали за проведение революционного курса партией кадетов, которая, как они считали, должна искать контакты с левыми политиками и простыми людьми. Кадеты левой ориентации, – большинство из которых происходили из Москвы и российских провинций и которые, работая в самодеятельных организациях, знали настроения электората – опасались, что конституционализм Милюкова не отвечает настроениям избирателей и что руководство оппозицией в следующей Думе перейдет от кадетов к социалистам.
Внутренний конфликт в партии конституционных демократов не нашел разрешения вплоть до февраля 1917 года и даже позднее. Милюкову удавалось одерживать верх над своими оппонентами в партии до революции, однако сразу же после нее его внутрипартийная власть ослабла. Милюкова вынудили уйти в отставку из Временного правительства без протестов со стороны представителей кадетской партии. Далее мы увидим, что своей возросшей силой и конечной победой оппозиция Милюкову в рядах кадетов частично обязана влиянию тайных обществ – члены масонских лож России просочились в партию кадетов и конкурировали с ее руководством за влияние на рядовых членов партии.
4. Рабочие группы военно-промышленных комитетов
Характерной и чрезвычайно важной особенностью ВПК являлись так называемые «рабочие группы» при них. Рабочим военных отраслей промышленности было предложено направлять своих делегатов в провинциальные комитеты, равно как и в Центральный ВПК. Это была новая отправная точка в российских трудовых отношениях, явление весьма сложное в политическом смысле. Фактически рабочие группы действовали при провинциальных комитетах и Центральном ВПК на постоянной основе лишь в Петрограде, Москве и Киеве. Тем не менее роль, которую они сыграли в политическом брожении, предшествовавшем Февральской революции, была огромной, и мы в дальнейшем вернемся к этой теме.
Создание рабочих групп при ВПК задумали и реализовали в 1915–1916 годах в Петрограде и Москве Гучков и Коновалов. В Киеве это сделал М.И. Терещенко. Еще до начала войны текстильный магнат А.И. Коновалов связался с революционными кругами через большевика И.И. Скворцова-Степанова[25]. Он попытался сформировать комитет по обмену политической информацией, в котором были бы представлены все партии и оппозиционные группировки – от октябристов до социал-демократов. Этот комитет координировал бы их деятельность[26].
Дальнейшая попытка координации – на этот раз среди социал-демократов всех оттенков – была предпринята 6 января 1915 года. Созвали совещание, на котором присутствовали большевики, включая Скворцова-Степанова, а также умеренные и патриотично настроенные интеллектуалы – социал-демократы, такие как экономист С.Н. Прокопович и его жена Е.Д Кускова, Максим Горький. На этом совещании не выработали политической позиции, приемлемой для всех участников. Не достигли единства даже по таким вопросам, как одобрение военных кредитов в Думе. Раскол в социал-демократическом движении не вызвал, однако, разногласий в вопросе отношения к царскому правительству. Все социал-демократы, как и социалисты-революционеры, считали неизбежной последовательную и решительную борьбу против царизма. Различия состояли лишь в тактике и времени выступлений.
Умеренные социалисты доказывали, что победа прусского милитаризма была бы гибельной для политической борьбы пролетариата. Они призывали рабочих воспользоваться военным временем для политической самоорганизации. Умеренные осуждали агитацию за немедленное революционное действие во время войны как бессмысленное «вспышкопускательство». Такой безрассудный курс привел бы только к неоправданным жертвам и поставил бы под угрозу шансы на успешное выступление по окончании войны, в период демобилизации. Такие взгляды находили поддержку даже у некоторых большевиков.
Однако всегда существовало твердое ядро социал-демократов (как большевиков, так и меньшевиков), которые, выполняя инструкции из-за рубежа Ленина (Ульянова) и Мартова (Цедербаума)[27], продолжали занимать непримиримую позицию в отношении войны. Они осуждали работу на заводах по производству боеприпасов как «предательство дела пролетариата» и требовали немедленного революционного действия, независимо от шансов на успех и возможных последствий для боевых действий на фронте.
Когда летом 1915 года организаторы ВПК предложили, чтобы рабочие сформировали специальные рабочие группы при ВПК, представители двух течений рабочего движения отнеслись к этому предложению с диаметрально противоположных позиций. Большевики и другие пораженческие группировки социалистов (эсеры-максималисты, меньшевики-интернационалисты, Межрайонная группа в Петрограде и другие) решительно выступили против выборов в эти рабочие группы. Они обвиняли умеренных, выступавших за выборы в рабочие группы, в том, что они стали лакеями империализма и помогали капиталистам, наживавшимся на войне, эксплуатировать рабочих военной промышленности. В то же время большинство умеренных – или «ликвидаторов» (то есть тех социал-демократов, которые отстаивали скорее легальные, чем нелегальные методы борьбы) – соблазнились возможностями организации профсоюзов на широкой основе с молчаливого согласия и поддержки промышленников. Гучков и другие политически мыслящие промышленники предлагали блестящие перспективы будущему организованному рабочему движению в России. Они высказывались за созыв Всероссийского съезда представителей рабочего класса в целом. Съезд избрал бы Всероссийский союз рабочих, который во взаимодействии с другими самодеятельными организациями смог бы отобрать власть в стране у дискредитированной самодержавной бюрократии. Поддержку, предложенную Гучковым, Коноваловым и Терещенко, рабочие группы приветствовали, хотя и осознавали потенциальные опасности. Тред-юнионизм мог обеспечить легальную основу ненасильственной борьбы за чисто экономические цели, то есть за улучшение жизни и условий работы трудящихся. Однако тред-юнионизм в качестве основной формы политической организации рабочего класса напрочь отвергался большевиками и, особенно, Лениным, которые всегда осуждали его как измену делу революции, считая последнюю единственным способом разрешения социальных проблем. Большевики и другие радикальные революционеры сравнивали тред-юнионизм, особенно в форме предусмотренной «господами Гучковым, Коноваловым и компанией», с субсидируемыми полицией рабочими организациями (их создавал скандально известный Зубатов в годы, предшествовавшие революции 1905 года).
Радикалы обрушились на идею создания рабочих групп еще раньше, чем она была претворена в жизнь. Первое собрание, созванное 29 сентября 1915 года в Петрограде для избрания представителей в рабочие группы, не удалось. Оно решило прекратить выборы в Центральный ВПК и провинциальные комитеты. Присутствовавший на собрании К. Гвоздев (Масон, сидел в лагерях в 1931–1956 годах, дальнейшая судьба не известна. – Ред.), делегат меньшевиков от мастерских Эриксона, возмущался в газетах левого направления якобы плохой организацией собрания. Его возмущение поддержал Центральный ВПК. 29 ноября провели другое собрание, и на этот раз избрали в Центральный ВПК меньшевиков и эсеров (всего 10 человек, среди которых оказался Гвоздев и полицейский агент Абросимов). На этом же собрании были избраны в Петроградский провинциальный комитет шесть представителей, по три от меньшевиков и эсеров.
Через два дня после избрания комитета Петроградский комитет большевиков выпустил листовку, обращенную «ко всем петербургским пролетариям», которая начиналась словами: «Товарищи, измена свершилась. 29 ноября под руководством Гучкова, господина Гвоздева и компании разыграна комедия выборов представителей петербургского пролетариата в Центральный и Петербургский военно-промышленные комитеты. Горстка предателей и ренегатов, действуя за спинами рабочих, пошла на сомнительную сделку с буржуазией. Она променяла классовую непримиримость и интернациональную солидарность пролетариата на возможность развалиться в мягких и удобных креслах офисов Военно-промышленных комитетов, действующих под председательством Гучкова, приспешника Столыпина, оправдывавшего в 1906 году суды революционеров военными трибуналами…»[28].
Кузьме Гвоздеву, лидеру рабочей группы Центрального ВПК в Петрограде, приходилось «сражаться на двух фронтах». С одной стороны, ему нужно было оказывать давление на предпринимателей для защиты интересов рабочих – как в самом комитете, так и в Особых совещаниях по обороне, где были представлены ВПК. С другой стороны, ему приходилось отбивать нападки большевиков и успокаивать колеблющихся рабочих, избравших его в рабочую группу.
Чтобы дать отпор радикалам, Гвоздев и его соратники выработали наставление, констатировавшее политические принципы, согласно которым представители рабочей группы при Центральном ВПК должны были действовать. Это наставление, а также ряд резолюций, принятых на собрании избирателей 29 ноября, отражали противоречивость позиции Гвоздева и рассматривались Департаментом полиции как доказательство негласного пораженчества и политической диверсии. Полицейский доклад[29] приводит цитату из наставления.
«Безответственное правительство России, ввязавшись в эту войну, в то же время продолжает беспощадную войну против собственного народа, подводя страну, таким образом, к грани поражения. Мы заявляем, что это безответственное правительство виновно во всех военных невзгодах, но мы также считаем необходимым заявить, что часть ответственности за это падает на Государственную думу и политические партии, составляющие ее большинство, которые целый год оказывали поддержку режиму военной диктатуры и скрывали правду от народа…
Поэтому мы считаем первейшей задачей… созыв конституционной ассамблеи на основе всеобщего… избирательного права; немедленное предоставление всех гражданских свобод (слова, собраний, печати и объединений); равно как отмену всякой национальной дискриминации; предоставление права на самоопределение всем нациям, населяющим Россию; немедленное проведение новых выборов во все городские и земские учреждения на основе формулы из четырех пунктов (то есть всеобщее и равное избирательное право, прямое и тайное голосование); введение всеобъемлющего социального законодательства, 8-часового рабочего дня, передачу помещичьей земли крестьянам, немедленную амнистию всех, кто преследовались по политическим или религиозным убеждениям.
Добиваясь этих требований, рабочий класс, как всегда, поддержит любое реальное усилие буржуазных кругов в направлении постепенного освобождения страны, но будет неустанно подвергать остракизму всякую половинчатость, отсутствие решимости, соглашательство с либералами и будет побуждать эти круги бороться с режимом с большей решимостью».
В соответствии с этим наставлением вновь избранные члены рабочей группы при Центральном ВПК выступили 3 декабря 1915 года с заявлением, которое цитируется в том же полицейском докладе:
«Учитывая нынешнюю ситуацию в стране и потребности ее обороны… и считая единственным выходом… полный разрыв с существующим режимом, рабочий класс сейчас не может, не обманывая себя и народ, взять на себя ответственность за оборону страны. Не могут рабочие взять на себя также ответственность за работу Центрального ВПК, который, по сути, является организацией буржуазных индивидуалистов. Если тем не менее мы все-таки решили участвовать в работе ВПК, то только потому, что считали своим долгом использовать подобные учреждения для продвижения своих взглядов относительно потребностей страны и средств ее спасения от гибели; а также защищать интересы рабочих путем противодействия всем попыткам лишить их завоеваний, помочь организации рабочих всеми возможными способами»[30].
Полицейский доклад придает большое значение последнему обстоятельству, именно организации рабочего движения рабочими группами при Центральном ВПК. В докладе подчеркивалось, что ВПК обеспечивал рабочих средствами самоорганизации. За счет комитета им предоставлялись две комнаты и телефонная связь. Меньшевика Богданова назначили секретарем рабочей группы с окладом в 250 рублей в месяц. Другие денежные суммы тратились на содержание помощника секретаря, двух клерков, на дорожные расходы, компенсацию потерь в оплате членов рабочей группы и создание небольших фондов при офисах.
Сформированная таким образом рабочая группа сразу же начала кампанию за созыв Всероссийского съезда рабочих. Эту кампанию поддерживал Центральный ВПК. Члены рабочей группы, казалось, не особенно выражали благодарность руководству ВПК за необыкновенную щедрость. Сообщается, что один из них заявил на заседании Центрального ВПК:
«Совершенно очевидно, что, создав Центральный ВПК, представители промышленности преследуют сейчас три цели: внести свой вклад в оборону страны, постепенно захватить всю власть и, наконец, обогатиться. Все это чуждо интересам рабочего класса. Поэтому мы просим разрешения заниматься в качестве представителей рабочего класса организацией рабочих и удовлетворением их нужд»[31].
Несмотря на это, лидеры ВПК продолжали поддерживать организационную и пропагандистскую деятельность рабочей группы Гвоздева. 4 января 1916 года заместитель председателя Центрального ВПК Коновалов просил министра внутренних дел дать разрешение рабочей группе организовать собрания рабочих. Министр отказал.
Департамент полиции относился к рабочим группам подозрительно и считал их попытки заниматься организацией рабочего движения и выступать в защиту его классовых интересов несовместимыми с первоначальной хартией ВПК, одобренной Советом министров в августе 1915 года. Некоторые промышленники (например, заместитель председателя Московского провинциального ВПК Третьяков) также противились формированию рабочих групп и их претензиям защищать интересы рабочего класса Однако энергичное вмешательство руководителя Московской рабочей группы Черегородцева, поддержанное Коноваловым, обеспечило формирование Московской рабочей группы на тех же основаниях, что и Петроградской. В других провинциальных городах (исключая Киев) попытки провести выборы рабочих представителей в ВПК провалились. Это случилось главным образом потому, что на собраниях избирателей принимались резолюции откровенно революционного характера. Так, в докладах полиции цитируется резолюция собрания избирателей в Самаре от 26 февраля 1916 года. Она гласила:
«Мы вступаем в ВПК не для того, чтобы производить пушки, убивающие наших немецких товарищей, – мы считаем это пагубным для себя и наших братьев по оружию, воюющих с нами. Вот почему войну следует прекратить без аннексий и контрибуций. Вот наши требования: 1) государственное страхование рабочих; 2) конфискация и распределение среди крестьян всей земли, принадлежащей царской короне и помещикам; 3) отделение церкви от государства; 4) 8-часовой рабочий день; 5) свобода забастовок и организации профсоюзов; свобода печати и неприкосновенность личности; 6) всеобщая амнистия; 7) демократическая республика»[32].
Как видим, полиция была полностью осведомлена о пораженческих настроениях и подрывных действиях среди рабочих, которых Гучков пытался привлечь к участию в ВПК. Позднее мы покажем, что полиция через своего агента в рабочей группе при Центральном ВПК Абросимова насаждала и поощряла распространение пораженчества и подрывных настроений среди рабочих[33]. Полиция, возможно, относилась терпимо к этой пропаганде в соответствии с планом МВД, направленным на компрометацию и в дальнейшем судебное преследование не только членов рабочих групп при ВПК, но также тех, кто вовлекал рабочих в эти группы. Решительные меры против ВПК пришлось, однако, отложить в связи с неизбежным окончанием войны. ВПК пережили время, когда они еще были полезны.


