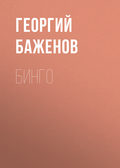Георгий Баженов
Ловушка для Адама и Евы (сборник)
В первый раз она подумала о его любви к ней не с раздражением, а с благодарным удивлением и даже некоторой завистью.
– Давай поужинаем здесь? – предложил Петр. – Посидим, осмотримся. Представим, как у нас тут будет все скоро…
– А можно?
– А почему нет? Ресторан открыт, зал работает.
Они сели за столик не рядом с пальмами, а в самом углу, чтобы был побольше угол обзора. Алена чувствовала в себе некоторую взволнованность, что-то неясное, тревожное бродило в ней, и она сама не могла бы сказать, что именно, какие именно это были чувства – радость или напряжение, сумбурное ожидание непонятно чего или просто душевная смута…
– Угости меня, пожалуйста, шампанским, – попросила Алена.
– О, шампанского, сколько только душа пожелает! – обрадовался Петр.
Он видел, что с ней что-то происходит, глаза ее сияли, и хотя сияние это было лихорадочным, а взгляд рассеянным, он радовался этому. Алена словно пробудилась от спячки, и это было так непохоже на нее за последнее время, когда они бывали вместе.
От шампанского она начала тихонько смеяться. Возьмет бокал, посмотрит сквозь него на свет, сотни пузырьков трепетно полыхают в пенящемся огне шампанского, сделает два-три глотка, снова смотрит, а потом начинает смеяться – легко, весело, но со странным надрывом, который нет-нет да и прорвется сквозь смех.
В этот вечер Алена выпила шампанского несколько бокалов. Никогда прежде она не выпивала столько.
– А где ты меня посадишь? Где я буду сидеть? Вон там? – Она показала рукой за перильца площадки, которая несколько возвышалась над залом. Там же, на площадке, росли и пальмы.
– Если хочешь, конечно. Поставим там длинный стол, а потом…
– Погоди. Я буду сидеть там, хорошо. Я буду в белом-белом платье. А мне можно заплакать?
– Раньше даже обычай был – невеста всегда плакала.
– Правда? А почему она плакала?
– Ну, прощалась с юностью. С родителями. С матерью. С беззаботной жизнью.
– Вот и я буду прощаться… Я заплачу – ты не обидишься? Не подумаешь, что я дура? Что я маленькая? Все меня считают глупой. Маленькой. И ты.
– Я? Нет. Ты взрослая. И умная. И я люблю тебя.
– Неужели ты в самом деле любишь меня?
– Ты сомневаешься?
– Ах, Петр, Петр… Не пойму я, никак не пойму, что это такое – любовь?.. Только молчи, не говори мне ничего… про родство там, еще про что-нибудь… не надо… Я не понимаю, не понимаю, что такое любовь!
– Поймешь.
– Ты думаешь?
– Уверен. Любовь от одного переливается в другого, от другого – в третьего. И так вечно. Вечная цепь любви.
– Ух ты, Петруша, матрос ты мой, поэт и философ, как ты красиво говоришь! Прямо заслушаться можно.
Он не обращал внимания на иронию и насмешливость тона, она просто оборонялась, хотя сама не знала – от чего. Какая-то преграда ощущалась в ней самой, внутри, которую она не могла преодолеть, и вот наступала на других… Или оборонялась? И то, и другое вместе.
– Может, хватит на сегодня шампанского? – осторожно спросил он.
– Шампанского? Конечно, хватит. Хотя нет. Почему бы нам не погулять сегодня? Ты что? Ты против?
– Я не против. Просто тебе плохо будет.
– А может, я хочу, чтобы мне плохо было? Хотя вру. Ничего мне не хочется. Ты можешь меня покатать на такси?
– Конечно.
– А почему ты меня редко приглашаешь к себе? Ты меня боишься, да?
Петр удивленно рассмеялся.
– Тебя? Боюсь? Да ты что, глупенькая!.. Просто неуютно там. Голо. Вот приедем в Мурманск, в мою родную однокомнатную… Вот там и заживем…
– Ты что, в самом деле уверен, что в Мурманске нам будет хорошо? А вдруг я задохнусь от тоски?
– От тоски люди задыхаются здесь. А там – никогда.
– Почему это?
– Да там жизнь, понимаешь? Некогда скучать и ныть. Жизнь и работа. Там совсем другое дело.
– Тебя послушать – там прямо рай небесный. На самом деле все так же, как здесь. Я уверена. И жизнь, и люди везде одинаковы. Планета-то одна – Земля.
– Что спорить? Приедем – посмотрим. Ты еще сама будешь смеяться над своей уверенностью.
Когда они сели в такси и помчались по вечерней Москве, Алену быстро укачало, и, склонившись на плечо Петра, она тихо задремала. Петр сидел не шелохнувшись, боясь неосторожным движением потревожить сон Алены. В эти секунды он испытывал к ней ни с чем не сравнимую нежность и готов был сделать для нее все что угодно, лишь бы была нужда в его жертвенности…
– Я хочу к тебе, – сквозь дрему пробормотала Алена, когда машину встряхнуло на одном из поворотов.
– Мы едем ко мне, – успокоил Петр.
И она опять спала на его плече, а он сидел не шевелясь, в неудобной для себя позе, только бы ей было хорошо и покойно.
Когда приехали, Алена первым делом пошла в ванную – ей и в самом деле стало плохо, как и предрекал Петр. Она долго лежала в горячей воде, иногда, правда, вставала, окатывала себя холодным, чуть не ледяным душем, а потом снова ныряла в кипяток – после душа ощущение от горячей воды было именно такое – кипяток. Лежала, полузакрыв глаза, почти дремала, грезилось что-то хорошее, южное, томно-жаркое… У Петра был прекрасный шведский шампунь (вообще нужно сказать, что разных туалетных мыл, шампуней, лосьонов, пахучих одеколонов и всевозможных кремов в ванной было больше чем достаточно), Алена долго, с наслаждением мыла голову шампунем, он пах нежной хвоей, а от него – вот странно – веяло даже прохладой. Алена ныряла с головой в ванну, раскрасневшаяся, распаренная, умиротворенная, потом выныривала, весело отфыркивалась, брала в руки изящный по форме – в виде индийского кувшина – флакон, поливала на голову густую искрящуюся зелень шампуня, и вскоре ее тугое розовое тело скрывалось в пенистой изумрудной массе, а потом Алена опять ныряла в ванну, и опять отфыркивалась, и даже иногда смеялась тихим счастливым смехом…
Из ванной она вышла ослабевшая, с горящими розовостью щеками, в повязанной на голове голубой косынке; поверх рубашки надела длинный, до пола, махровый халат Петра – мягкий, удобный; закуталась в него, как в тогу, стояла перед Петром, улыбаясь.
– С легким паром! – сказал он и осторожно приобнял Алену.
– Спасибо.
– А я кофе сварил.
– Ох, лучше бы чаю… – Она в изнеможении опустилась на диван, прикрыла глаза; на лбу у нее и на подбородке поблескивали росинки влаги.
– У меня индийский есть. Сейчас вмиг заварим, – успокоил Петр.
– Не знаю почему, – сказала она, открыв глаза и улыбнувшись Петру, – но я чай люблю больше. Особенно после ванны. Хочется пить долго, много… Никуда не спешить, ни о чем не думать, просто сидеть, пить, наслаждаться…
– Сейчас, сейчас…
Петр вновь заколдовал на кухне над газовой плитой, а Алена, томным движением руки потянувшись к магнитофону, нажала на черную блестящую клавишу. Запел Элвис Пресли. Все пластинки, несметное число которых Петр подарил Алене, были у него переписаны на магнитофон, так что и здесь, у Петра, и там, дома, у Алены, звучала одна и та же музыка, Алене это нравилось, нравилось и Петру, – музыка была тем первым, о чем они заговорили тогда, три года назад, когда познакомились в парке культуры и отдыха.
Слушая музыку, наслаждаясь покоем, теплом и уютом глубокого мягкого дивана (о эти глубокие старинные диваны!), Алена пододвинула к себе телефон, набрала номер.
– Мама, добрый вечер. Ты одна?
– Нет, с папой. А что такое? Ты где?
– Я у Петра. Передай, пожалуйста, папе, сегодня я останусь здесь.
– Да, но…
– Понимаешь, я очень устала. Только что помылась в ванной. Не ехать же домой на ночь глядя. С мокрой головой. По всему городу…
– Конечно, конечно, но…
– У меня все хорошо. Не беспокойтесь.
– Алена, извини, с тобой хочет поговорить папа…
– Ну, что еще?
– Добрый вечер, дочка. Что случилось?
– Ничего не случилось. Мы ездили с Петром в «Прагу», смотрели зал, где будет наша свадьба. Потом заехали к нему. Я очень устала, помылась у Петра. Сижу вот мокрая, в халате, сейчас будем пить чай… Я останусь сегодня здесь.
– Конечно, конечно. О чем разговор. Правильно сделала, что позвонила.
– Ну, до свиданья, да? – спросила Алена.
– Как там Петр? Ты не можешь позвать его к телефону?
– Он занят, готовит на кухне ужин.
– Та-ак… Ну хорошо… Тогда передай Петру: я ему верю, как сыну.
– К чему такой высокий слог?
– Я тебя прошу – передай.
– Хорошо, передам.
– Вообще-то ты могла и домой приехать.
– Распаренная? С мокрой головой? Чтоб простыть и слечь?
– Можно было и дома помыться…
– Папа, в конце концов я выхожу замуж или готовлюсь в монастырь?
– Не груби, не груби отцу. Молода еще! Позови-ка лучше Петра.
– Говорю тебе, он занят.
– Та-ак… Ну что ж. Не забудь передать ему: я верю в него, как в сына.
– Передам. До свиданья!
Через некоторое время из кухни с подносом в руках вышел Петр. Легким парком дымился фарфоровый заварной чайник. На блюдцах с золотой каймой две тонкие, почти прозрачные, тоже фарфоровые чашки. Сахарница с витой дужкой. Серебряные ложечки. Тонко порезанный хлеб. Сочащиеся ломтики сервелата. Все изящно, со вкусом.
Поднос Петр поставил на круглый стол, который стоял перед диваном. И стол, и диван, и массивным платяной шкаф, и громоздкий неуклюжий буфет – все, конечно, дисгармонировало с изящной сервировкой подноса, однако в этом была и своя прелесть. Прелесть в смешении вкусов и стилей.
– Кому это ты звонила? – спросил Петр, ставя перед Аленой чашку с блюдцем.
– Родителям. Тебе, кстати, большой привет от них.
– Спасибо.
– Папа велел передать: он верит в тебя, как в сына.
– Еще раз спасибо.
Алена говорила несколько насмешливо, а Петр отвечал вполне серьезно.
– Между прочим, я сказала им, что сегодня остаюсь у тебя.
Петр внимательно посмотрел на Алену.
– Ты хочешь остаться у меня?
– А что, разве нельзя?
– Нет, почему? Конечно, можно, но… Ты ведь никогда раньше не оставалась.
– А сегодня останусь.
– Да, но Григорий Александрович… Людмила Ивановна…
– Григорий Александрович верит тебе, как сыну. Это тебя успокаивает?
– Не пойму: ты шутишь или серьезно?
– Господи, я устала. Я помылась. Я хочу чаю. Ну что еще нужно сделать, чтобы мне перестали задавать идиотские вопросы?
– Ну, хорошо, хорошо, не злись… Тебе покрепче?
– Да. Самого крепкого.
Когда он разливал чай, она воскликнула:
– Как вкусно пахнет! Какой аромат, Боже!
Петр улыбнулся.
– Знаешь, где я научился заваривать чай? В Индии.
– A-а, в той стране, где ты засматривался на женщин?
– Не засматривался. Любовался.
– Ну, это одно и то же! – Она погрозила ему пальцем. – Ох, Петруша, куда я ныряю, в какой омут… Смотри!
Отчего-то они оба рассмеялись, хотя ничего смешного, кажется, сказано не было.
Чай пили долго, с удовольствием, смакуя его терпкий вкус; при этом Петр каждый раз добавлял в чашку немного кипяченого молока – вкус чая получался ни с чем не сравнимый; не только вкус, но и запах, и цвет, и аромат – все было необычным, душистым, по-особенному сладостным.
Алена искренне блаженствовала.
– Знаешь, – говорила она, – когда ты будешь приходить из плаваний, ты мне всегда будешь заваривать такой чай.
– Хорошо. Всегда. Обещаю.
– Смотри! – И опять она грозила пальцем.
Вскоре, несмотря на круто заваренный чай, Алена начала клевать носом. Петру это показалось очень трогательным. Только что смеялась, столько чаю крепкого выпила – и надо же, засыпает прямо за столом.
– Ты пересядь вот сюда, на стул. А я пока на диване постелю…
Она кивнула; с полузакрытыми глазами пересела на стул, при этом толкнула стол, так что чашки едва не скатились на пол; если б Петр их вовремя не поддержал, быть бы фарфору мелкими осколками (изысканную эту посуду Петр всегда возил с собой)…
– Ложись.
Не раздеваясь, в халате, Алена юркнула под одеяло, натянула его до подбородка и, казалось, тотчас уснула.
Петр включил торшер, выключил большой свет и некоторое время просто сидел на стуле, смотрел на Алену, чуть-чуть улыбаясь краешками губ. Потом отнес посуду на кухню, осторожно, чтоб особенно не шуметь водой, помыл ее, разложил в сушке над мойкой. Не забыл взять тряпку, сходить в комнату и протереть стол. Что еще?
В коридоре, напротив входной двери, хозяева квартиры сделали когда-то небольшую антресоль. Среди многих вещей там хранилась и раскладушка. Умывшись, почистив на ночь зубы, Петр осторожно высвободил раскладушку из антресоли и, стараясь не скрипеть пружинами и не бряцать крючками, начал устанавливать раскладушку. Причем не в комнате, а на кухне.
– Ты что там? – пробормотала Алена.
– Спи, спи… – успокоил ее Петр.
– Ты хочешь на раскладушке? – Она приподнялась на диване.
– Да, да. Спи… – прошептал он, продолжая устраивать себе постель.
– Я так не хочу, – сказала Алена. – Я же приехала к тебе, а ты… Подойди ко мне.
Он какое-то время колебался, потом подошел.
– Сядь рядом, – сказала она.
Он сел. Она протянула к нему руку.
– Знаешь, я ничего не знаю… Я не понимаю ничего… Но почему ты не хочешь со мной? Наверное, это очень глупо со стороны…
– Но ведь мы еще…
– Если ты не будешь со мной, я тебя возненавижу. Ведь я осталась у тебя… Все решено…
– Алена, скоро свадьба. Зачем нам…
– Вот именно – скоро свадьба. Какая разница… Ведь ты же не сбежишь никуда?
– Ну что ты…
– Ну вот видишь.
– Но твои родители… Они верят мне.
– Как они узнают?
– Я так не могу. Ты потом поймешь все.
– В конце концов это просто оскорбительно…
– Глупая. Наоборот.
– Тогда я сейчас уеду. Да, да! Вызови мне такси. Я уеду!
– Ну к чему эти глупости…
– Да пойми ты! Я ничего не знаю в этих вещах… Но просто-то ты можешь побыть со мной? Мне страшно.
– Просто у нас не получится.
– Ты холодный, безжалостный индюк! Хоть бы пожалел меня. Сидишь тут… Мне страшно! Я что, не такая какая-нибудь?
– Ты лучше всех!
– Ты просто успокаиваешь меня.
– Зачем? Я люблю тебя! Ты самая лучшая. Самая любимая…
…Потом, когда она уснула, Петр долго лежал рядом, не в силах побороть в себе страшную тоску, которая нежданно-негаданно навалилась на него. Пять лет назад бросивший курить, он ощутил непереносимое жжение в груди, изнуряющую сухость во рту – так сильно хотелось закурить, какого-нибудь самосада бы сейчас, покрепче, хотя бы одну затяжку… Он не понимал, что с ним такое. А тоска давила и давила сердце, она была сродни ощущению, когда редко-редко, но все-таки наваливалась бездонная мысль: вот умру когда-нибудь – и меня никогда, никогда, никогда не будет… И когда мысль хотела пробраться в это «никогда», постичь его, охватить разом, вот тогда и обливалась душа сильнейшей, ни с чем не сравнимой тоской – дыхание схватывало… И вот сейчас опять… Но почему же сейчас?.. Он лежал, боясь сделать малейшее движение, чтобы не разбудить Алену, и в то же время все существо его было за тысячи миль отсюда, душа и мысли улетали далеко, и даль эта устрашала, напоминала бездну, в которую придется-таки провалиться, но как же так… почему… за что… и неужели никогда больше?.. Никогда!
Он ничего не понимал в себе.
И когда стало совсем невмоготу, он не встал, а как бы скатился с дивана, сделав полный оборот, спружинил на руках на коврик, который лежал у дивана, и, не просто боясь, а страшась, как бы Алена в самом деле не проснулась, тихотихо подкрался к стулу, где лежала его одежда, натянул брюки, майку, рубашку, а потом на цыпочках, босой прокрался на кухню. Там, в шкафу, в дальнем углу, среди прочих иностранных сигарет, он хранил на всякий случай обыкновенную пачку «Примы», которую не просто курил когда-то, а обожествлял. За крепость. За простоту. За то, что пробирала до самых печенок: уж жгла нутро, так жгла – без дураков.
Подержал пачку в руках. Распечатал. Достал сигарету. Сунул в рот. Ну что? Ну и черт с ним! Чиркнул спичкой…
И как только сделал первую затяжку, так сразу сделалось легче. Будто ком какой-то проскочил внутри.
Он прикрыл кухонную дверь и, с жадностью, глубоко затягиваясь, начал ходить по кухне из угла в угол. Если бы он мог увидеть себя со стороны, то заметил бы, как играли на его лице желваки. Такое происходило с ним всегда, когда он не мог понять себя, собственное состояние, – тоска и злость. Чего только не бывает с человеком, но самое странное – что очень часто он сам не в силах объяснить собственное состояние…
Ну, что с ним?
Петр скомкал сигарету, выбросил в ведро, закурил новую.
Такое же состояние, помнится, охватило его однажды на танкере. Вышли из Бомбея в открытые воды – сначала в Аравийское море, затем в Индийский океан… Тогда Петр очнулся среди ночи в каюте со странной тоской в груди, тоска давила, душила, даже дышалось трудно. До утренней вахты оставалось часа четыре, но Петр не мог больше спать, вышел из каюты в надежде сбросить с себя наваждение. Ночная гладь океана была устрашающа; горячие крупные звезды, перевернутый, опрокинутый ковш Большой Медведицы, ни шороха, ни всплеска на много миль вокруг, пустынность, кромешная тьма и дыхание бездонного, безграничного океана. Петру стало страшно, хотя он мало чего боялся в жизни, во всяком случае моря не боялся никогда.
Ему стало страшно не чего-то, а вообще страшно – почувствовал себя маленькой, затерянной песчинкой в безмерном море, в кромешной тьме, в бесконечности времени и пространства. Он вернулся в каюту, закрыл дверь на запор, хотя закрываться на танкере обычно не принято, – мало ли что может с каждым случиться, – закурил, как всегда, крепкую «Приму» и начал метаться по каюте, из угла в угол. Обостренным чутьем он как бы улавливал в воздухе какую-то тревожность, даже трагичность, которая в эти минуты совершается в жизни – в его личной жизни, а не в жизни всеобщей, тоска не на шутку гнула его, корежила душу, но понять или осознать нельзя было ничего.
От тоски этой он в ту ночь чуть с ума не сошел.
И только позже, когда пришвартовались в родном Мурманске, он кое-что понял в своих муках.
В ту ночь, когда душила его тоска, – он высчитал это, – именно в ту ночь ушла от него жена. Она не просто ушла, а ушла к лучшему его другу – Коляне. И его, и ее он навсегда выжег из своей жизни, но что от этого изменилось? Предательство осталось предательством.
Неужели есть сила в мире, какая-то стихия в пространстве, которая пронзила огромное расстояние, втекла в жилы Петра, встряхнула его, навалилась тоской, подняла с кровати, заставила бродить по ночной палубе танкера, курить сигарету за сигаретой?!
Что это было такое? Что подняло его тогда, что толкнуло в те минуты в каюте?
Вот и теперь Петр мерил шагами кухню, дымил «Примой», играл желваками, и душила его похожая тоска. Но как же так? Откуда сейчас-то эта тоска? Отчего? Ну, тогда – ладно, было предательство, предали, растоптали, в самое сердце ударили, а теперь-то? Теперь-то в чем дело?
Петр ничего не понимал.
Может быть, сегодня, сейчас не кто-то иной, а он сам совершил предательство? Но какое? Алена его невеста, совсем скоро станет женой, он знал твердо – никогда не бросит ее, тем более теперь, когда она так наивно, хотя и достаточно настойчиво (он слегка улыбнулся) доверилась ему (вот странно-то!), – да разве он посмеет после этого сделать что-нибудь плохое по отношению к Алене?! Да никогда в жизни!
И тем не менее – тоска.
Такая тоска…
И что-то не то… Не то…
Он пытался разобраться в себе, определить первопричину, докопаться до сути… Ну да, конечно, была, была в нем мечта – заветная мечта! – хоть для одного человека в жизни оказаться святым! Он думал – всё и все погрязли в грехе, жизнь заполнена ложью, предательством, лицемерием, и ему хотелось хотя бы раз, хотя бы однажды в жизни оказаться для другого человека непорочным, чистым. Была у него жена, были женщины, но на Алену – за все три года знакомства – он никогда не посягал, не приставал к ней, если уж говорить на языке мужчин. И не потому, что она не нравилась ему, не потому, что не было желания, – и нравилась, и желание было, – но просто хотел хоть одного человека ни в чем не разочаровывать и ни в чем не разубеждать. Пусть она знает, что есть на белом свете и такие мужчины, как Петр, – честные и бескорыстные, есть правда, есть любовь, нежность, забота, многотерпение, и тогда наверняка она ответит ему тем же; воспитание – не в словах, а в поступках, в действии, и он знал, что пока не совершил ни одного неправильного шага по отношению к Алене, – разве это не зачтется ему? Не зачтется в будущей семейной жизни? Разве счастье – это не плод двоих? Разве это не усилие? Разве не кропотливая работа души?
Но откуда же тогда сегодняшняя тоска?
Отчего?
Ведь она такая же, точно такая, как тогда, на танкере… кромешная ночь, горячие звезды, устрашающее молчание океана… Какая была тогда тоска!
Неужто и сегодня свершилось какое-нибудь предательство?
Через два дня позвонил Алексей.
– Я уж думала, вдруг не позвонишь… – с некоторым упреком в голосе попеняла Алена. – Неужто ты такой занятый, что даже пять минут не можешь для меня выделить?
– Для тебя нужна вся жизнь. А что такое пять минут?
– Ой, не болтай! Знаю я тебя… Все-таки, ей-богу, ты не похож по разговору на простого сантехника из домоуправления.
– Сантехник – это для отвода глаз. Я же говорил тебе: по натуре я художник, в душе – артист, а в жизни – слесарь. Всего-навсего.
– Если бы ты знал, как мне хочется взглянуть на тебя. Хотя бы краешком глаза.
– Я же тебе говорил – приставать буду.
– Ну и что?
– Как что? – удивился Алексей. – Я знаешь какой горячий мужик? Меня можно в печь вместо дров класть – моментально вспыхиваю.
– Ой, испугал!..
– И вообще запомни – у нас с тобой роман телефонный. Я на тебе остроумие оттачиваю. Ум упражняю…
– Значит, я для тебя что-то вроде подопытного кролика?
– Что-то вроде.
– Да, вежливостью ты не отличаешься.
– Какой есть.
– Ну скажи хотя бы, выходить мне замуж?
– Выходить. Обязательно. Лично тебе – пора. А то ты вон как на незнакомых мужиков бросаешься.
– А зачем выходить?
– Станешь женщиной – поймешь.
– Ой, женщиной! Ну и что в этом хорошего? Я уже женщина – дальше что?
– Врешь ведь?
– He-к. Если хочешь знать, я и женщиной-то стала из-за тебя.
– Ну, ты мне эти дела не шей, – строго, но шутливым тоном проговорил Алексей.
– Я серьезно.
– Слушай, ты потом и рожать станешь. Опять я виноват буду?
– Ты.
– Да ты что?! Ты эти фокусы брось, детка!
– А помнишь, ты мне говорил – у тебя принцип.
– У меня много принципов. О каком именно речь?
– Ты сказал: у меня принцип – с девушками не встречаться.
– Да, есть такой принцип.
– Ну вот. Я и решила: все равно скоро свадьба, бояться нечего. Я ночевала у жениха.
– Поздравляю. Но что из этого?
– Как что, глупый? Теперь ты можешь со мной встретиться.
– В каком смысле?
– В любом. Теперь ты можешь не бояться меня.
– Я тебя и так никогда не боялся.
– А ты говорил – боишься. Твои слова: «Не люблю я с вашим братом возиться. Это такая морока – не приведи Господь»?
– Слушай, ты как прокурор… Твои слова, ваши слова, наши слова… Ты их на магнитофон, что ли, записываешь?
– Да ты пойми, мне ничего не нужно от тебя. Просто хочу увидеть тебя. Посмотреть, какой ты.
– Нет, ты определенно с приветом. Я этого не учел. Да какой я? Как все. Как тысячи других.
– Нет, ты не такой. Я по голосу слышу. По словам угадываю. Ты ни на кого не похож. Ты необыкновенный!
– Тебя определенно заносит. Девочка, ты вбила себе в голову Бог знает что…
– Да чего ты боишься? Я невеста, скоро выйду замуж. Я из-за тебя вон на что решилась, а ты…
– Слушай, ваши дела – это ваши дела.
– Да уж, конечно. Я из-за тебя у жениха осталась, а ты сразу в кусты.
– Нет, абсурд какой-то!
– Я знаешь что поняла: все равно ему изменять буду. Уж тогда лучше сразу.
– Сколько тебе лет? Извини, забыл.
– Двадцать.
– И в двадцать лет такая философия?
– Да нет у меня никакой философии. Просто я не люблю его. Жениха своего.
– Ого, вот это что-то новенькое. Не любишь – а замуж выходишь. Зачем?
– Чтоб от родителей уехать подальше. Нотации их надоели, нравоучения. Все хочу поменять! Всю жизнь разом!
– Жених-то знает, что ты его не любишь?
– Для него главное – чтоб он любил. Он, знаешь, не от мира сего. Святой. Но мне с ним скучно. Ску-у-учно! Понимаешь?
– Да, в хорошенькие санки ты впрягаешься.
– А я решила так: не понравится – разведусь. Сейчас все так делают. Жизнь изменить никогда не поздно.
– Тут ты ошибаешься. Изменить ее никогда нельзя. Она неизменяема. Сделал что-то – все, проехали. Вернуться вспять нельзя. Отрезано. Жизнь – это драма единственных поступков, на века.
– Алеша, глупый… Как ты не поймешь – я хочу увидеть тебя. Я о-оче-ень хочу увидеть тебя.
– Как ты себе это представляешь? Ну, нашу встречу?
– Да как… Просто увидеться – и все.
– Ну, где – на улице, в метро, на вокзале, у памятника, под часами? Я, знаешь, что-то отвык последнее время по подворотням прятаться…
– Алеша, у меня есть идея.
– Так, померкни солнце, замри пространство!
– Мы можем встретиться у моего жениха.
– О Боже! Сколько раундов меня ожидает? Семнадцать? По три минуты каждый? Или, может, по пять?
– Каких раундов?
– Ну, он же бить меня будет. Твой жених. Учить жизни. Семнадцать раундов по три минуты – почти час сплошных ударов молотом. Кстати, я слесарь, а не профессиональный боксер.
– Но его же там не будет. Ты что?!
– Спасибо. Ты заблаговременно отравишь его ядом гюрзы.
– Зачем? Я просто скажу ему, чтоб он приехал сюда.
– Куда?
– К родителям. А сама поеду к нему. У меня есть ключи от его квартиры.
– Все, вербую тебя в свою систему. Из тебя выйдет отличный агент. Кстати, если жених неожиданно вернется, куда ты меня прятать будешь?
– Да он никогда не вернется. Если я ему скажу: жди меня дома – он будет ждать, что бы ни случилось. Он верит мне, понимаешь?
– И тебе не жаль его? Не жаль разрушать его веру?
– А что я такого делаю?
– Ну, конечно, в наше время обманывать мужчину – это просто хороший тон.
– Да ни в чем я его не обманываю. Просто встречусь – и все.
– И не боишься, что я буду приставать?
– Не боюсь. Чего мне теперь бояться?
– Да я же страшный как тигр. У меня вместо рук – когтистые лапы, а сзади хвост. Три метра длиной…
– Опять ты за свое. Я с тобой серьезно…
– Слушай, а ты не можешь устроить так, чтобы я сначала с женихом познакомился? А потом уж с тобой?
– Зачем он тебе? Чудак, право.
– Он мне нравится.
– Ой, не смеши!
– Честное слово. Я хочу дружить с ним. Я хочу быть ему самым верным другом. Псом собачьим. Я буду служить ему, так он мне нравится.
– А хочешь, я тебя на свадьбу приглашу?
– Инкогнито или в качестве почетного гостя?
– Да как хочешь.
– Видишь ли, если я стану другом твоего жениха, то тебе несдобровать. А если стану твоим другом – несдобровать ему.
– Это нечестно. Ты мой друг. Это я с тобой познакомилась, а не он.
– Ах, до чего же это милая штука – телефон. Хоть бы нашелся какой-нибудь поэт – пропел ему оду! Каких только тайн не слышали телефонные уши! Чего только не вынесли они со времени своего создания!
– Алеша, ну хватит языком трепаться… Ну правда…
– Ась?
– Встречаемся мы или нет?
– Будь Гамлет жив, он бы ответил: на этом свете – не ведаю, а уж на том – встретимся всенепременно.
– Давай послезавтра. Тебя устраивает?
– Погоди, птичка, не спеши. Дай подумать…
– Завтра я сама не могу. Мы едем с женихом кое-какие покупки делать. А послезавтра с обеда я свободна. На работе меня отпустят, не беспокойся…
– А если ты разочаруешься во мне? Ты меня бить будешь? – Алексей усмехнулся. – Бить гантелями жениха?
– Да нет у него никаких гантелей. У него все барахло в Мурманске.
– Где? В Мурманске? Да там же моя сестра живет!
– Знаю. Галя. Которая рожает детей. И ждет мужа-моряка на берегу.
– О, ты опасный человек, Алена! Тебя надо остерегаться. Ты все знаешь, все помнишь. Нет, определенно тебе надо работать в агентуре.
– Значит, так. Послезавтра во время обеда ты звонишь мне на работу. Договорились? Ключи у меня будут в кармане. Об остальном я позабочусь сама. Да, запиши мой рабочий телефон. Диктую…
– Записал.
– Ну что, пока тогда?
– Пока.
И, уже почти положив трубку, Алена на всякий случай прокричала:
– Так позвонишь? Точно?
– Позвоню.
– Ой, Алеша, смотри! Не позвонишь – я в людей перестану верить.
– Зачем такие глубоко идущие выводы?
– Ты меня целуешь?
– Целую.
– То-то же! – Она рассмеялась и с легким сердцем положила трубку на рычаг.
С Петром происходило что-то непонятное, он помрачнел, посерьезнел, при разговоре отводил глаза в сторону: тайная тоска точила его. Первой заметила это Людмила Ивановна, мать Алены, и не просто заметила, а как бы подвинулась душой к Петру, всегда испытывая к нему внутреннюю симпатию. Самое себя, истинную и правдивую, она часто прятала в тайниках души, давно поняв, что с таким мужем, как Георгий Александрович, невозможно жить в открытую. Чем больше откроешься ему, тем больше будет подавлять тебя. Мужу важно, чтобы человек, который живет рядом, мерил жизнь теми же мерками, что и он; в этом он видел назначение мужчины, мужа, главы семьи. Твердые, жесткие люди – они живут для себя. Для них не существует чужих правил. Мягкие люди (вроде Петра) – те дают жить другим. Мягкие люди (вроде самой Людмилы Ивановны) позволяют другим людям не только жить, но и садиться себе на шею. Вот в чем чувствовала Людмила Ивановна тайное родство с Петром. Вот отчего замечала перемены в его внутреннем состоянии. Вот почему он был ей дорог.
– А вы знаете, как я выходила замуж? – спросила Людмила Ивановна Петра.
В квартире они были одни, Григорий Александрович последние дни пропадал в спорткомитете (скоро соревнования, а он работал тренером по тяжелой атлетике), а Алена, естественно, была на работе в райздравотделе. После работы она велела Петру ждать ее дома, у родителей.
Петр вопросительно взглянул на Людмилу Ивановну.
– Совсем не так выходила, как однажды рассказывал Григорий Александрович. Помните?
Петр не очень хорошо помнил, но кивнул.
– Он как-то рассказывал: мол, собрались в студенческом общежитии, стрельнули шампанским, дешевая закуска, танцы под пластинки…
– Да, да, помню… – Петр и в самом деле вспомнил рассказ Григория Александровича.
– Дело-то все в том, что… только, Петр, дайте слово, что никому не расскажете о нашем разговоре.
– Да, конечно, конечно, Людмила Ивановна. О чем речь…
Людмила Ивановна рассказывать не торопилась. Накрыла на стол, заварила свежий чай, поставила домашний кекс.
– Кушайте, Петр.
– Спасибо.
Людмила Ивановна и сама села за стол; лицо ее вдруг показалось Петру обновленным: схлынула вечная усталость, озабоченность, померкшие обычно глаза налились светом, в котором проскальзывали искринки неожиданного озорства.
– А не хотите по рюмочке, Петр? Кагора. Слабенького дамского напитка.
– По рюмочке можно. – Петру и самому сделалось легче, свободней рядом с Людмилой Ивановной – впервые он видел ее такой раскованной, естественной. Он даже улыбнулся.
– Та-ак, погуляем сегодня. Сегодня такой день, сегодня можно…
– А что за день? – снова улыбнулся Петр.
– Ох, не спешите, Петр. Все по порядку…