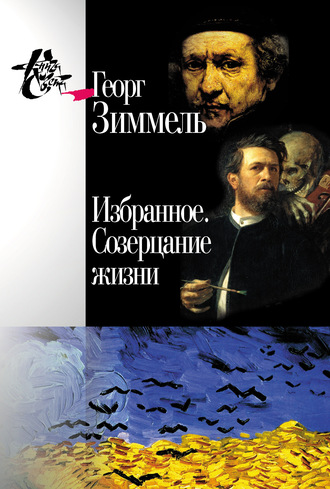
Георг Зиммель
Избранное. Созерцание жизни
Остается несомненным, что упомянутые сферы как целостности выходят из проживаемой человеческой жизни, в непосредственности которой они, правда, предстают в совершенно другой, так сказать, эмбриональной форме, возникая и исчезая под другими именами, по случайным и эмпирическим поводам. Или, если выразить это лучше: здесь в форме жизни происходит то же, что там существует в форме собственной идеальности миров. Это прежде всего создания жизни, как и все остальные ее явления, которые входят в ее непрерывный процесс и служат ему. И внезапно происходит великий поворот, в ходе которого нам открываются царства идеи: формы или функции, которые жизнь создала ради самой себя из собственной динамики, становятся настолько самостоятельными и определенными, что происходит обратное – жизнь служит им, вводит в них свои содержания, и успех этого становится таким же осуществлением ценности и смысла, как раньше вхождение этих форм в сферу жизни. Великие духовные категории строят, правда, жизнь даже тогда, когда они еще полностью пребывают в ней, еще целиком находятся в ее плоскости. Однако тогда они все-таки сохраняют по отношению к ней нечто пассивное, уступчивое, ей подчиненное, ибо они повинуются ее общему требованию и соответственно этому вынуждены модифицировать то, что они ей дают. Лишь когда вокруг них совершается великий поворот оси жизни, они становятся подлинно продуктивны; теперь господствуют их собственные формы, они вбирают в себя материал жизни, и он должен уступить им. Это мыслится как исторический процесс, как μετάβασις εἰς ἄλλο γένος[9], посредством которого из знания, служащего лишь практическим целям, возвышается наука, из ряда витально-телеологических элементов – искусство, религия, право и т. д. Проследить этот процесс во всех его направлениях, повсюду открыть точку перехода формы из ее витальной в ее идеальную значимость под скользящими переходами действительного сознания мы, конечно, не в состоянии. Но речь здесь идет только о принципе и внутреннем смысле развития, о характеристике его стадий в их чистой противоположности при полном безразличии к смешениям и снижениям, в которых оно исторически происходит.
Мы не можем здесь не сказать о витальных целесообразностях, которым служат духовные, предназначенные для образования миров, функции. Поэтому, до того как я прослежу выполнение этой предназначенности в отдельных рядах, мне предстоит попытаться уяснить существенную для этого структуру принципа целесообразности. Если я говорил, что известные функции, разработанные в жизни и вошедшие в ее целевое сплетение, становятся самостоятельными центрами и ведущими силами, которые берут жизнь на службу себе, то это легко могло показаться относящимся к тому типичному явлению, когда средства к цели психологически становятся самими целями. Примером, чистота которого столь же радикальна, как и его историческое воздействие, могут служить, как известно, деньги. Ибо, с одной стороны, в мире людей нет ничего столь абсолютно лишенного собственной ценности, являющегося только средством, – ведь деньги возникли только как посредничество в хозяйственной жизни; с другой – ничто иное на Земле не представляется многим людям целью всех целей, окончательно удовлетворяющим владением, завершением всех стремлений и усилий. Следовательно, здесь этот поворот совершился, по-видимому, более радикально, чем где-либо. В действительности духовные структуры обоих типов совершенно различны. Превращение средств в цели полностью остается в общей форме телеологического и лишь отодвигает душевный акцент дефинитивного на одну ступень. Удовлетворяется ли кто-нибудь, как скупец, обладанием денег вместо того, чтобы достигать с их помощью наслаждений, составляет различие в материи, но не в сущностной форме оценки. Вещественно рациональное членение ряда не обязательно для сознания ценности, оно предоставляет сознанию выбор пункта, на котором оно хочет утвердиться. Ибо сам по себе этот ряд не может быть закончен. Ни одна разумная или непосредственно приносящая счастье цель не гарантирована от того, что она окажется промежуточной точкой для еще более высокой цели; цепь содержаний земной жизни не обрывается окончательно ни в одном звене; определение окончательного решения, постоянно нуждающегося в коррекции, всегда остается за волей или чувством. Не надо также забывать, как глубоко именно в человеческой телеологии коренится кажущееся иррациональным свойство переоценки средств. Множество раз нам не хватало бы ни мужества, ни силы для наших действий, если бы мы не направляли всю концентрацию, вообще все доступное нам сознание ценности на достижение ближайшей ступени телеологической лестницы. Мы должны считать, что от этой ступени, пусть даже объективно она просто преходящее средство, будто бы зависит все наше благополучие, ибо без нее обойтись нельзя. Если бы мы проявляли к ней лишь такой интерес, который объективно соответствует ее подлинному значению, и связывали всю интенсивность ценности с далекой и самой далекой конечной целью, это в высшей степени дистелеологически расщепило бы нашу энергию при выполнении практической задачи. То, что глубоко противоречит смыслу телеологии и, собственно говоря, опровергает ее, то, что средство занимает место цели, становится ее самой сублимированной формой.
Но поворот, при котором поднимаются идеальные образования, исходит из всей категории цели-средства, и понимание возможности этой категории – она будет рассмотрена позже требует и другого понимания: она вообще имеет внутри глубочайшего пласта человеческого существования гораздо меньшее значение, чем ей обычно приписывают из-за ее роли в поверхностной практике. Областью полного господства целесообразности является телесный организм. Я, правда, не думаю, что это им определяется его последняя, собственно формирующая сущность, не думаю также, что для этого достаточен механизм, категории которого позволяют нам весьма успешно упорядочить его собственные явления. Однако если применить к организмам как физическим образованиям телеологическую точку зрения, сколь она ни эвристична или символична, то оказывается, что она поразительным образом все больше подтверждается с каждым новым физиологическим открытием. Чем больше животное зависит от непосредственного функционирования его телесных свойств, т. е. чем меньше радиус его действий, тем безусловнее оно зависит от целесообразности. Самая полная целесообразность существует внутри тела; она уменьшается по мере того, как жизненные движения выходят за его пределы, ибо тогда им приходится считаться с противостоящим им, случайным по отношению к жизни, миром. Целесообразность приближается к максимальной угрозе, и при определенных обстоятельствах к минимальной ее реализации, когда сознательный дух и воля оказываются на любом отдалении от внутрителесных, структурно данных движений и их непосредственного действия.
Человек, в силу того, что он обладает наибольшим радиусом действий, в силу того, что его полагание цели наиболее далеко и независимо от витального автоматизма его тела, наименее уверен в своей телеологии. Это и можно называть его свободой. Существо, в котором действует автоматизм, обладает, правда, наибольшей целесообразностью жизни, но ценой того, что оно тесно связано с телесной априорностью. Свобода именно и означает возможность сломать целесообразность; она существует в той мере, в какой поведение органического существа выходит за границы его непроизвольно регулированного тела. Этим имеется, конечно, в виду не изменение места и передвижение тела в пространстве ради пищи, защиты, продолжения рода, а качественные и дифференцированные вторжения человека в окружающую среду. Чем более развит, т. е. чем более свободен человек, тем дальше его поведение от целесообразности, которая заложена в структуре его тела как таковой и в ее непроизвольности. Вследствие этой дистанции, существующей между физиологической данностью человеческого организма и практическим поведением человека, его можно в принципе определить как нецелесообразное существо; относительно он находится вне той целесообразности, которая господствует в сущностной непроизвольности и, следовательно, целесообразности низших организмов.
Человек достиг той ступени существования, которая находится выше цели. Его подлинная ценность состоит в том, что он может действовать без цели. Под этим имеются в виду только действия как целостные, которые внутренне могут или должны быть конструированы телеологически, т. е. отдельный ряд действий строится из средств, ведущих к цели. Но целое не находится в рамках общей телеологии. Разумеется, такие ряды не заполняют жизнь, которая протекает в своей большей части целесообразно, т. е. в рядах, конечное звено которых ведет в качестве средства к дальнейшей цели, в конечном счете к жизни как таковой. Однако иногда человек живет под категорией нецелесообразного. Если характер таких рядов определяют тем, что их конечные члены называют самоцелями, то все их своеобразное значение этим вновь возвращают на более низкую ступень, на ступень целесообразности. Она, скорее, просто переход, просто ступень развития. Если бы мы были чистым духом, т. е. если бы наше поведение нельзя было мыслить как часть или продолжение непроизвольной целесообразности нашей телесной организации, мы стали бы в принципе свободны от категории цели.
Во многих случаях цель является низким и презренным в деятельности, причем не только когда цель, что само собой разумеется, вводит в свою этическую негативность сами по себе индифферентные по цели средства. Средства могут иметь ценность, которую они вообще не способны устранить, но которая, служа презренной цели, доводит как бы до высшего завершения низость и вред действия в целом. Если купец, исходя только из желания копить все больше денег, быть может, для того, чтобы впоследствии получить за них ничтожные наслаждения, употребляет на это высшую энергию, ум, неутомимость, отвагу, то эти качества еще сохраняют ценность в качестве character indelebilis[10]. Даже если эти качества применены без всякой цели, чисто спортивно или в задорном чувстве силы, которое просто ищет разрядки, они сохраняют очарование и значимость. Но в первом случае они служат дурным, унизительным целям, которые в странной комбинации не могут уничтожить ценность проявленных качеств, но, несмотря на это, способны придать им обратный знак. Сколь ни нелепо моральное возмущение по отношению к принципу, согласно которому цель оправдывает средства (ибо как же могла бы в противном случае, например, общность требовать жертвы жизнью от индивида!), нельзя не признать, что часто именно цель оскверняет средства.
Если под «полаганием цели» понимать осознанно разумную форму цели и удлиняющийся в зависимости от желания ряд средств, то полагать цели может только человек. Однако это ведь лишь часть целесообразности жизни, причем та, которая при сравнении с телеологией животных вообще не принимается во внимание. У человека возникающее телеологически не только выступает как отделение от всякой цели, но, следуя этой телеологии, он в неисчислимых случаях препятствует и вредит процессам достижения наших целей. Это может иметь смысл лишь для тех существ, которые способны пребывать по ту сторону жизни. Все образования специфически человеческого существования как будто прошли, правда, стадию целесообразности – и в этом для нас здесь все дело – до того как они поднялись на ступень чистого для-себя-бытия, т. е. свободы. В целом человек является в наименьшей степени телеологическим существом. С одной стороны, он следует в своем существовании слепым влечениям, которые не целесообразны, как у животного, а ошибочны, неориентированы и вследствие применения средств, предоставляемых ему нашей телеологией, яростно разрушительны. С другой стороны, человек выше всякой телеологии. Она находится у него между этими двумя полюсами – быть свободным от нее есть как низшая, так и высшая степень, – и только посредством ее количественного расширения и ее рафинирования она может породить иллюзию, что человек – существо, ставящее цели. В той мере, в какой он таков, он несвободен и связан лишь механизмом особого типа. Мы свободны в качестве существ, подвластных только своим инстинктам, ибо тогда исчезает всякое противоположное стремление и мы живем ех solis nostrae naturae legibus[11]. Свободны мы также в идеальном царстве, где приходит конец телеологии. Сфера целесообразности – средняя область человеческого существа, совершенно так же, как она внутри отдельного ряда действий занимает средний регион между намерением и результатом.
Противоположность свободе не принуждение; ибо, во-первых, ход событий по телеологии органической закономерности не может быть определен как принуждение вследствие только что упомянутого исчезновения противоположного внутреннего стремления. Лишь свободное в какой-то степени существо может быть принуждено, и утверждение, что природные вещи, подчиненные законам природы, должны действовать определенным образом, глупое антропоморфное выражение. Их поведение только действительно, а предположение, что оно к тому же еще необходимо в смысле какого-либо принуждения, вводит в них налет или возможность человеческого противодействия. Противоположность свободе – целесообразность. Свобода не есть нечто негативное, не есть отсутствие принуждения, она – совсем новая категория, до которой поднимается развитие человека, как только оно покидает ступень связанной с его внутренней физической структурой целесообразности и ее продолжения в действиях. Свобода есть освобождение не от terminus a quo, а от terminus ad quern[12]. Отсюда и впечатление свободы в искусстве, науке, морали, подлинной религиозности, отсюда и полная непротиворечивость по отношению к причинности.
* * *
Процесс этой эмансипации будет прослежен в нескольких существенных направлениях на следующих страницах. В качестве введения укажу здесь на две области, исконная вплетенность которых в телеологию жизни может представляться неразрывной, – на эвдемонистическую и на эротическую.
Удовольствие и боль исконно – это можно, вероятно, считать общепризнанным – служат побуждениями к витально-целесообразным действиям. Чувство удовольствия – влекущее награждение за подходящее питание, пребывание в здоровой среде, за продолжение рода. Чувство боли – предупреждающий сигнал против противоположного поведения, биологическая кара, предупреждающая от повторения таких актов. Существуя и для человека, эта связь в ряде случаев для него нарушалась. Человек может искать удовольствия, разрушительного для себя и для сохранения рода; однако это лишь знак психологической независимости от этих поощрений, которую обрело чувство удовольствия и наряду с которой как с изолированным явлением в принципе продолжает существовать биологическая полезность. Если животное совершает отдельные действия ради прельщающего его удовольствия, то это всегда нечто вторичное, за которым в качестве подлинного смысла, вызванного соблазном действия, стоит витальная целесообразность. Человек может совершить решающий поворот, поставив всю жизнь на службу удовольствия. Но это также лишь превращение средства в цель и не образует, в сущности, новой сферы, противостоящей телеологическому процессу жизни, даже если оно доходит до извращения его цели. Действительно радикальный поворот связан, как мне кажется, с чистым смыслом того, что мы называем «счастьем». Грубая психология традиционной этики за редкими исключениями не поняла смысл решительного поворота, отличающего это понятие от понятия удовольствия; греки понимали это более глубоко. Шопенгауэр справедливо связывает удовольствие с предшествующей потребностью, что свидетельствует об укоренении удовольствия в однолинейном прохождении жизненного процесса. Но то, что мы называем счастьем, – причем главное здесь не в дефинитивном различии, а в различии внутренних реальностей, которое можно называть и иначе, – имеет для физического благосостояния, а тем самым и для всей целесообразности жизни, несомненную ценность; и, помимо этого, счастье означает состояние завершенности, вершину, к которой стремится жизнь и за пределы которой в направлении этого стремления она так же не может выйти, как нельзя подняться выше, достигнув вершины горы. В счастье нет обособления чувства удовольствия, посредством которого оно становится просто элементом жизни в ее связи. Когда мы называем себя «счастливыми», жизненная связь в ее целостности уже не имеет локализующей окраски; своеобразное напряжение чувства удовольствия ушло из взаимодействия моментов жизни и стало в качестве счастья чем-то дефинитивным, для утверждения которого должны совместно действовать эти моменты. Если казалось, что «разум» настолько далек от других наших интеллектуальных способностей, что ему все время, от Аристотеля до Бергсона, приписывалось происхождение не из эмпирически-органических способностей (что также при отказе от такого понимания остается глубоким символом чувства дистанции), то я решаюсь на парадокс, что счастье в его чистоте есть по своему происхождению нечто столь же новое, столь же далекое от других наших эвдемонистических переживаний, как разум среди тех областей, о которых применительно к нему идет речь. Лишь в высшем счастье, и никогда в удовольствии, мы ощущаем нечто подобное милости, счастье озаряет непрерывно проходящую в себе жизнь сиянием, которое она сама никогда не могла бы создать, которое приходит из другой непостижимой сферы. Поэтому удовольствия можно искать, и иногда даже достигать в этом успеха, счастье же – в том смысле, который еще не исказила анархия нашего языка, – приходит к нам, как дождь и свет солнца. Сильнее всего радикализм этого поворота выражен в трансцендентном возвышении счастья до понятия «блаженства» Здесь над-витальность состояния счастья уже не может вызывать сомнения; здесь оно достигло абсолютной и поэтому свободной от всякого смешения с удовольствием формы, на что направлена вся жизнь, и достаточно часто ценой мученичества. В понятии блаженства эмансипация счастья от всякой целесообразности, внутренне присущей жизни, завершена и стала несомненной.
Подобным образом, хотя и не вполне параллельно, обстоит дело с болью, которую генетически следует мыслить как средство устрашения при жизненно нецелесообразном поведении. И в некоторой степени так же, как удовольствие относится к счастью, относится боль к страданию. Болью мы называем – при условии, что в привычном словоупотреблении и здесь не будут смыты границы понятий – локализованное, однолинейно проходящее переживание. Наряду с болью – и часто также наряду с удовольствием – существует хронический тонус нашего общего бытия, который мы обычно называем страданием и который биологически никак не выводит за свои пределы. Боль, ощущаемая в жизни, оторвалась от своей локализации и расширилась до окраски жизни, на основе которой жизнь вновь узнает имманентно телеологические или дистелеологические события. Если боль входит в жизнь, то в счастье и в страдание вливаются потоки жизни; в страдании и в счастьи – только с противоположным знаком – душа может найти совершенство, завершенность жизни, даже освобождение от самой себя, что противоположно значению боли. Что мы способны духовно ощущать страдания, в принципе не имеющие телеологического значения, представляется мне решающим признаком существа человека.
Еще характернее, чем в эвдемонистической телеологии, выступает упомянутый поворот в телеологии эротической. Изначально дано биологическое значение притягательности полов друг для друга и связанные с ней чувства удовольствия. По мере того как эти чувства становятся психологической целью, ради которой стремятся к акту, телеологический порядок меняется, продолжение рода становится часто только нежелаемой акцидентальностью того, что действительно желалось. Тем не менее и это может показаться, в несколько старомодном выражении, хитростью природы для достижения ее связанных с родом целей даже и в том случае, когда эротическое намерение направлено не на род в целом, т. е. не на какую-либо в известной степени приемлемую личность другого пола, а совершенно индивидуализировано и подчинено схеме: эта или никто. Ибо и такое обострение чувства можно толковать как инстинкт, избравший наиболее подходящего партнера для рождения удачного ребенка. Однако в этом пункте одновременно проявляется решительное отклонение эротики от служения жизни. Какое бы генетическое или гомохронное отношение ни существовало между любовью и чувственным желанием – по своему смыслу и как данности они совершенно не связаны друг с другом. Желание по своей природе носит родовой характер, и там, где оно направлено исключительно на определенного индивида, общий поток жизни лишь введен в одно русло, но в конечном итоге возвращается в общность своего источника. Своеобразие же любви как любви в том, что она является чистым, замкнутым в себе внутренним событием души, которое теперь вращается вокруг совершенно незаменимого образа другого индивида. Неисчислимые, неисповедимые силы личности вовлечены в любовь, и для такой личности она не промежуточная станция, она приносит счастье или гибель, является окончательным решением. Слова: «Если я тебя люблю, что тебе до того», – выражают сущность такой любви, правда, негативно, но с предельной чистотой. До тех пор пока любовь остается в рамках общего, пока она остается желанием, она – форма, которую жизнь принимает ради своих «целей». Однако эта форма эмансипируется, как в учении Шопенгауэра – в данном случае совершенно одностороннем – только интеллект может эмансипироваться от жизни; любящий, вознесший себя и любимую из широко стремящейся вперед родовой жизни, знает, что теперь жизнь существует для того, чтобы хранить эту ценность, это новое так-бытие. Определить это как «отношение к цели» невозможно. Когда это отношение, господствующее в желании родового типа, устраняется, – независимо от того, существует ли еще оно наряду с автономной любовью и в неразрывной связи с ней, – любовь оставляет позади себя всю категорию телеологического. Последняя определяет лишь ее связанную с жизнью предшествующую форму, из которой она вырастает в свободное само-бытие. В нем эротика может достичь тех сублимированных ступеней, на которых изречение «Плодитесь и размножайтесь» (впрочем, наибольшая противоположность словам Филины, которую можно себе представить) отвергается как измена любви. Конечно, здесь существует постоянный переход, и хотя первым влечением к другому полу любовь отнюдь не «предопределена», она возникает из него в постепенном процессе эпигенезиса; действительность полагает форму непрерывности между обеими категориями, которые идеально и по своей сущности разделены абсолютным порогом.
Здесь, следовательно, речь не идет о формировании упомянутых выше «миров»; задача только в том, чтобы показать на отдельных линиях процесс, который, будучи переведен в другие измерения, ведет к образам мира, к созданию автономных форм неограниченной емкости. Посредством их формируются, собственно, так называемые культурные области, так что можно, вероятно, сказать: культура вообще возникает там, где созданные в жизни и ради жизни категории становятся самостоятельными созидателями обладающих собственной ценностью формообразований, объективных по отношению к жизни. Сколь ни несомненно религия, искусство, наука имеют свой смысл как таковые в надпсихологической идеальности, известные события временной субъективной жизни являются как бы их эмбриональными стадиями, они представляются как бы их предшествующей формой; или в соответствии с более ранней формулировкой: в форме жизни являет себя то же, что названные области суть в идеальности их собственных миров. В момент, когда те формальные движущие силы или типы образования – т. е. данные содержания, формирующиеся в определенный мир, – становятся для себя решающим фактором (тогда как до того таковым были жизнь и связь ее материальных интересов) и сами создают или образуют объект, – каждый раз используется часть культурных миров, которые как бы стоят перед жизнью, предлагая ей стадии своего процесса или запас своих содержаний.
Быть может, чистую сущность науки в отличие от имеющегося вообще знания можно постигнуть только при этой предпосылке. Практическая жизнь на каждом шагу – и больше, чем это обычно ясно себе представляют, – пронизана знаниями: до возникновения науки мы получаем в целом не меньше и не больше знаний, чем нам необходимо для нашей практической, внешней и внутренней, деятельности. Не меньше – потому что при обусловленности нашей жизни научными представлениями мы не могли бы жить, если бы не существовала известная их мера и достаточность; не больше, так как пока речь идет о жизни как таковой, как жизни практической, это означало бы бесполезное ее обременение при отсутствии даже места для этой чрезмерности – хотя, конечно, мера между «слишком мало» и «слишком много» очень меняется в зависимости от индивидов и исторических ситуаций.
Насколько решающая здесь витальная детерминанта проявляется в том, что это знание, каким бы фрагментарным и случайным оно ни казалось другим периодам, всегда предстает как в той или иной степени замкнутая и удовлетворяющая связь: оправдание и центральное обоснование этого каждый раз ощущаемого единства по логике и фактическому содержанию этих комплексов знания другие периоды обычно не признают, и оно может заключаться только в реально требующей и суверенно определяющей жизненной ситуации. Преобладающее количество наших представлений в области знания выглядит так, будто оно вызвано и определено целесообразностью жизни, – причем точное определение таковой по ее смыслу и направленности может оставаться под вопросом.
Мне это представляется единственным радикальным средством против крайнего скептицизма и теоретического нигилизма, для которых каждая так называемая истина с самого начала является иллюзией. Ни один человек не мог бы прожить даже день – вряд ли это нуждается в доказательстве, – если бы каждое его представление об объектах было неверным. Но мы ведь живем. Следовательно, невозможно допустить, что мы все время заблуждаемся; мы должны обладать по крайней мере таким количеством истины, чтобы доводить встречающиеся заблуждения до возможности жить. Тем самым содержание истины зависит от того, чего жизнь в каждый данный момент хочет от мира. То, что является истиной для индийского йога и берлинского биржевого спекулянта, для Платона и австралийского негра, настолько далеко друг от друга, что эти существования на основе их представлений о мире были бы совершенно немыслимы, если бы для каждого из них «жизнь» не означала бы нечто иное, чем для других, и поэтому требовала бы для каждого коррелятивной ему основы познания. Для предотвращения прагматической узости необходимо ясно понять, что наши внутренние процессы, служащие нашему витальному поведению в мире, и сами являются частью этого поведения и этого мира. Поэтому очень односторонне и слепо полагать смысл и цель процессов, происходящих в нашем сознании, исключительно в наши действия, т. е. в наше практическое отношение к внешнему миру. Здесь речь идет также о «целесообразностях», которые ведь не определены terminum ad quern. Изживание нашей силы, реализация или также сознательное уяснение внутренних тенденций, самовыражение бытия в развитиях и в формировании податливых или принуждаемых материалов – это ценности, которые по своему значению координированы с ценностями, измеряемыми успехами нашего поведения. И эти ценности, что очевидно, поднимаются в какой-либо обусловленности посредством познающего представления, доказывающего свою правильность обретением их. И витальная ценность мысли заключается отнюдь не только в том, что может быть понято как логическое или психологическое открытие ее содержания, напротив, ее так-бытие как элемент нашей жизни является непосредственным, более ценным или более низким качеством именно этой жизни, в которой она пребывает. Мы слишком привыкли видеть в наших мыслях лишь то, что они означают, их сами по себе бессильные идеальные содержания (к каким бы конкретным следствиям они ни приводили), тогда как здесь речь идет об их другой стороне, о динамически-реальной, указателем или символом которой является первое значение. Наши мысли не только означают нечто, что можно выразить в понятиях, – которые уже сами по себе потусторонни, – они суть нечто, суть реальные удары пульса реальной жизни, которые внутри нее, не только посредством внутренних или внешних воздействий, лучше или хуже «служат» ее максимальной ценности как ее идеальной цели. Это расширение и углубление всегда имеется в виду, когда я говорю о целесообразности жизни.
Если мы рассматриваем нашу жизнь как биологический процесс, она оказывается не чем иным, как растением, связанным с действительностью мира, и все ее функции совершаются в их целесообразности, как дыхание спящего. Если ввести в эту телеологию нашей действительности познание, это в принципе не изменит наш статус и нашу деятельность: устремляющаяся вперед жизнь будет лишь обогащена волной этой формы. Познание – не что иное, как сцена самой жизни, сцена, которая готовит другую и тем самым служит общей интенции жизни. В применении к чисто чувственным представлениям это уже было упомянуто. Они являют собой продолжения телесного механизма, который управляется в своей целостности телеологически. Если следовать этому представлению, то все вообще включенные в жизнь и участвующие в ее определении представления должны обладать одинаковой сущностью. Поток жизни, господствуя и подчиняясь, проходит через них, как через любой другой из своих элементов; категории, в которых создает себя сознательный образ вещей, суть просто орудия внутри витальной связи. Неудовлетворяющей и остановившейся на полдороге представляется мне гипотеза, которая гласит: существует абсолютная, для всех значимая истина, объективное отражение «действительности», и она постепенно будет достигнута человеческим родом, ибо более разумный человек, усвоивший большую меру истины, получит тем самым преимущество перед менее разумным в борьбе за существование, и таким образом на обычном пути отбора полезность истины станет причиной ее усвоения и распространения. Не что иное по своему основному мотиву и учение Шопенгауэра об интеллекте, согласно которому воля заставляет его служить ей. Шопенгауэр не сомневается также в идеальном существовании самостоятельной по своим содержаниям, противостоящей жизни истины, которой овладевает интеллект, так как его принуждает к этому воля жизни, полагающая, что с помощью такого познания действительности она сможет достигнуть своих целей. Оставляя в стороне всякую критику, несомненно, что такая прагматическая теория не уясняет сущность самой истины. Как бы ее ни интерпретировать, она во всяком случае нечто от жизни внутренне независимое, лишь виртуально готовое быть схваченным ею. Здесь, однако, речь идет о противоположности тому способу представления, который в неудовлетворительных выражениях этого способа можно определить следующим образом: там существует истинное, которое втягивается в жизнь, потому что оно ей полезно; здесь – духовные содержания, которые, если они оказываются способствующими раскрытию жизни, мы называем истинными, разрушающие же, препятствующие жизни – неверными. Теперь сразу же становится ясно, что для различных форм и установок жизни могут и должны быть различные «истины»; постоянно вызывающий раздражение вопрос о «совпадении» мышления и действительности теперь решен, ибо мышление есть лишь один из органических процессов, посредством которых действительность нашей жизни пребывает и возможна в космической действительности; таким образом, если мышление соответственно требуемому смыслу осуществляет эту функцию, вопрос о морфологическом «совпадении» с объектом вообще не возникает; и наконец, отпадает трудность понимания того, как же самому по себе совершенно свободному от понятий, действительно только «практическому» поведению человека удается «следовать» теоретическим истинам (поведению, которое еще сегодня трактуется как известная персонализация душевной способности), если эти истины суть лишь теоретические формулировки или понятийные отражения известных направлений, создающих в себе и следуя своему смыслу практически-динамические связи развивающейся жизни.






