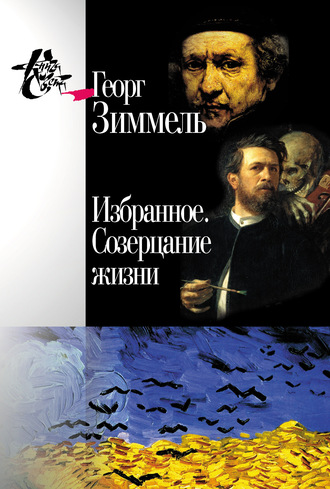
Георг Зиммель
Избранное. Созерцание жизни
Поначалу мы видели в жизни одну из сторон дуализма, считая другой индивидуальную форму, как простую ей противоположность. Теперь мы имеем абсолютное понятие жизни, которое не отрицает этого противоречия, но включает его в себя как относительное. Широчайшее понятие добра включает в себя добро и зло в их относительном смысле, широчайшее понятие прекрасного охватывает противоположность прекрасного и безобразного. Так же и жизнь в абсолютном смысле включает в себя жизнь в смысле относительном и со-относительную ее противоположность (либо выводит их друг из друга как эмпирические феномены). Поэтому трансценденция представляет собой единый акт возведения границ и их прорыва к иному. В этом ее абсолютность, делающая постижимой взаимопроникновение обособившихся ее противоположностей.
К конкретному осуществлению этой идеи жизни были направлены учения Шопенгауэра о воле к жизни и Ницше о воле к власти. При этом Шопенгауэр был более чувствителен к безграничной непрерывности, а Ницше – к оформленной индивидуальности. То, что решающим и составляющим жизнь является абсолютное единство обоих моментов, не было ими уловлено как раз потому, что самотрансцендирование жизни виделось ими односторонне, как воля. Оно относится ко всем измерениям жизненной активности. Поэтому жизнь имеет два взаимодополняющих определения: «более жизнь» и «более-чем-жизнь». Это «более» понимается здесь не в количественном смысле какой-то стабильной жизни и не per accidens[4]. Жизнь есть движение, которое в каждом ее отрезке – будь он беднейшим и ничтожнейшим в сравнении с другими – в каждое мгновение вовлекает в себя нечто иное, чтобы трансформировать его в себе. Какой бы ни была жизнь в своей абсолютности, она может существовать лишь будучи «более жизнью». Пока жизнь вообще есть, она творит живое, подобно тому, как уже физиологическое самосохранение есть постоянное зарождение нового: это не какая-то функция наряду с другими, но сама жизнь. И я убежден в том, что если смерть изначально присутствует в жизни, то и она заключается в выхождении жизни за собственные пределы. Стремясь к абсолютной жизни и развиваясь в этом направлении, жизнь делается «более жизнью», но она также устремлена в ничто. Подобно тому как самосохраняющаяся и притом восходящая жизнь является единым актом, таким же единым актом будет и самосохраняющаяся нисходящая жизнь. Абсолютное понятие жизни включает в «более жизнь» относительные «более» или «менее», будучи для них обоих genus proximum[5]. Всегда чувствовалась тайная связь рождения и смерти – двух жизненных катастроф, их формальное родство. Для этого есть метафизическое основание: оба эти события объемлют субъективную жизнь, трансцен-дируют ее вверх или вниз. Жизнь, за пределы которой они выходят, без них немыслима, она поднимается над собою в рождении и развитии, она опускается в старости и смерти. Это не какие-то внешние к ней прибавления, поскольку сама жизнь заключается в не знающем границ переполнении и отрицании индивидуального состояния. Быть может, вся идея человеческого бессмертия означает лишь аккумулированное и вознесенное до гигантского символа чувство этого выхода жизни за собственные пределы.
Логическая трудность, возникающая вместе с суждением – жизнь одновременно есть сама жизнь и более, чем она сама – относится только к способу выражения. Когда мы хотим выразить в понятиях единство жизни, то нам не остается ничего иного, как раскалывать ее на две взаимоисключающие части, которые затем приходится снова собирать в единство. А так как они были взяты во взаимном отталкивании, то возникает противоречие. Но это, конечно, позднейшее истолкование непосредственно переживаемой жизни. Когда она обозначается как единство полагания границы и ее прехождения, как отношение индивидуального центра и его собственной периферии, то уже самим обозначением мы раскалываем жизнь в точке ее единства. Выражая в понятиях количественные и качественные свойства жизни и то, что лежит по ту сторону этих свойств, мы помещаем их в точку единства. Однако жизнь содержит их в себе как в реальном единстве. Духовная жизнь не может выступать иначе, как в определенных формах: словах и деяниях, образах или содержаниях вообще, в которых как-то актуализируется душевная энергия. Но такие образования с момента своего возникновения уже наделены собственными значением, прочностью, внутренней логикой. Они противостоят той жизни, из которой они были сформированы. Ведь жизнь есть непрестанный поток, пронизывающий не ту или иную, но любую форму, поскольку она формой является. Уже поэтому, в силу сущностной противоположности, жизнь не вмещается в форму, и для каждого найденного образования она ищет смену.
Поэтому за необходимым формообразованием всегда следует неудовлетворенность формой как таковой. Пока жизнь существует, ей нужна форма, но так как она является жизнью, то ей нужно нечто большее, чем форма. Такова противоречивость жизни: она находит себе прибежище только в формах и в формы не вмещается, а потому разбивает всякую ей самой воздвигнутую форму. Противоречием это оказывается только для логической рефлексии, для которой отдельная форма предстает как в себе значимая, как реально или идеально закрепленный образ, прерывающий непрерывность и стоящий рядом с другими в понятийной оппозиции к движению, потоку, длительности. Непосредственно переживаемая жизнь есть единство бытийной формы и ее оставления, она перетекает через любую оформленность. В отдельно взятый момент времени это предстает как разрушение любой данной формы. Жизнь является «более жизнью» по сравнению со всем тем, что помещается ею в высеченной и взращенной ею самой форме.
Пока душевная жизнь рассматривается с точки зрения своего содержания, она всегда выступает конечной и ограниченной; она состоит тогда из идеальных содержаний, которые приобрели жизненную форму. Но процесс идет далее этого содержания. Мы мыслим, чувствуем, желаем того или этого – всех этих четко установленных содержаний. Логически, в каждый момент реализуется нечто определенное и определимое. Но в переживании содержится и нечто иное, несказуемое, неопределимое. Мы ощущаем его во всякой жизни, ибо она больше любого приданного ей содержания, она веет над ними, и каждое из них видится ею не только изнутри (как в случае логического описания содержания), но также извне, из того, что стоит по ту сторону этого содержания. Включив такое содержание в форму жизни, мы получаем ео ipso[6] нечто большее, чем это содержание.
Этим открывается другое измерение трансценденции жизни, где она выступает не как «более жизнь», но как «более-чем-жизнь». Происходит это повсюду, где мы называем себя творцами. Не только в смысле особой редкой индивидуальной одаренности, но в общепонятном смысле: когда воображение творит содержание, наделенное собственным значением, логической связностью, правомочностью или неизменностью, независимыми от создавшей это содержание жизни. Эта самостоятельность сотворенного не больше противоречит происхождению из чистой творческой способности индивидуальной жизни, чем появление самостоятельного потомства ставит под сомнение наличие родителей. Подобно тому как порождение самостоятельного, независимого от родителей существа имманентно физиологической жизни и характеризует ее как таковую, точно так же на ступени духа имманентно жизни порождение самостоятельных смысловых содержаний. Самым показательным для жизни является то, что наши представления и знания, ценности и суждения в своей предметной рациональности и исторической действенности целиком выходят за пределы творческой жизни. Трансцендирование жизнью своей актуально ограниченной формы проходит на ее собственном уровне – «более жизни», – в чем заключается ее непосредственная сущность. С другой стороны, трансцендирование на уровне предметного, логически автономного содержания наделено уже не витальным смыслом, но неотделимым от него смыслом «более-чем-жизни». Он составляет сущность духовной жизни. Это означает только то, что жизнь является не просто жизнью: не переставая быть собою самой, она образует более широкое, широчайшее понятие абсолютной жизни, охватывающее относительное противоречие между жизнью в узком смысле и освободившимся от жизни содержанием.
Можно считать это определением духовной жизни, что она создает нечто, существующее по собственному праву и закону. Такое самоотчуждение жизни, то, что она противостоит себе в получившей самостоятельность форме, выглядит как ее противоречивость и несовершенство, но только там, где между внутренним и внешним проводится недвижимая граница, словно речь идет о двух независимых субстанциях, а не о непрерывном движении. Только пространственная символика нашего способа выражения разлагает это единство в каждой его точке на противоположно устремленные направления. Но тогда жизнь предстает как постоянный выход субъекта в ему чуждое или как творение чего-то ему чуждого. Последнее тем самым не субъективируется, но застывает в своей самостоятельности, в своем «более-чем-жизнь-бытии».
Абсолютность этого инобытия всячески ослаблялась, опосредствовалась, делалась проблематичной с помощью идеалистического тезиса «мир есть мое представление». Из него выводили невозможность и иллюзорность подлинной трансценденции. Однако абсолютность этого иного, этого «более», которое создается жизнью или в ней пребывает, есть именно формула и условие жизни. Она изначально есть не что иное, как выход за собственные пределы. Во всей своей остроте дуализм не противоречит единству жизни, но является способом существования этого единства. В волевой жизни крайним выражением этого является молитва: «Господи, да свершится воля Твоя, но не моя». Логически это кажется полной путаницей: я хочу чего-то, и в том же самом акте воли я желаю, чтобы этого не было. Такая видимость исчезает вместе с пониманием того, что жизнь здесь (как то было ранее в областях теории и творчества) возвышается над самой собою в форме автономного образования. При этом она остается собою и в каждом таком волении узнает саму себя. Тут не имеет значения, совпадают ли по содержанию низшая и высшая ступени: на первой воля всегда «моя», на второй я желаю ее исполнения из нее самой. Там, где процесс изначально предстает как трансценденция, а воля трансцендентного ощущается как своя, трансценденция ярчайшим образом открывается как имманентное жизни бытие.
Это характеризует одну из важнейших проблем современного мировоззрения. Человек всегда осознавал наличие неких реальностей и ценностей, объектов веры и могущества. Они не помещались в кажущемся твердо установленным для них пространстве, заполняемом их непосредственно воспринимаемой автономной субстанциальностью. Такое сознание обретало уверенность в себе только путем наделения их особым существованием по ту сторону жизни. Здесь они казались чем-то резко от нее отделенным, ей противостоящим, оказывающим на нее воздействие, пусть и неизвестно каким образом. Против такой наивности выступило критическое Просвещение, не признающее для субъекта никакого потустороннего, помещающее все в границы субъективной непосредственности. Иллюзией было объявлено все то, что претендовало на застывшую самостоятельность. Это было первым шагом великой тенденции в истории духа: все то, что полагалось в собственном существовании вне жизни и приходило к ней оттуда, должно было резким поворотом оси вернуться в саму жизнь. Но так как жизнь улавливалась как абсолютная имманентность, то все подлежало – при множестве оттенков – субъективации, отрицанию потусторонней формы. Не замечали того, что уже такое ограничение субъекта зависимо от представления о потустороннем, – лишь из последнего выводима сама граница, в которую заключается жизнь, дабы непрерывно в ней кружиться.
Здесь предпринята попытка понимания жизни как таковой, когда граница с потусторонним постоянно преодолевается. Сущность жизни видится в этом выходе за свои пределы. Трансцендирование – это определение жизни вообще. Замкнутость ее индивидуальной формы хотя и сохраняется, но лишь с тем, чтобы она всегда прорывалась непрерывным процессом. Сущность жизни обнаруживается в том, что она есть «более жизнь» и «более-чем-жизнь», – положительная степень сразу оказывается сравнительной. Я прекрасно понимаю все логические трудности, возникающие при такого рода понятийном изображении жизни. Я набрасывал эти мысли, отдавая себе отчет о логических опасностях, но тут, быть может, мы достигаем того слоя, где логические затруднения уже не заставят нас замолчать, ибо это тот слой, в котором лежат метафизические корни самой логики.
Глава II
Поворот к идее[7]
При слове «мир» в его самом широком, исчерпывающем смысле обыденному сознанию представляется сумма всех вещей и событий, вообще действительных, постигаемы они нами или нет. Однако в сущности при этом мыслится еще нечто совсем другое: даже если бы нам была дана вся необозримость мира часть за частью, то у нас было бы что-то одно, и еще одно, и еще одно – но то, что все они вместе составляют «мир», требует чего-то, что должно быть добавлено к этому существованию многого единичного, требует формы, в которую они должны войти. Дать всему этому единство, поймать его в сеть, им самим сотканную, может только дух. Когда мы говорим о «мире», мы имеем в виду нечто всеобъемлющее, лишь ничтожная часть содержаний которого нам доступна, – это можно объяснить только тем, что мы обладаем формулой, позволяющей добавлять к известному неизвестное, образующее вместе с ним единство одного мира. Следовательно, мир в полном смысле этого слова есть сумма содержаний, освобожденных духом из изолированного состояния каждой части и приведенных в единую связь, в форму, способную охватить известное и неизвестное.
Однако совершенно недостаточно сказать: все это есть единство и, следовательно, мир, так как единство – совершенно беспомощное абстрактное понятие. Реализовано оно может быть лишь тем, что определенное единство, данный принцип, каким-либо образом дифференцированный закон, окраска или ритмика, ощущаемый смысл объединяет отдельные реальности. В обыденном понимании «мира» действует целый ряд таких создающих единство принципов: пространство, время, общее взаимодействие, причинная связь, установленные одним божественным творцом. Если бы мы не ощущали эти принципы как общезначимые схемы, которым подчинено все действительное и которые, выходя за пределы каждой отдельной действительности, приводят ее в связь с другой отдельной действительностью, у нас были бы только отдельные вещи, а не один мир, следовательно, и не мир. Философские «миро»-воззрения возникают посредством того, что это еще несколько диффузное единство концентрируется в точно определенных, эксклюзивных высших понятиях. С помощью таких понятий – бытия или становления, материи или духа, гармонии или сплошного дуализма, цели или божественности и многих других философы подступают к действительности, как к знакомой, так и к еще незнакомой (независимо от того, что эти понятия, в свою очередь, могли быть уже получены в отдельных опытах), и поскольку такое понятие есть определяющая, овладевающая сила их созерцания, сумма действительности формируется для них в мир. Упрек философам, что они вследствие односторонности их принципов совершают насилие над миром, сформулирован неправильно. Ибо посредством таких принципов мир вообще только и создается – при этом отдельный принцип может быть, конечно, несостоятельным, слишком узким для фактических данностей, внутренне противоречивым. В этом случае он и не создает мир. Может быть, существует мир, в основе которого лежит лучший принцип, но без такой односторонности мира вообще нет. Философы совершают лишь с более решительной и с более односторонней понятийностью то, что делает каждый, говоря о мире. То, какое ведущее понятие создаст в каждом данном случае отдельному мыслителю его мир как таковой, зависит от его характерологического типа, от отношения его бытия к миру, которое служит основой отношения его мышления к миру.
Но существует и другой тип понятий, которыми мы называем виды деятельности нашего духа, столь объемлющие, что посредством их способности формирования принципиальная бесконечность возможных содержаний срастается посредством осознанно особенного характера в единый «мир». Речь идет прежде всего о видах великих функций духа, посредством которых он (презумптивно) превращает идентичную тотальность содержаний в себе замкнутый, подчиненный несомненному общему принципу мир; мир в форме искусства, в форме знания, в форме религии, в форме градуированных ценностей и значений вообще. С чисто идеальной точки зрения нет содержания, которое не могло бы быть познанным, не приняло бы художественную форму, не получило бы религиозную оценку. Эти миры не могут смешиваться, переходить друг в друга, пересекаться, ибо каждый из них высказывает все содержание мира на своем особом языке, хотя, конечно, в отдельных случаях возникает неуверенность в границах, и часть мира, сформированная одной категорией, может войти в другую и вновь рассматриваться как материал. В каждой такой области мы видим внутреннюю вещественную логику, оставляющую, правда, место для большого многообразия и противоположностей, но все-таки связывающую творческий дух со своей объективной значимостью. И эти однажды сотворенные образования мы мыслим совершенно независимыми по своему смыслу и своей ценности от того, воспринимаются ли и воспроизводятся ли они душевно индивидами, и как часто это происходит. В качестве творений или святынь, в качестве систем или императивов они самодостаточны и внутренне связаны, благодаря чему они свободны как от жизни души, из которой они вышли, так и от той, которая их приняла.
Тот материал, материал мира, мы схватить в его чистоте не можем, ведь схватить означает ввести его в одну из тех великих категорий, образующих каждый раз в своем полном действии мир. Если, например, мы представляем себе голубой цвет, то он – элемент чувственно действительного мира, являющегося сферой нашей практической жизни. С этим его смыслом связан, вероятно, большей частью и фантастический образ, в котором мы освобождаем цвет от сопутствующих обстоятельств, с которыми соединяет его действительный мир. Однако в понятийности мира чистого познания голубой цвет имеет совсем иное значение: в нем он – определенное колебание волн эфира, или определенное место в спектре, или определенная физиологическая или психическая реакция. Иное выражает он и как элемент субъективного мира чувств, в лирических ощущениях при виде голубого неба, голубых глаз любимой. Это – тот же и все-таки совершенно иначе ориентированный по своему значению в мире цвет, если он относится к области религии, как, например, цвет покрова Мадонны или вообще символ мистического мира. Материал, сформированный таким образом в элемент очень различных миров, не есть, вследствие того, что без такого формирования он не может быть схвачен, «вещь сама по себе»; он не есть нечто трансцендентное, которое стало явлением в силу того, что оно познается или оценивается, включается в религиозную систему или художественно преобразуется. В обозначенных таким образом общих картинах материал мира всегда содержится полностью, а не заимствуется у какого-либо более самостоятельного существования. «Содержания» обладают существованием sui generis[8]. Они не «реальны», ибо таковыми они только становятся, и не просто абстракция из их многочисленных подведений под различные категории, так как они, с одной стороны, не суть нечто неполное, подобно абстрактному понятию, по сравнению с конкретной вещью, а с другой – не обладают метафизическим бытием платоновских «идей». Ибо хотя Платон находится в своих идеях на пути к этим «содержаниям», он не достигает чистоты их понятия, потому что сразу же толкует их логически интеллектуалистично, следовательно, все-таки односторонне. Он считает логическое формирование и связь абсолютно чистыми, специфически еще не предопределенными. Так же как часть физической материи является в любых формах, но без какой-либо из них существовать не может, и понятие ее чистого, свободного от формы бытия в материи представляет собой хотя логически и оправданную, но ни в каком виде созерцания не осуществляемую абстракцию, – так же обстоит дело и с тем, что я называю материалом миров, – и они, исходя каждый раз из основного мотива, формируют этот материал, – правда, лишь в бесконечном завершении – в тотальности. Ибо именно из-за этой принципиальной способности вбирать в себя материал во всем его объеме я называю действительное как целое, а также художественно созидаемое, теоретически познаваемое и религиозно конструируемое миром. С точки зрения человеческого духа существует отнюдь не один мир, если мир означает связь всех вообще возможных данностей, которые посредством какого-либо абсолютно значимого принципа становятся континуумом. Непрерывность для понятия мира необходима; то, что вообще не находится в какой-либо связи, непосредственной или опосредствованной, не принадлежит одному миру. Когда говорят, что существует только один мир, имеют обычно в виду сферу наших практических интересов, за пределами которых трудности жизни настолько ограничивают ви́дение людей, что художественные, религиозные, чисто теоретические содержания представляются им только более или менее изолированными единичностями. Для большинства людей так называемый действительный мир есть мир вообще, и преобладание практических интересов скрывает от них, что те иначе сформированные содержания принадлежат особым мирам, на которые не распространяется компетентность формы действительности.
В исторических реализациях этих миров дело обстоит, правда, по-иному. Не существует познания вообще, искусства вообще, религии вообще. С абсолютной общностью этих понятий не связывается больше определенное представление, они находятся как бы в бесконечности, т. е. там, например, где пересекаются линии всех вообще возможных типов художественного творчества; поэтому, вероятно, и нельзя дать дефиницию «искусства вообще». Существует всегда только историческое, т. е. обусловленное своей техникой, возможностями своего выражения, особенностями своего стиля искусство; а оно, что очевидно, не может охватить все безграничное множество содержаний мира. Подобно тому – если привести совершенно особый пример – как не каждое переживание может быть выражено в любом лирическом стиле, так и вообще сфера, в которой развивающиеся до каждого определенного исторического момента формы искусства применимы к содержаниям мира, ограничена. Максима, провозглашаемая, в частности, сторонниками натурализма в искусстве, что нет вообще такого содержания мира, которому не могла бы быть придана форма произведения искусства, не более чем артистическая мания величия; сторонники натурализма подменяют полный объем, в котором искусство вообще, и в качестве абсолютного принципа, могло бы формировать материал мира, искусством, необходимо ограниченным в своей способности формообразования, реализуемым нами в какой-либо исторический момент. Совершенно очевидно, что художественными методами Джотто или Боттичелли невозможно было передать впечатление от колорита балерин Дега. Однако этот процесс, по-видимому, никогда не может быть завершен, и что искусство по своей идее способно формировать абсолютно полный мир, столь же несомненно, как то, что каждое данное искусство может осуществить это в принципе возможное лишь фрагментарно. Что в мире религии дело обстоит так же, очевидно. Достаточно часто предпринимались попытки ввести всю целостность вещей и жизни в единый религиозный мир. Однако это не удавалось совершить даже в пределах ограниченного материала; всегда оставалось что-то от материала мира, не охваченное категориями религии, – как ни несомненно, что и не охваченные историческими религиями содержания могут быть религиозно интерпретированы, так что в идеале мир религии действительно существует. То же можно обнаружить и в «действительном» мире. Есть известные содержания мира (при этом не следует сразу же понимать мир как действительный мир, мир понимается здесь как совершенно общая форма, специальной детерминацией которой служит «действительность»), которые в искусстве, например, совершенно осмыслены и по своей особой логике когерентны внутренне и другим, но под категорию действительности подведены быть не могут; в принципе и, быть может, для более высокого или иначе организованного духа они также принадлежали бы «действительному» миру. Само собой разумеется, что произведения искусства и религиозные представления также можно рассматривать как реальности, следовательно, как части действительного мира; но по своему смыслу, по своему в указанном отношении «действительному» содержанию они принадлежат особым мирам. За свою идеальную, соответствующую миру полноту они вынуждены платить тем, что в исторической жизни всегда выступают в индивидуальной односторонности и поэтому не могут охватить всю совокупность возможных содержаний. Что принципу действительности это в относительно большой степени удается, объясняется просто его связью с внешней практикой жизни, которая не предоставляет столь большой сферы индивидуальным различиям, односторонностям, случайным развитиям, а удерживает нас в относительно устойчивом состоянии, формирование которого выражается больше в постепенном обогащении, чем во взаимном вытеснении.
Можно, конечно, утверждать: исторической случайностью обусловлены не только представления и проявления принципов искусства, религии, ценности и т. д.; то, что эти принципы вообще существуют в их общности и сверхъединичной идеальности, следует приписать историческому развитию человечества; в сущности в высоком смысле просто случайностью и фактической структурой нашей духовной организации объясняется существование этих, а не совсем других категорий; да и в самом деле недавно утверждалось, что категория «искусство» относится к эпохе человеческого развития, которая вскоре придет к концу. Даже если, не вступая в метафизическую дискуссию, признать этот тезис, то это никак не угрожает тому, что будет рассмотрено здесь.
Ибо речь идет лишь о том, что эти миры существуют идеально, необходимо или нет и что они в качестве миров координированы с миром действительности. Если утверждать, что они случайны, то случайной надо признать и действительность. Доказать, что мы с необходимостью придаем форму действительности возможным содержаниям, также невозможно: существуют мечтательные, «далекие от действительности» люди, перед взором которых содержания бытия парят, как картины, и которые никогда полностью не постигают понятие действительности. И хотя это и у них происходит не в полной мере, оно все-таки может быть указанием на то, что действительность не есть нечто абсолютное, по сравнению с которой все остальные миры относительны, случайны, субъективны, но что все они онтологически стоят на одной и той же ступени – считать ли эту ступень как целое объективной или исторически субъективной.
К этим целостным мирам, которые в известной степени по идеальному предначертанию лежат вокруг нас и которые мы посредством каждой духовной продуктивности скорее открываем и завоевываем, чем создаем, индивидуальная жизнь находится в своеобразном отношении. Каждое предметное событие в сознании принадлежит по своему содержанию и смыслу одному из этих миров. Кажется, будто они представляют собой расположенные на расстоянии друг от друга плоскости, через которые проходит жизнь, то беря часть одной или другой и встраивая ее в себя, то стоя между ними с известными содержаниями как бы в недифференцированной форме. Действительно, всем содержаниям нашего мышления сопутствует более или менее отчетливое чувство, что каждое из них к чему-то относится. Фантастическое, парадоксальное, субъективное также только относительно изолировано: при более глубоком ощущении оказывается, что оно относится к необозримой связи одного и того же пласта, пусть даже этот пласт для данного времени или для нас отмечен именно этим элементом. Таким образом, все наши активно или пассивно переживаемые душевные содержания – фрагменты миров, каждый из которых вообще означает особым образом сформированную тотальность содержаний мира. Применительно к теоретически постигаемому «действительному» миру это известно каждому: все мы знаем, что наше знание фрагментарно. Так же и в области этики: все мы знаем, сколь ничтожная часть того, чем ценностно сформированный мир мог и должен был быть, выражена не только в наших действиях, но даже в нашем сознании долга. В этих случаях фрагментарный характер содержаний нашей жизни выражается в предъявляемом каждому, заставляющем каждого выйти за свои пределы требовании. Но и во всех других случаях проявляется, хотя и менее сильно, этот фрагментарный характер нашей жизни; каждое выявляемое в ней содержание втянуто, будучи выведено из общей связи, в логике которой ему предназначено определенное и необходимое место, в пробивающийся из собственного источника, трансцендентный этим мирам витальный поток. Только таким мне представляется мировоззренческий смысл всегда ощущаемой «фрагментарности» жизни вне чисто элегической созерцательности. Мы все время курсируем по самым различным плоскостям, каждая из которых в принципе представляет собой тотальность мира по особой формуле, и от каждой из них наша жизнь берет только фрагмент.
Но иным становится аспект, если мы рассматриваем жизнь, исходя из нее самой, а не из этих находящихся вне нее и простирающихся в собственной тотальности плоскостей. Тогда принадлежность содержаний жизни обособленным, как бы для себя сущим, мирам теряет свое существенное значение. Эта принадлежность предстает теперь как последующее вычленение и идеальная трансплантация частей, которые в качестве переживаемых совсем не отличаются таким взаимным отграничением и такой прерывностью. Внутри динамики жизненного процесса они связаны, как волны потока; это каждый раз одна жизнь, которая создает их как свои, не отделяемые от нее и поэтому и не отделяемые друг от друга, удары пульса.
* * *
В предшествующем изложении идеальные миры рассматривались как данные феномены, и вопрос не ставился об их психологически-историческом, их смыслово-мировоззренческом генезисе или об их единстве, в котором они при их потусторонности жизни и реальности, быть может, все-таки связаны с жизнью. Теперь это моя подлинная проблема.






