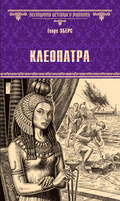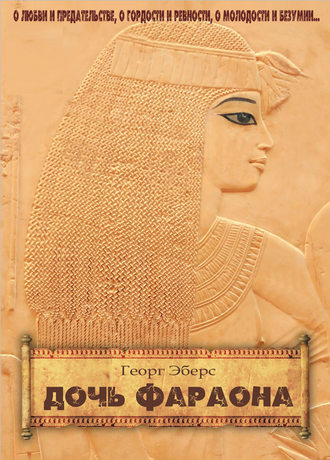
Георг Эберс
Дочь фараона
– А я все-таки отправляю свою прекрасную Нитетис; Тахота так хрупка и нежна, что вряд ли перенесла бы трудности пути и печаль разлуки. Если бы я слушался внушений своего сердца, то и Нитетис не следовало бы отправляться в Персию. Но Египет нуждается в мире, а я стал фараоном прежде, чем сделался отцом!
Глава пятая
Все прочие члены персидского посольства возвратились в Саис со своей прогулки по Нилу к пирамидам; только Прексасп, посланник Камбиса, уже находился на обратном пути в Персию, для того чтобы сообщить царю о благоприятном результате сватовства.
Во дворце Амазиса всюду царило большое оживление. Свита Камбизова посланника, состоявшая почти из трехсот человек, и знатные гости, которым оказывали всевозможное внимание, наполняли все помещения большого саисского дворца. Дворы переполнены были телохранителями и сановниками, молодыми жрецами и рабами в праздничных одеждах.
По случаю устраиваемого в этот день праздника в честь помолвки своей дочери фараон хотел показать в особенно блистательном виде богатство и великолепие своего двора.
Высокая, поддерживаемая пестрыми колоннами приемная зала, обращенная окнами в сад, потолок которой, расписанный голубой краской, был усеян тысячью золотых звезд, представляла действительно обворожительное зрелище. По стенам, богато испещренным картинами и иероглифическими знаками, висели лампы из цветного папируса, распространявшие странный свет, подобный солнечным лучам, просвечивающим сквозь цветные стекла. Пространство между стенами и колоннами было наполнено редкими тамарисками, лиственными растениями и цветочными кустами, а за ними была скрыта невидимая толпа арфистов и флейтистов, встречавших гостей торжественными однообразными мелодиями.
Посреди комнаты, пол которой был выложен белыми и черными плитами, стояли красивые столы с холодным жарким, сладкими кушаньями, прекрасно убранными корзинами с плодами и печеньями, золотыми кубками, стеклянными бокалами и изящными цветочными вазами. Около этих столов толпилось множество богато одетых рабов, которые, под надзором домоправителя, разносили кушанья отдельным гостям, разговаривавшим частью стоя, частью сидя в дорогих креслах.
Общество состояло из мужчин и женщин всех возрастов. Входившим женщинам молодые жрецы, личные слуги фараона, подавали изящные букеты, и многие знатные юноши являлись с цветами, которые они, во время пиршества, не только дарили избранницам своего сердца, но даже подносили к самому их носу.
Египтяне, одетые так же, как и при приеме персидских послов, были вежливы и даже раболепны по отношению к женщинам, между которыми находилось, впрочем, весьма мало замечательных красавиц. У большинства из них волосы были убраны по одному образцу, вся волнистая масса взбитых и завитых щипцами волос спускалась назад, оставляя две косы справа и слева, которые, ниспадая с обеих сторон между глазом и ухом, спускались до самой груди. Широкая диадема придерживала эти прически, про которые горничные знали, что они столь же часто были произведением искусства парикмахера, как и природы. Над пробором у многих придворных дам был прикреплен цветок лотоса, стебель которого спускался на затылок.
В нежных руках, пальцы которых были унизаны кольцами, а ногти, согласно египетскому обычаю, накрашены красной краской, они держали опахала из пестрых перьев, а верхние части и кисти рук и ноги у лодыжек были украшены золотыми и серебряными запястьями.
Одежды всех присутствовавших египтянок были столь же прекрасны, как и драгоценны, в особенности по нежности ткани, тонкой почти до прозрачности, и у некоторых были скроены таким образом, что оставляли непокрытой правую грудь.
Подобно тому, как между мужчинами отличался молодой персидский князь Бартия, Нитетис, дочь фараона, красотой превосходила всех египтянок. Царственная девушка в своем прозрачном ярко-розовом платье, со свежими розами в черных волосах, ходившая рядом со своей одинаково одетой сестрой, была бледна, как цветок лотоса, украшавший голову ее матери.
Царица Ладикея, гречанка по происхождению, дочь Баттоса из Кирены, находилась около Амазиса и подводила молодых персов к своим детям. Легкая кружевная накидка покрывала затканную золотом пурпурную ткань ее платья. На прекрасной голове ее греческого типа была надета золотая змея – головной убор египетских цариц. Ее лицо было столь же благородно, как и приветливо, и каждое движение ее показывало, что она обладает той грацией, которую в состоянии дать только эллинское воспитание.
После смерти своей второй жены, египтянки Тентхеты, матери наследника престола Псаметиха, Амазис выбрал эту женщину вследствие своего пристрастия к грекам и наперекор сопротивлению жрецов.
Две поместившиеся около Ладикеи девушки, Тахот и Нитетис, считались близнецами, но в них не замечалось никакого следа того сходства, которое вообще привыкли находить в близнецах.
Тахот была блондинка с голубыми глазами, небольшого роста и изящного сложения, между тем как Нитетис – высокая и полная, с черными глазами и волосами, каждым движением своим заявляла о своем происхождении из дома фараонов.
– Как ты бледна, дочь моя, – проговорила Ладикея, целуя Нитетис в щеку. – Будь весела и смотри с уверенностью в будущее. Я привела к тебе брата твоего будущего супруга, благородного Бартию.
Нитетис подняла свои выразительные, темные глаза и устремила долгий, испытующий взгляд на прекрасного юношу. Последний низко поклонился, поцеловал одежду вспыхнувшей девушки и сказал:
– Приветствую тебя, как мою будущую царицу и сестру! Я совершенно уверен, что у тебя сжимается сердце при прощании с родиной, родителями, братьями и сестрами; но не унывай, потому что твой будущий муж – великий герой и могущественный царь; наша мать Кассандана – благороднейшая из женщин, а женская красота и добродетель уважается у персов подобно свету солнца, изливающему жизнь. Тебя же, сестра лилии, Нитетис, которую я рядом с нею желал бы назвать «розою», я прошу простить меня в том, что мы пришли лишить тебя дорогой подруги.
Взоры юноши впились при этих словах в голубые глаза прекрасной Тахот, которая, приложив руку к сердцу, молча поклонилась и еще долго глядела вслед Бартии, когда Амазис увел его с собою, чтобы усадить его на стул против танцовщиц, которые только что начали показывать свое искусство для увеселения гостей. Одежда этих девушек состояла только из одной легкой юбки, и их гибкие фигуры кружились и извивались под звуки арф и тамбуринов. Затем выступили на сцену египетские певцы и фокусники со своими забавными номерами.
Наконец, некоторые придворные, оставив во хмелю свою торжественную сдержанность, вышли из залы. Женщины, в сопровождении рабов, с факелами, отправились домой в пестрых носилках; только военные начальники, персидские послы и некоторые сановники, в особенности друзья Амазиса, были удержаны домоправителем и приглашены в великолепно убранную комнату, где стоял стол, приготовленный на греческий манер, с громадным, красовавшимся посреди него сосудом для смеси вина с водою, приглашавшим к ночному кутежу.
Амазис сидел на высоком кресле во главе стола; по левую руку от него находился юный Бартия, а по правую – престарелый Крез. Кроме него и близких к фараону лиц, здесь находились уже знакомые нам друзья Поликрата, Феодор и Ивик, а также новый начальник эллинской царской стражи Аристомах.
Амазис, который еще так недавно вел серьезный разговор с Крезом, теперь сыпал самыми едкими шутками. Казалось, будто он снова превратился в безумно-веселого командира незначительного звания и беззаботного кутилу прежних времен.
С каким-то искрометным юмором он сыпал шутками и остротами, поддразнивая своих собеседников и подсмеиваясь над ними. Громкий, – часто искусственный, вызванный уважением к остроумию фараона, – смех раздавался в ответ на его шутки; кубок осушался за кубком, и ликование достигло своего апогея, когда домоправитель фараона появился с маленькой вызолоченной мумией и, показывая ее гостям, воскликнул:
– Пейте, шутите и веселитесь, потому что слишком скоро вы сделаетесь подобными вот этой мумии.
– Это напоминание о смерти во время пиршеств, вероятно, вошло у вас в обычай? – спросил у фараона Бартия, сделавшись серьезнее, – или же это твой домоправитель позволяет себе сегодня эту шутку?
– С древнейших времен, – отвечал Амазис, – принято указывать на подобные мумии, для сильнейшего возбуждения веселости пирующих и для напоминания им, чтобы они спешили наслаждаться, пока есть время. У тебя, молодого мотылька, еще много радостных лет впереди; но мы, старые люди, друг Крез, должны серьезно относиться к этому напоминанию. Виночерпий, поскорей наполняй наши кубки, чтобы ни одна минута жизни не проходила бесполезно! Как ты умеешь пить, златокудрый перс! Право, великие боги даровали тебе такое же здоровое горло, как прекрасные глаза и цветущую красоту. Дай поцеловать тебя, очаровательный юноша, негодный мальчик! Моя дочь Тахот не говорит ни о чем другом, как об этом молокососе, который вскружил ей голову сперва нежными взглядами, а потом чарующими словами. Ну, нечего тебе краснеть, юный ветрогон! Мужчина, подобный тебе, имеет право заглядываться на царских дочерей; но будь ты даже сам Кир, твой отец, и в таком случае я не отпустил бы Тахот в Персию!
– Отец! – тихо шепнул фараону наследник престола Псаметих, прерывая его речь. – Отец, удержи свой язык и вспомни о Фанесе.
Фараон окинул сына мрачным взглядом; его веселое настроение было парализовано точно какой-то судорогой, и затем он только изредка вмешивался в разговор, делавшийся все более и более громким и оживленным.
Аристомах, сидевший наискосок против Креза, непрерывно наблюдал за персами, не говоря ни слова и не отвечая смехом на шутки Амазиса. Как только умолк фараон, он с живостью обратился к Крезу и спросил:
– Мне желательно было бы знать, лидиец, покрывал ли снег горы в то время, когда вы покинули Персию?
Удивленный этим странным вопросом, Крез с улыбкой отвечал:
– Большая часть персидских гор была покрыта зеленью, когда мы, четыре месяца тому назад, отправились в Египет; но в царстве Камбиза есть также вершины, на которых даже в самое жаркое время года не тает снег, и они сверкали белизной, когда мы спускались с них.
Лицо спартанца заметно прояснилось. Крез, которому понравился этот серьезный человек, спросил, как его зовут.
– Меня зовут Аристомахом.
– Твое имя небезызвестно мне.
– Ты знал многих эллинов, а многие имеют одно имя со мною.
– Судя по твоему диалекту, ты принадлежишь к дорийскому племени; не спартанец ли ты?
– Я был им.
– А теперь?
– Тот, кто покидает отечество без позволения, подлежит смерти.
– Ты добровольно покинул родину?
– Да.
– Зачем?
– Чтобы избавиться от позора.
– Что же ты сделал дурного?
– Ничего.
– Поэтому тебя несправедливо обвинили в преступлении?
– Да.
– А кто был причиной твоего несчастья?
– Ты.
Крез привскочил с места. Серьезный тон и мрачное лицо спартанца устраняли всякую мысль о шутке.
Соседи обоих, вслушивавшиеся в странный разговор, также испугались и попросили Аристомаха объяснить его странное заявление.
Спартанец колебался. Было видно, что ему неприятно говорить; но наконец, когда и фараон стал просить его рассказать, в чем дело, он начал таким образом:
– Ты, Крез, следуя изречению оракула, избрал нас, лакедемонцев, как самых могущественных из эллинов, в союзники против могущества персов, и подарил нам золото для храма Аполлона Гермеса, на горе Форнаксе. Поэтому эфоры решили подарить тебе громадный, искусно сделанный из меди сосуд для смешанного напитка. Вручить его тебе послали меня. Прежде чем мы достигли Сардеса, корабль наш погиб от бури и вместе с ним – сосуд. Мы спасли только свою жизнь и добрались до Самоса. Когда мы возвратились на родину, то на меня возвели обвинение, будто я продал корабль и сосуд самосским купцам. Но так как меня не могли уличить, а между тем хотели погубить, то я был приговорен простоять два дня и две ночи у позорного столба. Прежде чем занялось утро моего бесчестия, явился мой брат и тайно передал мне меч. Я должен был лишить себя жизни, во избежание позора. Я не мог умереть, так как должен был еще отомстить моим врагам; поэтому я сам отрубил прикованную ногу от колена и спрятался в тростниках Эвротаса. Брат тайно приносил мне пищу и питье. Через два месяца я мог уже ходить вот на этой деревяшке. Аполлон принял на себя мою месть, потому что чума истребила моих злейших противников. Несмотря на их смерть, я не мог возвратиться. В Гифиуме я, наконец, сел на корабль для того, чтобы вместе с тобою, Крез, сражаться в Сардесе против персов. Когда я высадился в Теосе, то узнал, что ты уже более не царь. Могущественный Кир, отец этого прекрасного юноши, в несколько недель покорил сильную Лидию и превратил в нищего богатейшего из царей.
Все пирующие с удивлением глядели на серьезного воина.
Крез пожал его жесткую руку, а молодой Бартия воскликнул:
– Поистине, спартанец, мне хотелось бы взять тебя с собою в Сузы, чтобы показать моим друзьям, что я встретил храбрейшего и честнейшего из людей!
– Поверь мне, юноша, – с улыбкой ответил Аристомах, – что каждый спартанец поступил бы подобно мне. В нашей стране нужно более мужества для того, чтобы быть трусом, чем для того, чтобы быть храбрым.
– А ты, Бартия, – воскликнул Дарий, двоюродный брат персидского царя, – разве вынес бы позор – стоять у столба?
Бартия покраснел, но было видно, что и он предпочел бы смерть позору.
– А ты, Зопир? – спросил Дарий, обращаясь к третьему из молодых персов.
– Я из одной любви к вам изувечил бы себя, – воскликнул этот последний и пожал под столом руки двух своих друзей.
Псаметих посмотрел на юных героев с насмешливой улыбкой, Крез, Гигес и Амазис – с величайшим доброжелательством; египтяне выразительно переглядывались, а спартанец весело посмеивался.
Теперь Ивик рассказал об изречении оракула, пророчившего Аристомаху возвращение на родину с приближением людей из края снежных вершин, и при этом упомянул о гостеприимном доме Родопис.
Псаметих сделался беспокоен при упоминании этого имени; Крез выразил желание познакомиться с престарелой фракиянкой, о которой Эзоп рассказывал ему много хорошего, и когда гости, большею частью упившиеся до бесчувствия, покинули залу, то сверженный с престола царь, поэт, скульптор и спартанский герой сговорились на другой день отправиться в Наукратис, чтобы насладиться разговором с Родопис.
Глава шестая
В ночь после описанного пиршества фараон Амазис имел едва три часа отдыха. Как в другие дни, и на этот раз при первом крике петухов молодые жрецы разбудили его, повели в ванну, одели в царское облачение и проводили к алтарю на дворцовый двор, где он, на виду у народа, принес на алтарь обычную жертву; между тем как верховный жрец громким голосом пел молитвы, перечислял добродетели фараона и, для того, чтобы отклонить от фараона всякое порицание, возлагал всю ответственность за грехи, совершенные им по неведению, на его дурных советников.
Как и всегда, жрецы превозносили его добродетели, уговаривали его творить добро, читали ему места из священных книг о полезных деяниях и советах великих людей, а затем отвели его в комнаты, где его ожидали доклады и донесения из всех местностей государства.
Эти церемонии, повторявшиеся каждый день, Амазис соблюдал неуклонно, и так же добросовестно посвящал все назначенные часы работе, но зато позднейшую часть дня проводил по своему усмотрению, преимущественно в веселом обществе.
Поэтому жрецы упрекали его в том, что он ведет не жизнь фараона; но он однажды ответил разгневанному верховному жрецу: «Посмотри на этот лук; если ты станешь постоянно натягивать его, то он вскоре утратит свою силу; а если ты будешь употреблять его в дело только в течение одной половины дня и затем дашь ему отдых, то он останется тугим и годным к употреблению до тех пор, пока не лопнет тетива».
Амазис только что успел подписать последний доклад, заключавший в себе благоприятный ответ на просьбу одного номарха о выдаче денег на береговые постройки, оказавшиеся необходимыми вследствие наводнения, когда слуга доложил ему, что наследник престола Псаметих просит своего отца уделить ему несколько минут для разговора.
Амазис, находившийся в отличном расположении духа по случаю благоприятных известий из всех частей государства, весело приветствовал вошедшего, но вдруг сделался серьезным и задумчивым. Наконец, после продолжительной паузы, он повелел:
– Поди и проси принца войти.
Псаметих, как всегда бледный и мрачный, переступая через отцовский порог, отвесил глубокий и почтительный поклон.
Амазис ответил ему немым знаком; потом спросил отрывисто и строго:
– Чего тебе нужно от меня? Мое время с точностью размерено.
– В особенности для твоего сына, – отвечал Псаметих, и губы его задрожали. – Семь раз я просил у тебя великой милости, которую ты, наконец, даровал мне сегодня.
– Оставь упреки! Я догадываюсь о причине твоего прихода. Я должен разъяснить твои сомнения относительно происхождения Нитетис.
– Я не любопытен и пришел скорее для того, чтобы предупредить тебя и напомнить, что, кроме меня, еще существует другой, кому известна эта тайна!
– Фанес?
– А кто же иной? Он, изгнанный из Египта и из собственного отечества, через несколько дней покинет Наукратис. Кто ручается тебе в том, что он не выдаст нас персам?
– Доброта и дружба, которую я всегда оказывал ему.
– Ты веришь в благодарность людей?
– Нет, но я доверяю своей способности распознавать их. Фанес не изменит нам! Повторяю тебе, он мой друг.
– Может быть, твой друг, но мой смертельный враг.
– Так и остерегайся его. Мне же нечего опасаться с его стороны.
– Не тебе, но нашему отечеству! О, отец, подумай о том, что если я и ненавистен тебе, как твой сын, то я все-таки должен быть близок твоему сердцу, как будущность Египта. Подумай, что после твоей смерти, от которой да избавят тебя боги на многие лета, – я, как и ты теперь, буду представлять настоящее этой дивной страны, что мое низвержение в будущем сделается равносильно падению твоего дома и погибели Египта!
Амазис становился все серьезнее, между тем как Псаметих с жаром продолжал:
– Ты должен согласиться и согласишься, что я прав! В руках у этого Фанеса – возможность предать нашу страну каждому иноземному врагу, потому что он знает ее так же хорошо, как мы с тобою; далее, в его груди скрыта тайна, разоблачение которой может превратить могущественнейшего из наших друзей в страшнейшего врага.
– Ты ошибаешься! Нитетис хотя и не мое дитя, но все-таки дочь фараона и сумеет расположить к себе сердце мужа.
– Если бы она была даже дочерью какого-либо из богов, то и тогда Камбиз, узнав тайну, сделался бы нашим врагом; ведь ты знаешь, что у персов ложь считается величайшим преступлением, а сделаться жертвою обмана – позором. Ты же обманул самого гордого и могущественного из них; и что будет в состоянии сделать одинокая, неопытная девушка там, где благосклонности владыки добивается сотня женщин, искушенных во всевозможных коварствах?
– Не правда ли, что ненависть и мстительность – лучшие наставники в красноречии? – резким тоном спросил Амазис. – Неразумный сын, неужели ты думаешь, что я затеял такую опасную игру без зрелого обсуждения всех обстоятельств? Пусть Фанес хоть сегодня расскажет персам то, чего он даже хорошенько не знает, о чем он может только догадываться и чего никак не в состоянии доказать! Я – отец и Ладикея – мать лучше всего должны знать, кто наше дитя. Оба мы называем Нитетис нашей дочерью; кто же осмелится утверждать, что это не правда? Если Фанес захочет раскрыть перед другим врагом, кроме персов, слабые стороны нашего государства, то пусть делает это; я не боюсь никого! Неужели ты хочешь уговорить меня согласиться на погибель человека, которому я за многое обязан благодарностью, который верно прослужил мне десять лет и ничем не оскорбил меня? Говорю тебе, что я вместо того, чтобы сделать ему зло, готов защитить его от твоей мести, грязный источник которой мне известен.
– Отец!
– Ты хочешь погубить этого человека, потому что он помешал тебе насильно завладеть внучкой фракиянки Родопис из Наукратиса; потому что я назначил его, вместо тебя, главнокомандующим, так как ты оказался неспособным. Ты бледнеешь? Право, я благодарен Фанесу за то, что он предупредил меня относительно твоих постыдных планов и этим дал мне случай еще более привязать к себе людей, составляющих опору моего престола, которым Родопис очень дорога!
– Отец, как можешь ты превозносить таким образом иноземцев и забывать о древней славе египтян! Брани меня, сколько тебе угодно; я знаю, что ты не любишь меня, но не говори, что мы нуждаемся в чужеземцах для своего величия. Оглянись на нашу историю! Когда были мы всего могущественнее? В то время, когда для всех иноземцев без исключения был воспрещен доступ в наше государство; когда мы, стоя на собственных ногах, веруя в собственные силы, жили согласно древним законам наших отцов и богов. Те времена были свидетелями деятельности Рамзеса Великого, который подчинил нашему победоносному оружию самые отдаленные народы; те времена слышали, как весь мир называл Египет первой, величайшей страной в мире. А что такое мы теперь? Из собственных твоих царских уст я слышу, что ты называешь чужеземных нищих и проходимцев «опорою государства»; я вижу, как ты, фараон, приготовляешь недостойный обман для того, чтобы приобрести дружбу народа, над которым мы одерживали великие победы до тех пор, пока иностранцы не появились на берегах Нила. Земля египетская была богато убранной, могущественной царицей, а теперь она – разрумяненная и обвешанная мишурным золотом развратница!
– Придержи свой язык! – воскликнул Амазис, топнув ногой. – Египет никогда не знал такого процветания и величия, как теперь! Рамзес перенес наше оружие в дальние страны и сделал посредством его кровавые приобретения; но я добился того, что произведения наших рук отправляются на отдаленнейшие окраины света и вместо крови приносят нам сокровища и благосостояние. Рамзес заставлял своих подданных проливать потоки крови и пота для славы своего имени, а я достиг того, что в моем государстве кровь проливается с расчетом, а пот – только при полезных работах, и что каждый гражданин может окончить свое земное поприще в безопасности, счастье и благосостоянии. На берегах Нила находятся теперь десять тысяч густонаселенных мест, не осталось ни одного фута необработанной земли, ни один ребенок в Египте не лишен благодеяний права и закона, ни один злодей не может ускользнуть от бдительного взора властей. А если бы на нас напали враги, то, кроме наших крепостей и других средств обороны, дарованных нам самими богами, то есть водопадов, морей и пустыни, мы имеем для защиты отличнейших бойцов, когда-либо носивших оружие – тридцать тысяч эллинов, кроме египетской касты воинов. Таковы дела в нашем Египте! Некогда он заплатил Рамзесу кровавыми слезами за мишурный блеск пустой славы. Неподдельным золотом истинного гражданского счастья и мирного благосостояния он обязан мне и моим предшественникам, саисским царям!
– А все-таки я говорил тебе, – воскликнул наследник, – что Египет – дерево, в жизненных волокнах которого завелась смертоносная червоточина. Стремление и погоня за золотом, за роскошью и блеском испортило все сердца. Пышность иноземцев нанесла смертельный удар простым нравам наших граждан. Часто приходится слышать, как египтяне, совращенные эллинами, насмехаются над древними богами; раздор и ссоры разъединяют касты жрецов и воинов. Ежедневно доносят о кровавых побоищах между эллинскими наемниками, египетскими воинами, иностранцами и туземцами. Пастырь и стадо ведут борьбу друг с другом; один жернов государственной мельницы стирает другой, пока все здание не рассыплется прахом. Да, отец мой, если я не буду говорить сегодня, то мне никогда не придется этого сделать, и я, наконец, должен высказать то, что тяготит мое сердце! Во время твоей борьбы с почтенным сословием наших жрецов, надежнейшей опорой престола, ты спокойно смотрел, как юное могущество персов, подобно чудовищу, поглощающему народы и делающемуся все прожорливее и сильнее после всякой новой жертвы, подвигалось с Востока на Запад. Вместо того чтобы подоспеть на помощь лидийцам и вавилонянам, как ты сначала намеревался сделать, ты помогал грекам строить храмы для ложных богов. Но, когда, наконец, всякое сопротивление оказалось невозможным, когда Персия подчинила себе полмира и, сделавшись непобедимой, могла требовать от всех царей чего хотела, тогда бессмертные боги, по-видимому, еще раз захотели подать тебе руку помощи для спасения Египта. Камбис посватался за твою дочь; но ты, будучи слишком слаб для того, чтобы пожертвовать собственным ребенком для всеобщего благополучия, посылаешь великому царю подставную невесту и по своей слабохарактерности щадишь иноземца, который держит в своих руках счастье и гибель твоего государства, если оно не рухнет раньше, подточенное внутренним раздором!
До сих пор Амазис, бледный и дрожащий от гнева, выслушивал порицание всего, что было наиболее дорого его сердцу. Но теперь он уже не мог молчать и голосом, раздавшимся в огромной комнате, подобно трубному звуку, воскликнул:
– Знаешь ли ты, чьим существованием я должен был бы пожертвовать, если бы жизнь моих детей и существование основанного мною царского дома не были для меня дороже благоденствия этой страны? Известен ли тебе хвастливый мстительный сын злополучия, тот человек, который сделается разрушителем этого прекрасного древнего царства? Это ты сам, Псаметих, отмеченный богами и внушающий ужас людям, ты, сердце которого не знает любви, грудь – дружбы, лицо – улыбки, а душа – сострадания! Проклятие богов дало тебе пагубный отталкивающий характер, и вражда бессмертных ниспосылает дурной конец твоим начинаниям. Слушай же теперь, так как я должен высказать то, о чем я так долго умалчивал, вследствие родительской слабости. Я свергнул своего предшественника и принудил его выдать за меня свою сестру Тентхету. Она полюбила меня, и через год я имел надежду сделаться отцом. В ночь, предшествовавшую твоему рождению, я уснул, сидя у кровати моей жены. Тогда мне приснилось, что твоя мать лежит на берегу Нила. Она жаловалась мне на боль в груди. Я наклонился к ней и увидал, что из ее сердца вырастает кипарис. Дерево делалось все больше, шире и темнее; а корни обвились вокруг твоей матери и задушили ее. Я похолодел от ужаса. Я хотел бежать, но вдруг с востока поднялся страшный ураган, опрокинувший кипарис таким образом, что широкие ветви погрузились в волны Нила. Тогда река остановилась в своем течении, ее вода отвердела и вместо реки предо мною лежала громадная мумия. Прибрежные города превратились в погребальные урны, которые, точно в могиле, окружали громадный труп Нила. Тут я проснулся и велел призвать снотолкователей. Ни один из них не сумел объяснить удивительный сон; наконец, жрецы Аммона Ливийского объявили мне следующее толкование: «Тентхета лишилась жизни вследствие рождения сына. Этого сына, мрачного, злобного человека, изображает кипарис, удушивший свою мать. Во время его правления народ с востока превратит Нил, то есть египтян, в трупы, а их города – в груды развалин, изображаемые погребальными урнами».
Псаметих, подобно мраморному изваянию, стоял напротив отца, между тем как последний продолжал:
– Твоя мать умерла, дав тебе жизнь, на твоих висках виднелись ярко-красные волосы, знак сынов Тифона, египетского бога зла; повзрослев, ты сделался мрачным человеком; несчастье преследовало тебя, так как ты лишился любимой жены и четверых детей. Подобно тому, как я рожден под счастливым знаком Аммона, ты, по вычислениям астрологов, рожден при восхождении ужасной планеты Сет; ты…
Амазис прервал свою речь, потому что Псаметих, подавленный тяжестью всех ужасов, которых он наслушался, упал и скорее стонал, чем говорил:
– Перестань, жестокий отец, и умолчи, по крайней мере, о том, что я единственный в Египте сын, невинно преследуемый ненавистью родного отца!
Амазис посмотрел на бледного человека, упавшего к его ногам и скрывавшего лицо в складках его платья. Его быстро возгоревшийся гнев превратился в сострадание. Он почувствовал, что был слишком жесток, что своим рассказом бросил в душу Псаметиха ядовитую стрелу, и вспомнил об умершей сорок лет тому назад матери несчастного. В первый раз с давних пор он взглянул как отец и утешитель на эту мрачную личность, отталкивавшую всякое изъявление любви и столь чуждую ему по всем своим воззрениям. Его нежному сердцу теперь в первый раз представлялась возможность осушить слезы в глазах сына, всегда дышавших такой холодностью. С радостной поспешностью воспользовался он этим случаем и, нагнувшись к стонавшему Псаметиху, запечатлел на челе его поцелуй, поднял его и проговорил мягким голосом:
– Прости мой порыв, любезный сын. Нехорошие слова, оскорбившие тебя, вырвались не из сердца Амазиса, а из пасти бешенства. Ты в течение многих лет раздражал меня своей холодностью, ожесточением, своим упрямством и отталкивающим обращением. Сегодня ты оскорбил меня в моих священнейших чувствах, поэтому я и поддался порыву гнева. Теперь все будет хорошо между нами. Хотя мы слишком различны по характерам для того, чтобы наши сердца могли слиться в одно с полной искренностью, но отныне мы будем действовать единодушно и делать уступки друг другу.
Псаметих, молча поклонившись, поцеловал платье отца.
– Нет, не так, – воскликнул Амазис, – поцелуй меня в губы. Вот это другое дело, так должно быть между отцом и сыном! Что же касается до дикого сна, о котором я рассказывал тебе, то не беспокойся. Сны – обманчивые видения; если же они действительно ниспосылаются богами, то их истолкователи подвержены человеческим заблуждениям. Твои руки все еще дрожат, и твои щеки так же белы, как твоя полотняная одежда. Я был жесток к тебе, более жесток, чем отец…
– Более жесток, чем позволяется быть чужому относительно чужого, – прервал фараона наследник. – Ты сломил и уничтожил меня, и если до сих пор на моем лице редко показывалась улыбка, то отныне оно будет зеркалом бедствия.
– Нет, – сказал Амазис, положив руку на плечо сына. – Если я нанес раны, то имею средства залечить их. Выскажи мне самое пламенное желание твоего сердца – и оно будет исполнено!
Глаза Псаметиха сверкнули, бледно-розовый отблеск появился на его мертвенном лице, и он ответил, не задумываясь, таким голосом, в котором еще отзывалось потрясение, испытанное им в последние минуты: