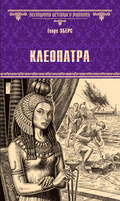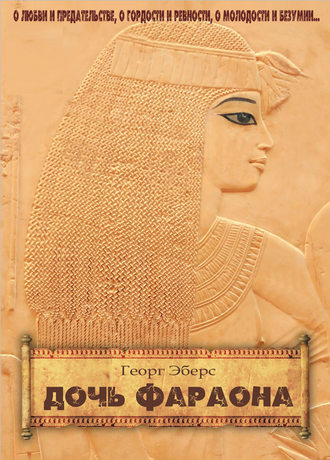
Георг Эберс
Дочь фараона
Глава четвертая
Пять дней спустя после вечера в доме Родопис громадное стечение народа наблюдалось у гавани в Саисе. Египтяне всех возрастов, званий и полов стояли густой массой на берегу.
Воины и купцы в белых, украшенных пестрой бахромой одеждах, длина которых соответствовала более высокому или низкому общественному положению каждого, смешались с большой толпой мускулистых полунагих мужчин, единственное платье которых состояло из передника, одежды человека низкого звания. Нагие дети толпились, толкались и дрались, чтобы захватить лучшее место. Матери, в коротких накидках, высоко поднимали на руках своих малюток, хотя из-за этого лишали себя самих ожидаемого зрелища. Множество собак и кошек дрались у ног охотников до зрелищ, двигавшихся весьма осторожно, чтобы ненароком не наступить на какое-нибудь из священных животных или не поранить их.
Стражники, вооруженные длинными палками, на медных набалдашниках которых виднелось имя фараона, заботились о порядке и спокойствии, в особенности же о том, чтобы, вследствие напора стоящих сзади, никто не был сброшен в сильно вздувшийся рукав Нила, во время наводнения омывавшего стены Саиса, – опасение, во многих случаях оказавшееся основательным.
На широкой береговой лестнице, украшенной сфинксами и служившей пристанью баркам фараона, виднелось собрание другого рода.
Здесь, на каменных скамьях, восседали знатнейшие из жрецов. Многие из них были облечены в длинные белые одежды, другие – в передники, драгоценные перевязи, широкие шейные украшения и шкуры пантер. Одни носили головные, разукрашенные перьями, повязки, прилегавшие ко лбу, вискам и пышным фальшивым локонам, которые спускались до самой спины, другие щеголяли блестящей наготою своих тщательно выбритых черепов. Среди всех главный судья отличался самым богатым и пышным страусовым пером на головном уборе и драгоценным амулетом из сапфира, висевшим на золотой цепочке на груди.
Начальники египетского войска были одеты в пестрое военное платье и имели при себе короткие мечи на перевязях. Часть охранной стражи фараона, вооруженная боевыми секирами, кинжалами, луками и большими щитами, стояла по правую сторону лестницы; по левую стояли греческие наемники в ионийском вооружении. Их новый предводитель, хорошо известный нам Аристомах, стоял отдельно от египтян, с несколькими младшими греческими начальниками, около колоссальных статуй Псаметиха I, воздвигнутых на площадке перед лестницей и обращенных лицом к реке. Перед ними сидел на серебряном седалище наследник престола Псаметих, в пестром, затканном золотом костюме, плотно прилегавшем к его фигуре. Он был окружен знатнейшими царедворцами, советниками и друзьями фараона, имевшими в руках трости со страусовыми перьями и золотыми цветами лотоса.
Народная толпа уже давно заявляла о своем нетерпении криками, песнями и пронзительными восклицаниями; жрецы и аристократия у лестницы, напротив, держали себя с достоинством, храня молчание. Все они в размеренной сдержанности движений, со своими негнущимися, завитыми в локоны париками и накладными, правильно подвитыми бородами имели совершенное сходство с теми статуями, которые неподвижно и серьезно покоились на своих местах, пристально глядя на реку.
Но вот показались вдали шелковые паруса голубого и пурпурно-красного цветов в клетку.
В народе послышались восклицания восторга. Раздавались крики: «Они едут, вот они!» – «Будь осторожен, не наступи на кошку». – «Кормилица, держи девочку повыше, чтобы и она увидала что-нибудь!» – «Ты еще сбросишь меня в воду, Зебек!» – «Посмотри-ка, финикиянин, мальчишки бросают тебе в бороду колючие шишки!» – «Ну, ну, эллин, ты не должен воображать, что Египет принадлежит только тебе одному, потому только, что Амазис дозволяет вам жить на берегах священной реки!» – «Бессовестные сволочи эти греки! Долой их!» – закричал храмовый прислужник. «Долой свиноедов, презирающих богов!» – раздалось повсюду кругом.
Дело стало клониться к драке, но стражники не позволяли шутить с собой и, энергично работая палками, вскоре водворили мир и тишину. Большие пестрые паруса, – явно отличавшиеся от сновавших вокруг них парусов голубых, белых и коричневых, принадлежавших нильским судам меньшего размера, – все более и более приближались к ожидавшей толпе. Теперь встали со своих мест даже сановники и наследник престола.
Хор трубачей фараона разразился веселыми резкими звуками, и первое из ожидаемых судов остановилось на пристани у лестницы.
Довольно продолговатое судно было покрыто богатой позолотой и имело на носу серебряное изображение орла. Посреди барки возвышался золотой балдахин с пурпурным навесом. Под ним длинные диваны были приготовлены для сидения. На передней части судна сидело по обоим бортам по двенадцати гребцов, работавших веслами; их передники придерживались богатыми помочами. Под балдахином лежало шесть человек, пышно одетых и знатных на вид. Прежде чем барка пристала к берегу, младший из пассажиров, с роскошными белокурыми вьющимися волосами, выпрыгнул на лестницу.
При виде его у многих египетских девушек вырвалось невольное восклицание удивления, и даже серьезные лица некоторых сановников осветились благосклонной улыбкой.
Человек, возбудивший такой восторг, назывался Бартия и был сыном умершего и братом царствовавшего персидского царя. Природа дала ему все, чего может желать себе двадцатилетний юноша.
Из-под голубой с белым повязки, обвивавшей его тюрбан, пышными прядями рассыпались густые золотисто-белокурые волосы; в его голубых глазах светились энергия, веселье, доброта, смелость и даже высокомерие; его благородное лицо, опушенное едва пробивавшейся бородой, было достойно резца греческого художника; его стройная, мускулистая фигура показывала большую силу и ловкость. Великолепие его одежды равнялось его красоте. Посреди его тюрбана блестела большая звезда из бриллиантов и бирюзы. Спускавшаяся до колен верхняя одежда из тяжелой золотой парчи придерживалась на боках перевязью, голубою пополам с белым (это были цвета персидского царского дома). К ней был прикреплен короткий золотой меч, рукоятка и ножны которого были густо усыпаны белыми опалами и бирюзой. Шаровары, плотно обхватывающие щиколотку, были также сделаны из золотой парчи и засунуты в невысокие светло-голубые кожаные башмаки.
Сильные, обнаженные руки, видневшиеся через широкие рукава одежды, были украшены несколькими драгоценными золотыми браслетами с бриллиантами. Со стройной шеи спускалась на высокую грудь золотая цепь. Этот юноша первым выпрыгнул на причал. За ним последовал Дарий, сын Гистаса, знатный молодой перс царской крови, подобно Бартии, только одетый немного проще его. Третьим был старик с седыми волосами, на приветливо-серьезном лице которого можно было прочесть добродушие ребенка, опытность старика и ум мужа. Он был одет в длинную пурпурную одежду с рукавами и обут в желтые лидийские сапоги. Вся его наружность производила впечатление совершенного отсутствия претензий, а между тем этот простой с виду старик был, за несколько лет перед тем, человеком, которому завидовали больше всех и именем которого мы через две тысячи с лишком лет называем самых богатейших людей. Это был Крез, низвергнутый с престола лидийский царь, живший в то время как друг и советник при дворе Камбиза и, в качестве ментора, сопровождавший в Египет молодого Бартию.
За ним последовали Прексасп, посланник персидского царя, Зопир, сын Мегабиза, благородный перс, друг Бартии и Дария; наконец, появился стройный, бледнолицый сын Креза – Гигес, который, сделавшись немым на четвертом году от рождения, снова заговорил, вследствие смертельного страха за отца, который он испытал во время взятия Сардеса.
Псаметих спустился со ступеней навстречу гостям. Он старался вызвать любезную улыбку на свое желтоватое суровое лицо. Сановники, следовавшие за ним, склонились почти до земли перед чужеземцами, вместе с тем опустив руки вниз. Персы скрестили руки на груди и пали ниц перед наследником престола. Когда окончились первые формальности, Бартия, к великому удивлению народа, не приученного к подобному зрелищу, по обычаю своей родины поцеловал желтую щеку египетского принца, слегка содрогнувшегося от прикосновения нечистых уст чужеземца, и отправился со своими проводниками к ожидавшим их носилкам, в которых их надлежало доставить в помещение, приготовленное для них во дворце Саиса.
Часть народа бросилась вслед за иностранцами; но большинство зрителей остались на прежних местах, так как они знали, что их ожидало еще не одно никогда не виданное ими зрелище.
– Неужели ты хочешь бежать за разряженною обезьяной и другими детьми Тифона? – спросил недовольный храмовый служитель своего соседа, честного саитского портного. – Говорю тебе, Пугор, да и верховный жрец сказал, что эти чужеземцы не принесут стране ничего, кроме пагубы! Куда исчезло старое доброе время, когда ни один чужеземец, которому была дорога жизнь, не смел ступить на египетскую почву! Теперь наши улицы переполнены лживыми евреями, в особенности этими бесстыдными эллинами, которых да уничтожат боги! Посмотрите-ка, вон уже подходит третья барка, наполненная иноземцами. И знаешь ли ты, кто эти персы? Верховный жрец говорил, что во всем их государстве, которое по обширности равняется половине мира, нет ни одного храма для богов; мумии же своих покойников, вместо почетного погребения, они отдают на растерзание собакам и коршунам!
Портной обнаруживал сильное удивление и еще более сильное негодование; потом он указал пальцем на лестницу у пристани и сказал:
– Клянусь сыном Исиды, Гором, уничтожившим Тифона, вот уже пристает к берегу шестая барка, наполненная иноземцами!
– Да, это плохо! – вздыхая, проговорил храмовый служитель. – Право, можно подумать, что собирается целое войско. Амазис будет распоряжаться таким образом до тех пор, пока иноземцы не лишат его трона и не изгонят из государства, а нас, бедных, не обратят в рабов и не разорят, как когда-то сделали злые гиксосы – люди чумы и черные эфиопы.
– Седьмая барка! – воскликнул портной.
– Пусть нашлет на меня гибель моя повелительница Нейт, великая богиня Саиса, – сетовал служитель храма, – но я не в состоянии понять фараона. Он отправил в богомерзкое гнездо Наукратис целых три грузовых барки для поклажи и прислуги персидских послов; но вместо этих трех пришлось приготовить восемь лодок, потому что, вместе с кухонной посудою, собаками, лошадьми, колесницами, ящиками, корзинами и тюками, эти безбожники и ненавистники покойников за тысячу миль повезли с собою целое полчище слуг. Говорят, что между ними есть такие, которые не делают ничего, только плетут венки и приготовляют мази. Они также привезли своих жрецов, которых называют магами. Хотелось бы мне знать, зачем им эти праздношатающиеся? К чему жрецы, если нет богов и храмов?
Престарелый фараон Амазис Египетский принял персидское посольство вскоре по его прибытии, со всею ему свойственною любезностью. Спустя четыре дня он, окончив свои занятия, которым обыкновенно посвящал без исключения каждое утро, отправился прогуляться в дворцовом саду со стариком Крезом, между тем как прочие персияне отправились, в сопровождении наследника престола, на речную прогулку по Нилу в Мемфис.
Дворцовый сад, устроенный с царским великолепием, но все-таки в плане имевший сходство с садом Родопис, находился вблизи дворца фараона, расположенного на холме, на северозападной стороне города.
Старики уселись в тени развесистой смоковницы неподалеку от огромного бассейна из красного гранита, в который лилась обильными струями прозрачная вода из широко раскрытой пасти черных базальтовых крокодилов.
Лишенный престола фараон, несколькими годами старше могущественного властителя, сидевшего рядом с ним, был на вид гораздо свежее и крепче последнего. Спина высокого ростом Амазиса была согнута, опорой его крепкому туловищу служили слабые и худые ноги; его красивое лицо было покрыто морщинами. В маленьких, блестящих глазах светился бодрый ум, а на его слишком полных губах постоянно играла веселая, а иногда и насмешливая улыбка. Низкий, но широкий лоб старика и его большой, прекрасно сформированный череп свидетельствовали о силе его ума; изменчивый цвет его глаз заставлял предполагать, что остроумие и страстность не чужды этому удивительному человеку, который из простого воина возвысился до престола фараонов. Его язык был резок и груб, а его движения, в противоположность сдержанным манерам других лиц, составлявших египетский двор, казались почти судорожными, но оживленными.
Манеры же соседа были приятны и вполне достойны царя. Во всей его личности проглядывало, что он находился в частых сношениях с лучшими людьми Греции. Фалес, Анаксимен Милетский, Биант Приенский, Солон Афинский, Питтак Лесбосский, знаменитейшие на весь мир греческие мудрецы, в лучшие времена появлялись при Сардесском дворе Креза в качестве гостей. Его полный, ясный голос в сравнении с резким голосом Амазиса звучал точно пение.
– Теперь скажи мне откровенно, – довольно бегло заговорил фараон по-гречески, – как понравился тебе Египет? Я не знаю никого, чье мнение казалось бы мне столь дорогим, как твое, потому что, во-первых, ты знаком с большей частью народов и стран мира; во-вторых, боги судили тебе подняться вверх по лестнице и снова спуститься по ней вниз; в-третьих, ты не напрасно был первым советником могущественнейшего из всех царей. Мне бы хотелось, чтобы мое царство понравилось тебе в такой степени, чтобы ты согласился остаться при мне в качестве брата. Право, Крез, ты уже давно друг мне, хотя только вчера боги дали мне увидеть твое лицо!
– А ты – мой друг, – прервал его лидиец. – Я удивляюсь мужеству, с которым ты, вопреки всем окружающим тебя, умеешь осуществить то, что признаешь хорошим; я благодарен тебе за благосклонность, с которою ты относился к моим друзьям-эллинам. Я считаю тебя своим родственником по сходству нашей судьбы, потому что и ты испытал на себе все благополучие и горе, могущее встретиться в жизни!
– С той разницей, – улыбаясь заметил Амазис, – что мы начали с различных концов. На твою долю сперва выпало хорошее, а потом дурное; со мною же случилось наоборот; то есть если я предположу, – задумчиво прибавил он, – что я доволен своим настоящим счастьем.
– А я, – возразил Крез, – если сознаюсь, что страдаю от своего так называемого несчастья.
– А как же могло быть иначе после утраты таких огромных сокровищ?
– Разве счастье зависит от обладания? – спросил Крез. – И разве, вообще, счастье есть обладание? Счастье есть представление, чувство, даруемое завистливыми богами неимущему чаще, нежели могущественному. Ясный взгляд последнего ослепляется блистательными сокровищами, и он всегда должен страдать от неудач, так как он, в осознании своей возможности достигнуть многого, постоянно терпит поражение в борьбе за обладание всеми благами, которыми он желает обладать и которых не может достигнуть.
Амазис вздохнул и сказал:
– Я бы желал быть в состоянии не согласиться с тобой, но когда вспомню о своем прошлом, то должен сознаться, что с того самого часа, который принес мне так называемое счастье, начались великие заботы, тяготящие мою жизнь.
– Уверяю тебя, – перебил его Крез, – что я благодарен тебе за твою запоздавшую помощь, так как минута невзгод впервые доставила мне чистое, истинное счастье. Когда первые персы взошли на стены Сардеса, я проклинал самого себя и богов, жизнь казалась мне ненавистной и существование – проклятием. Сражаясь, отступал я вместе со своими, предаваясь отчаянию. Тут персидский солдат поднял меч над моею головою, мой сын схватил убийцу за руку, и, впервые после многих лет, я снова услыхал его голос из уст, разверзшихся от ужаса. Мой немой сын Гигес в ту жуткую минуту снова обрел дар слова, и я, проклинавший богов, преклонился перед их могуществом. У раба, которому я приказал убить меня, как только я попаду в плен к персам, я отнял меч. Я сделался другим человеком и мало-помалу сумел победить постоянно пробуждавшееся во мне озлобление против своей судьбы и моих благородных врагов. Ты знаешь, что я, наконец, сделался другом Кира, что мой сын мог расти подле меня свободным человеком и вполне владея своим языком. Все, что я видел, слышал и передумал прекрасного в течение своей долголетней жизни, я собрал, чтобы передать ему; теперь он сделался моим государством, моей короною, моей сокровищницею. Видя наполненные заботою дни и бессонные ночи Кира, я со страхом вспоминал прежнее свое величие и могущество и все с большей ясностью понимал, где следует искать истинное счастье. Каждый из нас носит скрытый зародыш его в своем сердце. Довольное, терпеливое настроение, ощущающее сильную радость при виде прекрасного и великого, но не оставляющее без внимания и мелких явлений, принимает страдание без жалоб и услаждает их воспоминаниями. Сохранение меры во всех вещах, твердое упование на милость богов и уверенность, что все, даже самое худшее, должно пройти, так как все подвергается изменению, – все это способствует созреванию зародыша счастья, скрытого в нашей груди, и дает нам силу с улыбкой относиться к тому, вследствие чего человек неподготовленный впал бы в уныние и отчаяние.
Амазис внимательно слушал, чертя на песке фигуры золотым набалдашником своей палки, на котором была изображена собачья голова, потом сказал:
– Поистине, Крез, я, «великий бог», «солнце справедливости», «сын Нейт», «повелитель военной славы» (титулы, даваемые мне египтянами), готов завидовать тебе, ограбленному и низверженному с трона. Некогда я был счастлив, как ты теперь, весь Египет знал меня, бедного сына сотника, благодаря моей веселости, плутовским проделкам, легкомыслию и задору. Простые солдаты носили меня на руках; начальники многое во мне находили достойным порицания, но безумному Амазису все сходило с рук; мои товарищи, младшие командиры в войске, не умели веселиться без меня. Но вот мой предшественник Хофра отправил нас в поход против Кирены. Изнемогая в пустыне, мы отказывались идти далее. Подозрение – будто фараон хочет принести нас в жертву эллинским наемникам, переросло в открытое восстание. Я, по обыкновению шутя, воскликнул, обращаясь к друзьям: «Ведь без фараона вы не обойдетесь, так сделайте меня своим повелителем; более веселого вы не найдете нигде!» Солдаты услыхали эти слова. «Амазис хочет быть фараоном!» – пробежало по рядам, от одного к другому. «Добрый, счастливый Амазис пусть будет нашим фараоном!» – этим восклицанием встретили меня через несколько часов. Один из товарищей по кутежам надел на меня шлем главнокомандующего; я превратил шутку в серьезное дело, большинство солдат оказалось на моей стороне, и мы разбили Хофру при Мемфисе. Народ присоединился к заговору. Я взошел на престол. Меня называли счастливым. Будучи до тех пор другом египтян, я теперь сделался врагом лучших из них. Жрецы поклонялись мне и приняли меня в свою касту, но только потому, что надеялись управлять мною совершенно по своему произволу. Мои прежние начальники завидовали мне или же хотели обращаться со мною по-прежнему. Ты понимаешь, что это не согласовалось с моим новым званием и могло бы ослабить внушаемое мною уважение; поэтому я однажды показал пировавшим у меня начальникам войска, захотевшим снова без церемонии шутить со мною, золотой таз, в котором им омывали ноги перед началом пиршества. Спустя пять дней, когда они снова пировали у меня, я приказал поставить на изукрашенный стол золотую статую великого бога Ра. Едва только увидели ее, они пали ниц, чтобы поклониться ей. Когда они встали, я взял скипетр, высоко и торжественно поднял его вверх и воскликнул: «Это изображение божества художник сделал в пять дней из того ничтожного сосуда, в который вы плевали и в котором омывали ваши ноги. Я сам когда-то был подобным сосудом, но божество, умеющее творить скорее, чем золотых дел мастер, сделало меня вашим фараоном. Итак, повергайтесь ниц и поклоняйтесь мне. Отныне тот, кто окажется непослушным или забудет воздать уважение фараону, наместнику Ра на земле, будет обречен на смерть». Они пали ниц все, решительно все. Моя власть была спасена, но друзей своих я потерял. Теперь мне необходима была другая опора. Я приобрел ее в эллинах. Относительно способности к военной службе один грек стоит более пятерых египтян; это я знал очень хорошо и, основываясь на этом, решился осуществить то, что считал полезным.
Меня постоянно окружали греческие наемники. От них я научился их языку, они познакомили меня с благороднейшим человеком, которого мне когда-либо удавалось встречать, – с Пифагором. Я старался ввести у нас греческие нравы и греческий язык, так как убедился, что упорно придерживаться обратившегося в обычай худшего там, где лучшее находится под рукою и только ждет, чтобы его посеяли на египетских нивах, – просто бессмысленно.
Я правильно разделил всю страну, организовал городскую стражу, наилучшую в целом свете, и привел в исполнение многое; но моя высшая цель – ввести греческий дух, греческие формы, греческое наслаждение жизнью и свободное эллинское искусство в эти богатые и вместе с тем столь мрачные страны, – потерпела крушение на той скале, которая каждый раз, как только я предпринимаю что-либо новое, грозит мне низвержением и гибелью. Жрецы – вот моя преграда, мои противники, мои повелители. Они, с суеверным благоговением придерживающиеся всего, освященного временем; они, для которых все иноземное есть предмет ужаса и которые считают каждого иностранца естественным врагом их власти и учений, управляют набожнейшим из всех народов почти с неограниченной властью. Поэтому-то мне пришлось пожертвовать им прекраснейшими из моих планов, поэтому-то, согласно их предписаниям, моя жизнь должна проходить во всевозможных стеснениях, и я умру неудовлетворенным, будучи лишен даже уверенности – согласится ли эта негодующая гордая толпа посредников между божеством и смертными дать мне успокоение в могиле!
– Клянусь Зевсом-избавителем, бедный мой счастливец, – с участием прервал его Крез, – я понимаю твои сетования. Хотя я в течение своей жизни знавал много отдельных личностей, безрадостно и мрачно проходивших жизненный путь, но я все-таки не подозревал о существовании целой породы, которой по наследству достается мрачность души, как змеям их яд. Скольких жрецов ни видал я на пути моем сюда и при твоем дворе, у всех у них я заметил мрачные лица. Даже юноши, прислуживающие тебе, улыбаются весьма редко, между тем как веселье, подобно цветам весною, принадлежит юности, как прекрасный дар божества.
– Ты бы ошибся, если бы вздумал считать мрачными всех египтян, – отвечал Амазис. – Наша религия действительно требует серьезного помышления о смерти, но ты вряд ли найдешь другой народ, более склонный к насмешливым шуткам и, в случае празднества, способный веселиться с редкостным самозабвением и размашистым разгулом. Но вид иноземцев ненавистен жрецам, и на мой союз с вами они смотрят с мрачным ропотом. Те мальчики, о которых ты упоминал, сыновья знатнейших между ними, составляют величайшую отраву моей жизни. Они служат у меня рабами и послушны малейшему знаку с моей стороны. Людей, отдающих своих детей для подобного дела, следовало бы считать самыми послушными, почтительными слугами царя, которому воздается божеское почтение, но поверь мне, Крез, именно в этой преданности, отклонить которую не в состоянии ни один властитель, не нанеся оскорбления, кроется ловкий и хитрый расчет. Каждый из этих юношей – мой сторож и наблюдатель. Я не могу шевельнуть рукой без их ведома, и каждый мой жест немедленно передается жрецам.
– Но как же ты можешь выносить подобное существование? Изгони всех соглядатаев и выбери себе слуг, например, хотя бы из касты воинов, которая может быть тебе полезной не менее жрецов!
– Если бы я только мог это сделать! – воскликнул Амазис громким голосом. Затем он продолжал тише, точно испугавшись своей горячности. – Мне кажется, что наш разговор подслушивают. Завтра прикажу вырвать с корнями вон тот финиковый куст. Юному жрецу, любителю садовых прогулок, который там срывает едва дозревшие финики, нужны плоды совершенно другого рода, нежели те, которые он так медленно кладет в свою корзину. Рука собирает плоды с дерева, а ухо – слова из уст фараона.
– Но клянусь отцом Зевсом и Аполлоном…
– Я понимаю твое негодование и разделяю его; но каждое звание налагает обязанности; и, в качестве фараона этой страны, оказывающей божественное благословение всем укоренившимся нравам, я должен подчиняться, по крайней мере в главных пунктах, придворному церемониалу, существующему несколько тысяч лет. Если бы я захотел разорвать эти цепи, то могло бы случиться, что моему трупу было бы отказано в погребении. Я должен сказать тебе, что жрецы назначают посмертный суд над каждым покойником и лишают могильного успокоения того, кого признают виновным. Уважение к моему сыну обеспечило бы погребение моей мумии, но каким образом отнеслись бы к моему телу те, которые стали бы совершать жертвоприношения в моей гробнице…
– Какое тебе дело до гробницы! – с негодованием перебил Крез. – Жить следует для жизни, а не для смерти!
– Скажи лучше, – возразил Амазис, поднимаясь со своего места, – что мы, разделяющие греческие понятия, считаем прекрасную жизнь за высшее благо; но, Крез, я родился от отца-египтянина, вскормлен матерью-египтянкой, вырос на египетской пище, и хотя усвоил себе кое-что эллинское, но все-таки в глубине своего существа остаюсь египтянином. То, о чем напевали тебе в детстве, что представляли святынею в юношеском возрасте, находит отголосок в твоем сердце до тех пор, пока тебя не обернут пеленами мумии. Я старик, и мне осталось недалеко идти до того пограничного камня, за которым начинается вечность. Неужели же мне, ради немногих дней жизни, портить бесконечные тысячелетия смерти? Нет, друг мой, я остался египтянином, подобно каждому из моих соотечественников, я твердо и неуклонно верю, что сохранение моего тела, вместилища души, тесно соединено с благоденствием моей второй жизни, хотя бы я и не был сочтен достойным слиться с душою мира и, сделавшись частью ее, принимать, в качестве Озириса, участие в управлении мирозданием. Но довольно об этих возвышенных вещах, открывать которые, во всей их глубине и величии, непосвященным мне запрещает великая клятва. Ответь мне лучше на мой вопрос, как нравятся тебе наши храмы и пирамиды?
Крез задумчиво отвечал:
– Каменные глыбы пирамид представляются мне созданными необозримой пустыней, пестрые колоннады храмов – произведением пышной весны; но если сфинксы, ведущие к воротам, указывают дорогу в святилище, то косые, подобные укреплениям, стены пилонов кажутся воздвигнутыми для защиты. Таким же образом и пестрые иероглифы привлекают взоры, но своею таинственностью отталкивают пытливый ум. Изображения ваших многообразных богов стоят повсюду; они неотразимо бросаются в глаза, а между тем всякий догадывается, что они означают нечто совершенно отличное от того, чему они служат изображением, что они суть только осязательные воспроизведения глубоких мыслей, едва доступных пониманию многих людей. Всюду возбуждается мое любопытство, но нигде мое теплое сочувствие всему прекрасному не находит приятного удовлетворения. Мой ум желал бы проникнуть в тайны ваших мудрецов, но сердце и понимание должны оставаться чуждыми тем основным воззрениям, на которых построены ваше мышление, существование и действия и которые, по-видимому, учат, что жизнь есть только короткий путь, ведущий к смерти, а смерть, напротив того, есть истинная жизнь в собственном смысле!
– И, однако, жизнь, которую мы стараемся украшать шумными празднествами, и у нас ценится в полном ее значении, и у нас боятся ужасов могилы и стараются избегнуть смерти. Наши врачи не пользовались бы таким уважением и широкой известностью, если бы в них не признавали искусства продлить наше земное существование. Кстати, я вспомнил о глазном враче Небенхари, которого я послал царю в Сузу. Оправдал ли он свою репутацию? Довольны ли им?
– Подобный представитель делает честь науке твоей страны, – отвечал Крез. – Он же обратил внимание Камбиза на привлекательность твоей дочери. Небенхари помог не одному слепцу; но мать царя, к несчастью, все еще лишена зрения. Мы, впрочем, сожалеем, что столь искусный человек умеет лечить только одни глаза. Когда дочь царя, Атосса, заболела горячкой, то невозможно было уговорить Небенхари дать ей врачебный совет.
– Это очень естественно, потому что наши врачи лечат всегда только одну какую-нибудь часть тела. У нас есть лекари ушные, зубные и глазные, врачи для лечения перелома костей, для внутренних болезней. Ни один зубной врач не может, по древним законам жрецов, лечить глухого, ни один из занимающихся болезнями костей не может лечить брюшных страданий, хотя бы в совершенстве понимал внутренние болезни. Посредством этого закона хотят достигнуть более основательного изучения отдельных отраслей медицинской науки. Вообще жрецы, к числу которых принадлежат и лекари, занимаются науками с похвальным рвением. Вон там находится дом верховного жреца Нейтотепа, чьи познания в астрономии и измерениях восхвалял даже сам Пифагор. Этот дом граничит с залою, ведущей в храм богини Нейт, повелительницы Саиса. Мне бы хотелось иметь возможность показать тебе священную рощу с ее великолепными деревьями, прекрасные колонны святилища, капители которых подобны цветам лотоса, и колоссальную гранитную часовню, которая, по моему приказанию, сделана в Элефантине из одного цельного камня, чтобы посвятить ее богине. К сожалению, жрецы просили меня не вести даже и вас далее окружающих храмы стен и пилонов. Пойдем теперь к моей жене и моим дочерям; все они полюбили тебя, и я желаю, чтобы ты полюбил бедную девочку прежде, чем отправишься с ней в дальнюю страну и к чужим людям, царицею которых она должна сделаться. Не правда ли, ты примешь ее под свое покровительство?
– Будь уверен в этом, – сказал Крез, отвечая на рукопожатие Амазиса. – Я буду отечески заботиться о твоей Нитетис, а она будет иметь во мне нужду, так как женские комнаты персидских дворцов имеют весьма скользкий пол. Впрочем, к ней будут относиться с великим уважением. Камбиз может быть доволен своим выбором и высоко оценит то, что ты доверишь ему свое прекраснейшее дитя. Хотя Тахота привлекательна не менее Нитетис, но все-таки ей недостает того величия, которым отличается последняя и которое так идет будущей персидской царице. Небенхари говорил только о твоей дочери Тахоте.