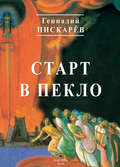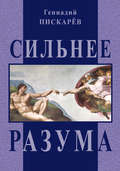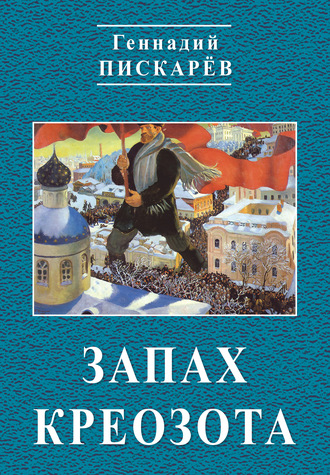
Геннадий Пискарев
Запах креозота
Г.А.: То, о чём говорилось уже выше. Ну, и, конечно же, способность чувствовать основное историческое движение жизни, слышать её живые голоса, нередко прерываемые шумом так называемого информационного взрыва.
Чтобы учить, надо много знать и верить в то, чему ты учишь. Это не должно быть лицемерием. Сейчас всё быстро делается, но я всё равно считаю: нужно глубже «всматриваться» в людей. Чтобы писать о человеке, надо хотя бы нравственно сравняться с ним.
– Как? И с негодяем? Самому пасть?
– Вергилий вёл Данте по аду, свёл поэта с величайшими грешниками. Но тот, познав их, воспел свет, Беатриче.
И вот ещё что. Сейчас, к сожалению, всё решает «скоропалительность». Но, тем не менее, если мы хотим жить в своём Отечестве, среди своего народа, то придётся народ спасать. Разумеется, сейчас мы поднялись на какой-то другой социальный уровень.
«Вступила родина на новую дорогу.
Господь! Храни её и укрепляй.
Отдай нам труд, борьбу, тревогу,
Ей счастие отдай» – некрасовские стихи.
А мы всё браним предшественников советских, что пели душевно:
«Была бы родина богатой да счастливою,
А выше счастья родины нет в мире ничего».
Вернёмся ж на родину, люди добрые.
Она так ждёт прихода – «у пруда, под ивою».
Корр.: Журналисты изменились, а вот читатели?
Г.А.: Сейчас люди, повторяю, мало читают, особенно умное. А ведь нет греха, кроме глупости. Все как-то «самовыражаются», но это было и раньше. Правда, раньше являлись иногда гении, которые могли «самовыражаться» талантливо и стать примером. Они могли всё как-то сконцентрировать и выдать творение, которое становилось эталоном, учебником жизни. Сейчас гениев вроде бы и нет, а «самовыражаться» хочет каждый.
Я иногда давал почитать во дворе свои вещи. У меня была книжонка, в которой написал о своей малой родине, рассказал небольшую историю, но не через своё восприятие, а глазами окружающих людей. Дал эту книгу одному своему дальнему родственнику – будущему журналисту. Родственник поразился: «Ой! А что, можно так писать?» Он прочитал брошюру, дал её своим товарищам. В итоге – прочёл весь их факультет, и книжку затёрли до дыр. Видимо, интерес-то есть.
Вот Шолохов: его же считают сталинским сатрапом, мол, «Поднятая целина» воспела раскулачивание… Ничего подобного, наоборот! Когда сейчас перечитываешь роман незашоренными глазами, понимаешь: как же правдиво, с какой болью это всё отражено!
Корр.: Будь Вам сейчас 20 лет. Чем бы Вы занялись в первую очередь?
Г.А.: Я бы изучил свою родословную. Надо знать своих предков, понять их поступки и не винить за то, что сделали они когда-то что-то не так. Об этом, знаете, Даниил Андреев в «Розе мира» хорошо сказал: упрекать предков за их, скажем, непредусмотрительность – это всё равно, что упрекать строителя российского флота Петра I за несоздание им современной авиации.
Мусульмане, как мне известно, знают всех членов своего клана до одиннадцатого колена. Я же своих предков знаю лишь до третьего от силы. А ведь какие были люди! Деды у меня на Бородинском поле воевали, и в Полтавском сражении участвовали. И такая штука: я, например, женился на девушке – Татьяне Скрицкой. Её предки по отцу во времена Екатерины бунтовали. Тогда их усмирял сам Суворов, многих отправили в Забайкалье. Как и прадедов моего тестя – советского генерала и сталинского сокола. Интересно, не правда ли?
Недавно мы отмечали юбилей Н.Н. Дроздова. Говоря заздравный тост, я не мог отметить, что прадед Николая Николаевича – святитель Филарет (Дроздов) являлся духовным руководителем архитектора Тона, создавшего Храм Христа Спасителя, редактировал манифест царя Александра II об освобождении крестьян от крепостной зависимости и сохранил нам А.С. Пушкина как национального гения. Пушкин был убит на дуэли. Хоронить его следовало вне церковной ограды. Представляете, что было бы, если Пушкина так и схоронили. Какой козырь был бы дан в руки всякого рода раскольникам отчизны нашей. Филарет отстоял перед царём право захоронения поэта по христианским правилам, сделав тем самым Александра Сергеевича объединяющим началом всех нас. Вот ведь как бывает.
Корр.: Мы учимся на кафедре печати, и она у нас самая большая по численности. Каково будущее печатных СМИ?
Г.А.: Университет – это счастье наше. Вот мы пришли учиться. Что мы на первом курсе изучаем? Древнерусскую литературу. У нас была преподавательница Татаринова. Так вот она нам Библию читала, Евангелие. Преподносила их как памятник культуры, обращала внимание на образность святого писания, на яркость, на умение апостолов изумительно выразить мысль. Будучи сестрой известного драматурга Корнейчука, написавшего пьесу «Фронт», Татаринова высказывала такие мысли о войне и мире, значение которых осознал я, только дожив до сегодняшнего расхристанного времени. Она говорила о человеческом разуме, который един и который может покончить с предрассудками наций. До тех же пор пока в войне видят зло, она всегда будет обладать известной привлекательностью. Когда в ней научатся видеть вульгарность, она не привлечёт никого. Конечно, такая перемена произойдёт не скоро. Но должна произойти. Страна, народ, объявляя войну другой стране, непременно вспомнят, что тем самым они рушат и себя, и собственную культуру. Воевать – ненавидеть. И разве можно создать песнь ненависти, как говорил Гёте, не ненавидя! Песнь ненависти… Это же противно человеческой сути.
Но о печатном слове, газетах. Они, по-моему, что книги. Они раритет, материальное воплощение культуры. То, что прозвучало на радио, телевидении – блеснуло и ушло в небытие.
Быть может, я тут немножко утрирую, отстаиваю честь газетного мундира. Но, право, уверен на все сто: запечатлённое, вырвавшееся из страстной груди слово будет востребовано всегда. Вспомним стихи Николая Рубцова о не земной радости человека, способного:
«В своей руке
Сверкающее слово
Вдруг ощутить,
Как молнию ручную!»
Постскриптум
Выше приведённое интервью было опубликовано в научно-практическом издании «Идеи и новации». Цитировалось на слёте молодых журналистов в Дагомысе, рекомендовалось к изучению на факультете журналистики.
В альманахе были приведены беседы со многими представителями СМИ старшего поколения. Понимаю, всего того, что наговорили мы, старики, вместить разом не смогло бы никакое издание.
Я, например, «растекался по древу» перед юными слушателями чуть ли не четыре часа. А в итоге напечатано то, что вы только что прочитали.
Но тщеславие распирает. И так хочется поведать, хотя бы кратко, о том, что осталось за бортом. Извините, но, может и пригодится это кому-то.
«Писаная торба»
Оппоненты – не студенты, разумеется, не раз одёргивали меня: «носишься со своей деревней, как дурак с «писаной торбой». «Чего тогда торчишь в Москве, езжай в свою берлогу».
Н-да… Пушкина тоже гнобили за русскость вельможи, прозападники, кричали даже: «Исписался Александр Сергеевич!».
Нет теперь моей родовой деревни (заросла лесом), по поводу которой говорил и говорю: «Ох, если бы жива была она, от которой впитал я великорусский говор, своеобразный, богатый великими смыслами, отливающий необыкновенными оттенками чувств и человеческой красоты, – я положил бы её ногам всё, что скопил приобрёл и что делал, уверен теперь, лишь бы только добиться признания её и одобрения. Её – и никого больше.
Многого захотел.
Для этого надо быть по крайней мере пророком. Но ведь нет пророка в своём отечестве («Святое писание») и стремится талант в Париж, чтобы блистать (Оноре де Бальзак).
Расул Гамзатов стал поэтом мира из-за «Журавлей». Но мало кто знает, что во всемирно известной песне пришлось изъять для этого несколько строф, которые подчёркивают принадлежность поэта не миру, а сугубо Дагестану, не всем народам, а – исключительно аварцам. Вот эти строфы:
Они (журавли – Г.П.) летят, свершая путь свой долинный,
И выкликают чьи-то имена.
Не потому ли с кликом журавлиным
От века речь аварская слышна.
Не получается, выходит, отдать право только малой родине на твоё признание. Местечковостью, хуторским национализмом отдаёт. Это – не для меня, не для русского человека, со свойственной ему мировой отзывчивостью.
Малая Родина – корни, без которых нет ветвей и кроны. Вот такая это «писаная торба».
Материнская правда
Странно вроде бы, но моя мать мало рассказывала мне об отце, о его гибели на войне, наверное, героической, – так было означено в казённой похоронке: «пал смертью храбрых». Беззаветно любила мать брата Костеньку, единственного оставшегося в живых фронтовика из нашего рода, но… опять же я не слышал восхищения его военными подвигами.
Война – для неё была чем-то большим, чем зло, боль, огонь, страх, отчаянье и т. д. Чем же?
Как-то блокадница – тётка Дуня, жившая у нас, говоря о солдатах, погибших в бою, сказала, что они не попадут в рай. Не попадут они и в ад. Они упокоятся во рвах – нейтральных.
– И фашисты тоже? – вырвалось у меня, мальчонки.
– И фашисты, убитые в боях нашими солдатами.
В «сути человека», вспоминая суждения о войнах и национальных предрассудках народов преподавательницы нашей в МГУ Татариновой, я рассказывал слушавшим меня молодым журналистам, что эту память во мне всколыхнуло именно материнское и тётки Дунино миропонимание вселенской трагедии.
Конечно, простые женщины говорили не профессорским языком, но мысли у них были академические.
… Как-то, толкуя с моим шурином, дипломатом Гелием Скрицким, говорившим о том, что народам надо больше быть связанными экономическими узами, торговлей, тогда и вероятность войны уменьшится, – полуграмотная крестьянка деревни Пилатово Марья Михайловна Пискарёва тихо молвила:
– Гелий, солнышко, мы, видимо, неплохо торговали с Германией в канун войны. Мой младший брат, служивший в Бресте, писал, что последний эшелон с зерном ушёл от нас к немцам в три часа 22 июня 1941 года. А в четыре часа фашисты бомбили Киев.
Во, как осадила, «срезала» мать дипломата – профессионала. А что? Многие неглупые люди пытались и пытаются научить людей братству сугубо через коммерческий смысл. Но это, и мне теперь кажется – аппеляция к самым, увы, низким инстинктам. Мир – не базарная площадь. Интересы торговцев – вовсе не гарант от войны. Неужели это чувствовала моя мать?
Каин и Авель
Слышим, уверяем: украинцы и русские – единый народ. Украинцы и русские – братья.
Так-то оно так: все люди – братья. Каин и Авель – тоже. Да убил же второй первого. Дети Адама и Евы, внуки самого Господа Бога, а поди ты, что натворили.
И почему произошло первое смертоубийство? Из-за ревности.
Авель – животновод. Более ароматный и приятный для обоняния деда жертвенник возжёг – из мяса.
Каинов-то – из хлеба – был оценён Всевышним не столь высоко.
А если бы одинаковыми оказались жертвенники? Не состоялось бы тогда первое кровопролитие? Кто знает, может бы и не состоялось. И человечество пошло бы в своём развитии совсем по иному пути.
Хотя неопределённость выражения «кто знает», здесь не очень уместна. Бог, только Бог, знает к чему могли бы привести дороги, по которым мы не пошли.
Заноза
Есть такое расхожее суждение: интеллигенция – заноза для властвующего режима. Казалось бы, мне, деревенщику с матёрой философией о правде – матке, идущей только от земли, зубами надо ухватиться за подобную мысль.
Но я говорю: чепуха это, что интеллигенция – заноза для режима власти. И нечего жонглировать фактами репрессий в отношении её в советское время. Что-то большевики не «гнобили» Тимирязева, да и Туполева с Курчатовым не расстреляли.
Ах, забыл, они ведь прагматики, большевики-то, для своей пользы, с кем угодно могли в союз вступить.
Да, материалисты они. Только эти материалисты почему-то оставили неприкрытыми интересы СССР, казалось бы, на самом важном участке – со стороны науки, открыв двери новой физике, основой коей были, что видно невооруженным глазом, идеалистические воззрения. Не это ли позволило заявить физику Владимиру Ильину (не путать с философом Иваном Ильиным), что «в конце концов такие понятия, как большевизм, социализм и коммунизм это всего лишь разновидности идеализма, а материализм используется только в качестве дымовой завесы».
Занозой интеллигенция становится, когда она начинает киснуть, бродить, выделять отравляющие миазмы. Конечно, что бы дерьмо не воняло, его надо или засушить или заморозить. А лучше эту гадость удалить, вырвать. Терапия тут, пожалуй, бессильна. Не случайно же древние медики, борясь с опасными недугами человека, предпочитали ей хирургическое вмешательство и калёное железо.
И, впрямь, разве можно таблетками – увещеваниями вылечить, например, нынешних русофобов, всяких там «пивобродных» и «сытых».
Уничтожать физически – тоже не дело. Не то время, правильно не поймут. Потому призывать к сему никак не могу, не дождётесь.
Остерегаться надо гадюк. Не заигрывать с ними – а обходить, и не дремать, как карасям в водоёме, где щука ходит.
В 90-е годы, годы уничтожения нашей страны, понятно, смертоносная деятельность, уродство человеконенавистников всячески поощрялись.
Но сейчас-то…
Откуда берутся такие особи? Запад засылает?
А откуда взялся Семён Трубников, сыгранный столь неистово актёром Лапиковым в «Председателе»? Чего стоит сцена, когда он в истерике топчет молочный шланг на колхозной ферме, бросает кружку молока, протянутую ему сердобольной дояркой, кричит, задыхаясь от злобы, брату – председателю (артист М.Ульянов):
– Не надо мне ничего от тебя, ни заработка, ни хорошей жизни!
За что можно не любить так родину, родившую, вскормившую тебя, которая велика и благородна. Красива наконец. В силу только собственной внутренней шкодливости? Нет, это мелкое объяснение. Скорее всего, о чём говорилось уже, – «Каиновой печатью» предопределяется это, надеждой защиту найти в тех же штатах – в том Вавилоне, что «яростным вином блуда напоил народы». Но пал ведь, пал Вавилон!
Не приручайте змею: всё равно укусит.
Отцы и дети
Конфликт между ними извечный. Но понимаемый и принимаемый.
Дети – живут в миру, варятся в его страстях, срываются, падают, свершают грехи.
Отцы – они уже поднялись над этим, от греха земного как бы оторваны.
Иисус Христос, свершая земной путь до 33 лет, был тоже подвержен искушениям. Он был сыном земной матери. Но… и сыном божиим. Он мог преодолеть свои страсти, испив мирскую чашу, пострадать за наши прегрешения и вознестись на небеса – к отцу – Богу.
Реальные отцы реальных детей – не боги. Им трудно даётся согласие между собой. Это извечно. Но… временно.
Копьё Лонгина
Немецкий математик Гилберт об одном из своих способных учеников, но оставивших науку, сказал: «Он стал поэтом… Для математики, ему не хватало воображения».
Чудеса, да и только. Кстати, этот же самый Гилберт, ставивший математическую фантазию выше поэтической романтики, предлагал все достигнутые научные открытия аксиоматизировать, то есть принять как незыблемый, не подлежащий сомнению, постулат – вроде таблицы умножения.
Встреча, состоявшееся прошлым летом в Домжуре с легендой отечественного военного ракетостроения, создателем «Копья Лонгина» – ядерного оружия, остудившего горячие головы заокеанских (и не только) милитаристов, Юрием Семёновичем Соломоновым, оставила у всех нас, собравшихся на презентацию его поэтических этюдов на исторические темы, мало сказать неизгладимое, – ошеломляющее впечатление.
Кое-кто из нас, заворожено-потрясенных такого рода творчеством Героя труда, академика, физика-ядерщика, выступая, заявлял аж, что здесь мы видим, пожалуй, первый пример подобного альянса поэзии и науки. Это слишком. М.В. Ломоносова-то забывать не стоит. Ну, и ученика Гилберта.
Тут дело в другом. Создатель «Копья Лонгина» (Лонгин – римский легионер, проткнувший на кресте Иисуса Христа, чем то ли убил его, то ли прервал земные страдания спасителя) для названия своей поэтической книги взял строку из высказываний библейского мудреца Экклезиаста – «Что было, то и будет».
Между прочим, полностью это место в священном писании звучит так: «Что было, то и будет, и что делалось, то и будет делаться, и нет ничего нового под солнцем».
Да, далеко ушло развитие цивилизации, за прошедшие тысячелетия, только вот человек почти не изменился. Имеется ввиду особенности его характера, психики, приоритетов – с неизменной борьбой за власть, подчинением слабого сильному, посевами зла и добра.
К краху идём? Тем более, что теоретически, как поведал первый ядерщик страны Соломонов, мы готовы создать и более мощное оружие. Экономических возможностей нет пока. И тут я робко задал вопрос.
– Юрий Семёнович, а может быть, нет на это дозволения Свыше? – не от земных властей имею ввиду. Известно: гениальный нейрохирург В.Ф. Войно-Ясенецкий, канонизированный русской православной церковью, мог элементарно просто вылечить человека, пораженного болезнью века – раком.
Ему было дано Господом знание врачевания страшного недуга. Но не дано позволения применять его.
Соломонов согласно кивнул головой. И, отвечая на вопрос соседа, – будет ли ядерная война? – ответил, как отрубил:
– Нет. Но может сработать фактор случайности.
Казаки
В нашей лесной стороне, где я родился, казаков вроде бы не было. Но песни казацкие, – буйные, вольные, – пели; парни наши страсть как любили «показаковать» – покрасоваться, погулять лихо.
Моя первая шапка – «кубанка». Головной убор с округлой меховой опушкой и с крестом из золотого позумента на красном бархатном верхе – достался мне от дяди Васи, материнского брата – «форсуна» и мечтателя (стихи писал), пропавшего без вести на войне.
Как-то на дне рождения Всемирного казацкого атамана Валерия Васильевича Камшилова, устроенного в ресторане Центрального дома туристов, опекаемого известным «солнцевцем» – «Михасём», я, женатый на внучке кубанского казака, говорил об обожании казачества жителями моего неказацкого края, о корневой связи иконного крестьянина-мужика с казацким сословием.
Казак – воин и труженик, первопроходец, но разве не кондовые «навозные жуки» моей деревни и тысяч таких же деревень отстояли Отечество в грозные годы Великой Отечественной, надев серые шинели, вместо замурзанных телогреек, шагнув с поля хлебородного на поле бранное ратное? Не они ль «пол Европы, пол Европы пропахали, проползли?».
Атаман, прошедший Афган, Югославию, Сирию и прочие огни и воды, израненный «не на охоте» – в боях, вмешался в моё самовоизлияние:
– А ты не забыл, Геннадий, что именно казацкий отряд сопровождал родоначальника императорской династии Романовых, молодого боярина Михаила, из твоей Костромы в Москву?
Я принял реплику, закончив тост во славу вольного Казачества – хранителя и оберега державной воли, устроителя, по словам Михаила Шолохова, матушки России.
А сев на место призадумался. Чудна, необычна история государства нашего, рассматриваемая в лицах. Вот гуляем мы во владениях Сергия Михайлова – известного всем, благодаря неистовости ошалевших от гласности СМИ, как главарь «Солнцевской группировки», «крёстный отец русской мафии» – «Михась».
А ведь это «Михася» судил международный суд в Женеве и не нашёл криминала в его делах. Кроме того, ему выплатили огромную денежную компенсацию за моральный ущерб. И знаете ли Вы, что благодаря фонду «Участие», другим благотворительным учреждениям, созданными «Михасём», нет, не «Михасём», а Сергеем Анатольевичем Михайловым, мы снова застолбили Арктику, как неотъемлемую часть Российской территории. Как когда-то, благодаря Ермаку, казаку-разбойнику, – овладели Сибирью.
И не через «окаянство» ли Стеньки Разина и Емельяна Пугачёва наказывалась Россия, когда забывали о чаяньях своих верноподданных, черносошных людишек. Каралась и очищалась, не теряя единства и любви к своей родине, всех сословий, сословий не раздираемых непримиримостью, как ныне, определяемой принадлежностью к той или иной партии.
Чудна история наша в лицах. Моя жена по матери, повторю, – внучка кубанского терского казака, кстати, главного ветеринарного врача кубанского войска, женившегося на чеченке – предпринимательнице. Бабка шила для царской армии полушубки, благо чеченцы далеко не только абреки, но и отменные животноводы.
Мой приятель, экс-председатель КГБ по Чечено-Ингушетии, последнее время занимавший ответственные посты в Российском комитете по борьбе с оборотом наркотиков Ахмет Хутаев, с кем поделился я родословной своей супруги, воскликнул:
– Слушай! Узнал бы ты из какого аула бабка твоей жены. Мы бы там памятник российско-чеченской дружбе поставили!
Революция отобрала у бабки и матери моей женушки два двухэтажных дома в Екатеринодаре (Краснодаре), но дала в мужья моей тёще курсанта Ейского лётного училища Дмитрия Скрицкого, впоследствии генерала авиации, предки которого поляки были за бунтарство своё сосланы в Забайкалье.
На приёме в Кремле в честь Победы над фашистской Германией, молодая (сорока ещё не было) красавица, вобравшая в себя кровь и русскую и чеченскую, Вера Степановна Скрицкая танцевала с Георгием Жуковым – заместителем (единственным) Верховного Главнокомандующего Иосифа Сталина.
И этот Иосиф Сталин, спустя два месяца, выразит личную благодарность генералу Дмитрию Скрицкому, за то, что он со своими соколами не допустил высадку американских самолётов на японских аэродромах: он разбомбил их – не американцев, конечно, а японские аэродромы, обеспечив приоритет нашей победы над «страной восходящего солнца».
У нас в квартире, на стенке висит шпага японского лётчика – камикадзе, сбитого лично моим тестем. Висел до поры и парадный мундир самурая с шляпой со страусиновыми перьями, пока их не сожрала моль.
Ой, не сожрала бы только «моль» нашу память, не поколебала бы любовь к отчизне, такой, какова она есть, хитросплетенная, прочно перевитая судьбами разных, но по божьей воле, единых народов, схожих верований, нравственных принципов.
Не блок бы посты ставить нам, а памятники дружбы, что предлагает чеченец Хатаев.