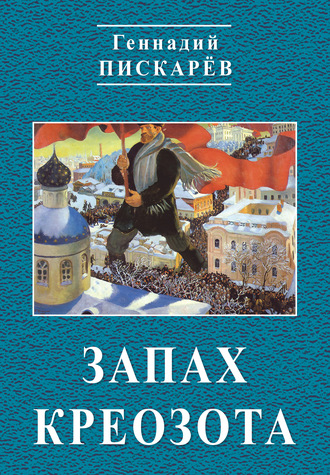
Геннадий Пискарев
Запах креозота
На заметку начинающим журналистам…
© Пискарёв Г. А., 2018
Введение
Этот запах смеси битума, кислоты и отходов нефтеперегонки прожигает моё сознание с детских лет, прошедших на лоне девственной природы, – лет, овеянных ароматом лугового разнотравья, хвойнолиственного леса, оглушенных перезвоном кузнечиков и стрекоз, пеньем птиц и шумом вольного ветра. Кстати, этот ветер и принёс креозотный дух в мою деревеньку со стороны железнодорожного полустанка «Бродни». Это был запах шпал, пропитанных для стойкости креозотом.
Когда наши деревенские женщины по утрам топили печи, ставили в них для выпечки свой самодельный хлеб, ржаной аромат с печным дымом глушил синтетический запах, плывущий со стороны железной дороги. Между прочим, он очень дразнил моё девственное обоняние, он где-то даже нравился мне. И вызывал чувства сходные с теми, о которых поведал как-то профессор, заместитель главного редактора «Правды» (последний период советского бытия) Ричард Косолапов, увидевший первый раз паровоз в двенадцатилетнем возрасте: «мне хотелось бежать за ним».
Ну как Гурию Львовичу Синичкину из пьесы «На подмостках сцены», что шагает с дочкой Лизанькой из города в город посреди железнодорожной колеи: легко, удобно, маршрут обозначен, не собьёшься с пути. Жаль только: паровозы дымят и гремят, движению пешеходов мешают. Так, всё так, и мне когда-то очень хотелось бежать в даль загадочно-открытую – туда, куда «под безмолвный оклик светофоровый неслись составы, сломя голову». Прогресс!
Прогресс… Однако, вот мы, человеки, чем старее, тем больше вспоминаем былое. И я в минуты смятенья чувствую в запахе креозота уже что-то такое, напоминающее привкус серы. Серы – главного элемента дьявольщины, ада, зла. И ловлю себя на парадоксальной мысли: мы стремимся в будущее в надежде обрести там прекрасное прошлое.
Вроде бы понимаю: прогресс всё-таки благо. Но какой прогресс? Прогресс духовный? Промышленно-экономический? И нет ли между ними извечной борьбы? Диалектика-то, хоть марксистская, хоть гегель янская, подталкивает именно к такому умозаключению. А ещё более продвинуто считать, что и во зле есть своё обаяние.
Наверное, есть. Тем более, что зло умеет мимикрировать и приспосабливаться, и рядиться в овечьи шкуры.
Вон уже и шпал прокреозоченных нет на железной дороге – только бетонные. Они не пахнут серой. И чёрно-дымных паровозов нет – электровозы. Но нет и моей деревни. Её, как и тысячи других, съел промышленный волк – прогресс. В луговых травах не стрекочут кузнечики, да и птиц не слышно. Лес поредел. Погиб от выбросов с атомной станции, что воздвигли строители светлого будущего. Кстати, первой прекратила своё существование деревенька Бродниково, имя которой присвоил себе желполустанок «Бродни».
Неизгладимое впечатление детства. Зимой, на лыжах мы вошли в Бродниково, оставленное людьми. Хлопали, как расстрельные, контрольные выстрелы, отрывающиеся ставни, скрипели в агонии шатающиеся двери, ветер с визгом драл с крыш солому. Жутко, апокалипсис какой-то. Скорей, скорей отсюда – домой, на печку, к бабушке.
А потом уже в зрелые годы, одолевая марксизм-ленинизм, идя по возрастающей в служебном положении, имея постоянным местом жительства лучезарную столицу нашу – Москву, посмотреть на которую в юном возрасте пришлось прибыть на крыше товарного поезда, я вдруг цепенел от щемящего, тоскливого чувства, готовый как Фёдор Тютчев променять блистательный мир «на грязь милой Родины».
И это ёще что. Вслед за английским архиепископом Ричардом Уотли мне хотелось прокричать: меня не устраивает современный прогресс тем, что движется вперёд, а не назад.
И я, Гена Пискарёв, «моряк красивый сам собою», гордящейся авторством в книжке, что выпустило тогда издательство «Правда», «Власть над землёй», заколебался. Какая мичуринская самонадеянность – власть над землёй! Вроде бы на самом-то деле земля властвует над человеком. И силён этот человек, пока действует в союзе с ней, соработничает, как с Богом.
Конечно, Глеба Успенского, его «Власть земли» я читал (университетская программа обязывала). Но читал обработанный уже ленинской характеристикой «Гения земного».
Мимо моего сознания, зашоренного новейшими веяниями, прошли как-то слова Глеба Ивановича о том, что «огромнейшая масса русского народа до тех пор терпелива и могуча в несчастьях, до тех пор молода душою, мужественно сильна и детски кротка – словом народ, который держит на своих плечах всех и вся, народ к которому идём за исцелением душевных мук, до тех пор сохраняет свой могучий и кроткий тип, покуда над ним царит власть земли, покуда в самом корне его существования лежит невозможность ослушания её повелений, покуда они властвуют над его умом, совестью, покуда они наполняют всё его существование».
К таким, собственно, мыслям и меня со временем прибила жизнь, сама крестьянская действительность, которую я отображал, работая в газете «Сельская жизнь». Однако вот до таких характеристик, таких образов относительно крестьянских, земных божьих начал в человеке не додумался. Это я о Святогоре-богатыре и Микуле Селяниновиче говорю, который легко несёт, как рассказал Успенский, за плечами какую-то сумочку, и которую богатырь-Святогор от земли оторвать не смог. «Что скажи ты, в сумочке накладено?» – спросил он Микулу.
– Тяга там от матери сырой земли. Я мужик. Меня любит мать сыра земля.
Вот и вся былина – загадка, из которой видно: тяга и власть земли до того огромны, что совладать с нею и богатырь Святогор не может, а между тем эту тягу и власть народ несёт легко. Всё это именно и есть до сего дня.
Правда, бесы не дремлют. В дальнем море на каменной скале стоит гигантская статуя «Свободы» с поднятым над головой электрическим факелом. Издалека, за сотни вёрст виден его свет. Много добра приносит статую кораблям, застигнутыми бурей. А вот птицы в непогодь, видя благодатный свет, думают, что тут жильё, что тут тепло, мчатся сюда и… насмерть разбиваются о гигантский фонарь.
Не так ли гибнет крестьянин, покинувший землю: в городе, кабаке вроде теплее. Но теплее потому, что на земле, в доме ему стало холоднее. Бесы сделали так. Мёртвый свет фонаря, запах креозота – одурманили человека.
Вспоминаю случай: в одной деревеньке проводили водопровод. Радовались бабы и мужики. Не надо теперь ежедневно из колодцев по десятку ведер воды до дому тягать. Лишь один старичок, дядя Вася – ретроград несчастный, от вводимого блага отказался. И продолжал пользоваться кристально чистым колодезным водяным источником.
У соседей колодцы без употребления вскоре заилились, вода зацвела и протухла. Водопровод, ясное дело, как на деревне коммунальные службы работают, тоже забарахлил. Трубы поржавели, потекли, вода из них стала похожа на помойную смесь.
Бросились люди к дяде Васе, в очередь за водой встали. И уже не за десяток метров, как ранее из своих колодцев, а за километр живительную влагу таскать начали.
Чушь какая-то скажет молодой и продвинутый горожанин. Что, назад в пещеры идти надо? В детство впадать? Ну вернёмся в детство, в момент рождения. Да ведь рождение – это боль. Чего же тут хорошего? А зачатие, возрожу я. Соитие… Если нет насилия, здесь торжествует любовь. Как там у Пушкина:
Нет, я не дорожу мятежным наслажденьем,
Восторгом чувственным, безумством, исступленьем,
Стенаньем, криками вакханки молодой,
Когда, виясь в моих объятиях змией,
Порывом пылких ласк и язвою лобзаний
Она торопит миг последних содроганий!
О, как милее ты, смиренница моя!
О, как мучительно тобою счастлив я,
Когда, склоняяся на долгие моленья,
Ты предаешься мне нежна без упоенья,
Стыдливо-холодна, восторгу моему
Едва ответствуешь, не внемлешь ничему
И оживляешься потом всё боле, боле —
И делишь наконец мой пламень поневоле!
Заметки, статьи, что печатаются ниже, – это как бы отражение тех огоньков, тех божьих искр, что делают человека человеком, хотя причиняют при этом нередко боль, как физическую, так и духовную. Но ведь болью исцеляется душа, приближается ко Всевышнему. Долгая журналистская практика общения с людьми убеждает меня в этом.
P. S.
Вынесенная на обложку репродукция картины Бориса Михайловича «Большевик» имела авторское название «Бич Божий». В 20-ые годы прошлого столетия в Стране Советов, когда произведение было написано, картину с таким многообъяснющим названием выставить, разумеется, не представлялось возможным. Но сейчас-то…
И опять появляется повод поразмыслить: что есть движение вперёд? Откуда ползёт запах серы, креозота? И не занесён ли над нами бич Божий – нынешний технический прогресс, – скачущий бешено, необузданно, абсолютно, кажется, оторвавшийся от нравственных возможностей человека мало изменившегося со времён сотворения в духовном своём развитии?
Часть I. Будет ли в России благодать?
Алексей Константинович Толстой устами богатыря Потока, не шутя, сделал весьма и весьма значительное заявление:
Много всяких на свете чудес.
Я не знаю, что значит какой-то прогресс,
Но до здравого русского вече
Вам ещё, господа, далече.
Иного не дано
Когда-то довелось прочитать удивительное суждение о том, что тайна жизни кроется в страданье: дети и звезды рождаются в муках. Странно вроде бы, но именно такого рода мысли начинают роиться, когда слушаешь русские песни. В частности, Надежды Евгеньевны Крыгиной, что на днях в очередной раз пленяла своим искусством собравшихся на её концерт в московском Мюзик-холле.
Существует расхожее выражение: песня – душа народа. Это очень верно. Как верно и то, что русский человек, как никто, способен самовыражаться не иначе, чем через боль. Она, в отличие от других, не имеет маски. Страданье всегда истинно. Поэтому-то явленное в искусстве, в музыке – предтече всех искусств – оно завораживает, покоряет искренностью, поражает сопереживанием.
Страдание – не уныние, смертным грехом быть не может. Как и народная песня, наполненная печалью и грустью, оно несет очищение – катарсис. Это особенно ощущаешь, когда углубляешься в пение Надежды Крыгиной, заявляющей мудро: «В каждой русской песне, даже несколько легкомысленной на первый взгляд, заложен глубокий смысл».
Не правда ли, у сказавшей такие слова есть чему поучиться. И у неё учатся. И подают уже немалые надежды молодые певицы, как, например, Валентина Моисеева.
Через трепетное исполнение народных песен Надеждой Евгеньевной начинаешь, кажется, открывать загадку русской души. Души, что, словно Вселенная, соткана из страдания, но созданная, однако, руками любви. Это начинают понимать, похоже, и там, за пограничными столбами Отечества. Не потому ли столь любима Надежда Крыгина зарубежными слушателями.
«Страданье возвращает нас к Богу». Это слова Олигьери Данте. Извечно стремится к Богу русская душа, столь проникновенно отраженная, в чём пришлось убедиться и в этот раз, в творчестве народной артистки России Крыгиной. По имени Надежда. Имени, стоящем посредине таких символически значимых обозначений, как Вера, Любовь и мудрость София.
«Будет в России благодать», – поёт пронзительно почвенно-русская певица. Будет! Мы надеемся вместе с ней. Мы верим в это. Но ведь верить – страдать. А страдать – верить. Иного не дано.
Не ищи своего
Самое страшное, что я вижу ныне – отсутствие интереса человека к человеку. Только я сам. Причём удивительнейшим образом полагающим, что все остальные люди, неинтересные мне с их запросами и проблемами, должны думать о моих интересах, решать мои задачи.
Уходит душевная привязанность, даже формальная.
В моей деревне (огрубляю пример), если ты побывал у кого-то в гостях, обязан пригласить в гости и к себе тех, у кого гостил. Неважно, хлебосольно ли примешь, но должен, должен ответить знаком душевного сближения.
Этого ныне не встретишь запросто. Могут заплатить за услугу, помощь. По тарифу, жёстко, по-канцелярски. Люди – механизмы. Смазал – поехал.
Часто пытаются «ехать» без смазки. Дураков, святых ищут. Тьму примеров привезти можно. Святого, как наверное, художника, обмануть легко. Но Бог-то правду видит, хотя и не всегда её высказывает. Дьявол рад: самого Господа облапошил. Ой ли!
А в миру… Падший, обманутый приходит таки в чувство. Падая же, он как бы притупляет бдительность дьявола.
Вот тут-то и дай ему бог извернуться.
Но, вообще-то, как толкуют святые отцы, лучше бы своего не искать, а делать общее дело, угодное Христу.
И помнить надо бы всем нам евангельскую заповедь: «Спасись сам и вокруг тебя спасутся тысячи». Это вовсе не значит, что спасаться надо любым способом – бегством, трусостью, изменой. Боже упаси, будь твёрд в праведном стоянии и твой пример спасёт тысячи гибнущих.
Узник замка Иф
Актёр Авилов, исполняющий роль Дантеса в киношно-интерпретированном произведении по роману Александра Дюма-отца «Граф Монте Кристо», умер молодым.
Меня страшит мысль, уж не расплата ли это за произнесенные с высочайшей дерзостью слова: «Человек умнее Бога». Пусть и не актерские слова, а интерпретатора-режиссёра, вложенные в уста аббата Фариа.
Как хочется быть хорошим и справедливым человеком. Но как? Кто подскажет, кто научит? Беспрекословно выполнять волю стоящего над тобой? Свести действия до инстинктивных поступков?
Вот муравьи. Они хорошие. Если пожар, пойдут на смерть и муравейник спасут. А может, они зомби?
Отличить хорошее от плохого можно, лишь сопоставив одно с другим. Нельзя, выходит, быть хорошим всем. Кто-то должен стать и плохим.
Да что же это такое? Как выпутаться из этой паутины. Умный человек, подскажи!
«Умный человек» диалектику подсовывает. О единстве и борьбе противоположностей, о переходе количества в качество, об отрицании отрицания начинает толковать.
Что-то не очень убеждает опять. К «глупому Богу» опять тянется мысль. А тот одно говорит: Живи, усмиряя гордыню и страсти внутри себя. Победишь – спасёшься.
Ну как?
Всё смешалось в доме Облонских
1. По закону или по совести.
Моя сестра Валентина идёт в райбольницу заполучить бюллетень медицинский для сына, моего племянника, прогулявшего занятия в институте.
Главврач – наш односельчанин, мой одноклассник, Коля Бонокин. Липовый документ выправляет и смотрит с ожиданием на сердобольную мать. Та догадывается: надо на лапу доктору дать.
– Сколько?
– Десять рублей. (Время советское.)
У сестры глаза на лоб. Какой наглец Колька, односельчанин, а «дерёт» что и со всех.
А как действовать Кольке-врачу? По закону или по совести (об этом у Островского в «Горячем сердце» хорошо поведано). По закону – не дать фальшивую справку, по совести – сговор с совестью.
Виноваты, получается, и сестра, и врач. Не Колька же пришёл к ней или дал объявление, что выписывает за десятку неправедную бумагу, создающую «алиби» лукавому человеку.
Ох, и хитро завилась верёвочка! Главное, развивая её, понять: Подлости задаром не делаются. Из мало – маленького, низменного мало – выползет велико – грех и зло.
2. Я – линер.
Моя соседка по квартире – инвалидка, вызывает из бюро услуг уборщицу. Через некоторое время та появляется у дверей, звонит. Соседка открывает дверь, спрашивает, стоящую с ведром и тряпкой молодую девицу:
– Уборщица?
– А зачем Вы меня оскорбляете, – надувает губы стоящая на пороге.
– Как это? – удивляется хозяйка.
– Я не уборщица. Я – линер! – сердито заявляет вызванная поломойка и резко поворачивается спиной к растерянной заказчице. Уходит прочь.
3. Диалог в автобусе.
– Бабка! Куда, старая плесень, едешь? Без тебя молодые в автобусе задыхаются.
– Еду на такого же оболтуса, как ты, работать, на прокорм ему деньги зарабатывать.
4. Пряник и зуботычина.
Мой двоюродный дед, дядя Иван, «ухвативший» в жены чудом оставшуюся в живых дворянку из рода Бертеневых после революции, лупил родившегося неслуха, вольной закваски сына Витьку чересседельником.
Жена дяди Ивана – Елизавета, неспособная совершенно жить по-крестьянски, но умеющая, как никто, заваривать чай (нередко отпаивала им падавшую от усталости мою мать, вдову-солдатку), Витьку, не раз выгоняемого из школы за «хулиганку», величала не иначе как Виктором Ивановичем. Что Вы хотите – продолжатель рода.
Витьке мы завидовали, особенно, когда он выгонялся из школы. Нам-то зимой, бывало, плюхать до неё не одну версту, а он с горы, на «козле» катается.
Диво! Но Витька единственный из деревни парень, который дошёл-таки до 10 класса, не «посидев» как другие, ни в одном два года. А далее и институт закончил.
Воспитание… И макаренковская зуботычина (помните «Педагогическую поэму»?), и княжеское обожание (В «Чёрной курице» у Никиты Михалкова – об этом) дают, оказывается, в итоге неплохой результат.
«Помни имя своё» – постулат из средневековой педагогической книги «Юности честное зерцало».
«Чти родителей своих» – заповедь Святого писания.
Наши предки за собой, вообще-то, не оставляли грязи. Готовясь к уходу в иной мир, загодя готовили чистый наряд для себя.
Оставить после себя прибранное место, дом – было их принципом.
Память о них – они в белых одеждах. Святые.
В «Прощании с Матёрой» у Валентина Распутина показана сцена уборки старой крестьянской собственной избы перед затоплением её искусственным морем. Священное действо! Молитва и гимн.
5. Импрессионисты.
Кажется иногда, что живём мы ныне в сумасшедшем мире. Реальность, здравый смысл то и дело как бы ломаются. Так импрессионисты видели окружающую их действительность – через туманность, кривые линии. Такое виденье, вообще-то, свойственно людям с разорванной клетчаткой глаза – больным, стало быть.
Надо лечиться.
6. Копировальщики.
Плохо или хорошо быть копировальщиком? Нынешний промышленный Китай начинал с того, что копировал достижения передовых стран.
Курчатов создал атомную советскую бомбу по американским лекалам. Хотя и для этого нужно голову иметь.
Древние художники, гении Возрожденья, например Леонардо да Винчи, Рафаэль и другие поначалу тоже были копировальщиками.
Собственно любой мастер начинает с того, что повторяет долго и кропотливо своего учителя, пишет этюды, натуру. Потом становится творцом. Получает законное как бы право на свой взгляд, метод и т. д. Не все копировальщики перерастают в художников, но добрыми ремесленниками остаются.
По мне, это лучше, чем создавать с «бухты-барахты» «Чёрные квадраты», «летающих коров» или «удавовидные спирали», прочие инсталляции. При этом оболванивая простодушных людей, выдавая, «втюхивая», содеянное левой ногой за нечто самое передовое, авангардное, гениальное, средним умам не доступное.
Ой, как похожа сия морока на нынешнее, чуть ли не поголовное, переименование всяких там «ремеслух» и цирюльней в академии, претензионное стремление безответственных, никчемных болтунов постунировать себя столпами общества.
Право, не знаешь после этого, под какой плинтус засунут тебя самодовольные недоросли.
В одной невероятной скачке
Многие оставшееся в памяти гении, герои, страстотерпцы прожили мало. Пушкин – 38, Лермонтов – 27, Есенин – 30 и т. д.
Но какое духовное наследие оставили. А путешественники: Марко Поло, Миклухо-Маклай, Пржевальский. Не летали со скоростью звука по планете они. А сколько всего увидели они. И как увидели!
Женщины-декабристки по полгода на пересылках сидели, по году – в санях. Какая напрасная вроде бы трата времени. А на самом деле?
Разве сравнимо то, что они сделали с тем, что творим мы, мечущиеся по лику земли, как угорелые.
Суета сует.
Янусы
Мне в жизни доводилось встречаться, даже работать, общаться, обмениваться мнениями со многими великими людьми. Великими как в смысле великие духом, так и великими подлецами. Назвать их имена? Потом, может быть, когда сам освобожусь от комплекса двуликого Януса, который нет-нет да и во мне пробуждается по игре обстоятельств.
Пока же, думаю, есть смысл привести интервью, которое дал я не столь давно выпускникам факультета журналистики МГУ им. М.В.Ломоносова. Ребята, бравшие его, сказали, что в итоге, по формату, интервью получилось больше похожим на «мастер-класс», данный профессионалом. Не возражаю.
Итак:
СУТЬ ЧЕЛОВЕКА
Аннотация:
Данная публикация – это размышления бывшего сотрудника газеты «Сельская жизнь», экс-редактора журнала «Президентский контроль», члена Академии российской литературы Геннадия Александровича Пискарева о профессии и ответственности журналиста перед обществом.
Корр.: Геннадий Александрович, Как Вы пришли в профессию? Насколько мы знаем, Вы заканчивали факультет журналистики МГУ. Почему Вы выбрали именно его?
Г.А.: Да видите, как случилось… Я родился в деревне, довольно глухой, жители которой тогда читали единственную газету – районную. «Буйский ударник» называлась. Туда-то я и написал первую свою заметку, возмущенный тем, что налоговый агент – Федя Медведев начал с моей матери – вдовы-солдатки – драть бездетный налог. Каким-то образом довелось узнать, или догадался, что такой налог не должен взыскиваться с женщины, потерявшей на фронте мужа. Кстати, я учился тогда в третьем классе.
Корр.: В третьем классе?
Г.А.: Да, Федю, конечно, с работы не сняли: непросто ведь найти на должность мытаря человека с собачьей хваткой; но наши мужики меры приняли.
Подстерегли лихоимца в овраге и устроили «темную». Потом, спустя годы, я уже учился здесь на факультете, Федя приходил ко мне, хотел завести дружбу.
Так что правильно говорят: всё начинается в детстве. Моё послевоенное детство, в обыденности корявое и скупое, расцвечивалось, утеплялось величайшей благодатью, разлитой в окружающей нас природе. И ещё: босоногое, рвано-латаное детство моё выпало на великие годы истинного победного ликования. Это было время встреч с настоящими героями войны, немногими вернувшимися с фронта, односельчанами – отмытыми от окопной грязи и пороховой копоти, с отливающими золотом и огненным рубиновым блеском медалями и орденами на выцветших до бела гимнастёрках. О, как хотелось, чтобы мир узнал про них. А то, что же получается: в школе мы чтили память сыновей итальянского антифашиста Чарльза Деви, который потерял на войне семерых детей, а вот о шестерых сыновьях моего деда, сложивших головы, кто на родной земле, а кто и за пограничными столбами отечества, – чего-то нигде кроме как в моей деревне, и не говорят.
Понятно, о том, чтобы стать журналистом, я тогда не помышлял. Деревенское общество практичное, реальное, ориентировало нас на получение профессий, способных дать сразу надёжный материальный фундамент. Вот тракторист, шофёр – это да, а о журналистике у нас не ведали ни сном ни духом.
Стихи писал. О любви. К однокласснице.
«Стал для меня твой образ нежный,
Богиня из 8 «В»,
Как оберег души мятежной
И хрупкой, как роса в траве».
Потом я узнал, что написал стихи тем же размером, что и Пушкин в своём творении «Я помню чудное мгновенье». Что ж, настоящая любовь, видимо, у всех одинаковая.
Корр.: Как случилось так, что Вы поняли «всё я – журналист, я – писатель?!»
Г.А.: Наверное, после того, как я отслужил в армии и оказался в городе Обнинске, где первая атомная станция была построена. Работал машинистом на криогенной станции. Вокруг люди ученые, засекреченные, но очень какие интересные в общении.
Знатоки литературы, истории, философии. Об одном таком ученом, лауреате Сталинской премии (в Челябинске-40 делал вместе с Курчатовым атомную бомбу) Николае Лебедеве я написал восхищенный материал в городскую газету. Не об основной его работе, конечно, писал я (этого делать было нельзя), а о мастерстве ученого как художника-портретиста.
Кстати, недавно мне довелось быть на презентации поэтических этюдов, написанных, как Вы бы думали, – академиком, Героем России, одним из создателей оборонного щита нашей Родины Юрием Соломоновым. Поразил облик автора, его глаза, как бы опрокинутые внутрь. Ни дать ни взять – Гомер.
Обнинск содрал с меня деревенскую заскорузлость окончательно. И судьбу мою решил. После публикации очерка о Лебедеве, я стал узнаваемым в городе и признаваемым среди учёной братии. Осмелел я. И двинулся в литературу.
Корр.: То есть всё решила судьба?
Г.А.: Признаюсь, до армии я хотел поступить в военно-морское училище. Уж больно у курсантов форма красивая. Смерть девкам! Пришёл в военкомат, написал заявление. Всё было нормально. Девятнадцатого августа (по христианскому календарю день Преображения) получил повестку. Перед отправкой с ребятами-одногодками пошли отмечать «Преображение» в деревню Ощепково. А там подрались из-за девчат с местными ревнивыми парнями. Попал в больницу. А двадцатого-то мне надо было явиться в военкомат, на призыв. Не смог, преобразилась судьба.
Корр.: А как Вы всё таки оказались на журфаке?
Г.А.: Сначало-то я подался в литературный институт. Иду по коридору, встречаю знакомого парня из Малоярославца – Валю Ермакова. Сейчас он известный поэт. Он мне и говорит: «Гена, Литинститут – хорошая штука, но ведь после него даже распределения нет. Сам ищи работу. На журфаке надежнее: окончишь, будешь иметь место, твёрдую зарплату». Я, как человек с крестьянским укладом, сообразил, что лучше быть обеспеченным. Вот так и оказался на факультете журналистики.
Корр.: И с момента поступления Ваша жизнь как-то изменилась? Легко ли Вам было устроиться в советское время?
Г.А.: С судьбою (судом Бога) не поспоришь. А советская система никак не подавляла мои порывы. По окончании МГУ я попал в районную газету «Заря», что в Калужской области. Редактором её был Михаил Кузькин – поэт, душа широкая, вольнолюбивая. С ним у нас сложились распрекраснейшие отношения, и писали мы в газете обо всём от души. Писали о том, что нам самим было интересно. Наша газета стала не райкомовским боевым листком, а малой «Литературкой». На стихи же Кузькина писал рецензии сам Виктор Астафьев.
Писали мы, конечно, и по делу, и много. Я помню, в те годы праздновали Юбилей Октября. И мы начали такую компанию: показывать людей, которые родились в 1917 году, – ровесников Октября. Мы писали о людях, об их непростой судьбе. Это оказалась хорошая серия. Ведь человек с его судьбой заметнее, когда прочитан в историческом контексте. Наверное, не зря нас зауважали даже в таком журнале, как «Партийная жизнь».
То было прекрасное время. Время без войн, репрессий, перемен. Народу дана была как бы передышка, позволившая детям убитых в войнах отцов пережить их жизнь. Люди торопились наговориться, налюбиться. Зачитывались Хэмигуэем и Аввакумом, слушали рок и крестьянские песни. Покидали коммуналки, въезжали в малогабаритки, вышли в космос, озаренные улыбками Гагарина и Фиделя, песнями Пахмутовой и моего друга – однополчанина по службе в Таманской дивизии Александра Аверкина. В то же время народ «вкалывал» как никогда. А что же ещё и могло быть в государстве рабочих и крестьян?
Корр.: Получается, творчество для Вас – это между журналистикой и писательством?
Г.А.: Похоже. Самую престижную журналистскую награду «Золотое перо» получил я за рассказы о людях, когда работал в газете «Сельская жизнь». Именно в ту пору прозвучал партийный призыв – показывать во всей духовной красе героев пятилеток как носителей высочайших нравственных качеств. И то было мудрое дело: людям тоскливо бывает без положительного героя. Ещё Максимом Горьким – да и им ли одним? – было замечено: «со стороны своей «плоховатости» человек мало интересен. И не этим он удивителен». Я понимаю, любопытство и «плоховатость» не переводится и вряд ли переведется. Хотя взгляд на человека как на ничтожество по природе, как на существо, сводимое к простейшим инстинктам и физиологическим функциям, никогда, кажется, на поприще искусства не преуспевал. Как бы это и не пытались опровергнуть нынешние новоделы. Научиться видеть красоту вещей, духовную красоту человека – это предел того, что может достичь художник – чаще по природе своей мечтатель. А мечтатель, как сказал кто-то из великих, находит свою тропу только при лунном свете. В этом его наказание и награда: он видит рассвет раньше других.
В наше время журналисты бились за действенность своих выступлений. Ныне, похоже, этого нет. Отзвонил – и с колокольни долой. Вот тогда-то и начинается беспредел, торжество несправедливости. А хуже несправедливости бывает лишь справедливости, из чьих рук вынули меч. Когда правда – не есть сила, она – есть зло.
Сравнивая советское и нынешнее время, прихожу к таким выводам. Во-первых, мне трудно понимать нынешних людей. Быть может, потому что стало меньше личного контакта. Журналистика стала цифровой. А вот докопаться до сути, до человеческой души, – это не всем удаётся. И, к сожалению, не доходят до людей журналистские идеи, не могут они сподвигнуть народ на действо. Человек многогранен, в нём намешано столько всего! И если ему не показывать ориентир, а только многогранность, он может в ней погрязнуть, покатиться вниз.
В современной журналистике часто получается, что мы даже подталкиваем туда людей, хотя, кажется, что мы показываем человека во всей его сияющей сложности. Мир полон соблазнов, гласит Евангелие, но горе тому, через кого в мир приходит соблазн. Не будем этого забывать. Беда нынешнего поколения в том, что оно больше смотрит, а не читает. Чтение – трудное занятие, в отличие от просмотра телевизора.
Корр.: Как давно, по Вашему мнению, начался этот процесс?
Г.А.: Началось, думается давно – в 90-х. Было много запретов. А «запретный плод» сладок – сладок поначалу. По сути он ядовит: к этому надо быть подготовленным. Ведь не зря великие научные открытия хранились в своё время в монастырях. Не случайно великий сатирик Фонвизин писал в своей пьесе «Недоросль»: «Наука в развращённом человеке есть страшное оружие делать зло». К новому человека следует нравственно подготовить. Нельзя этой нравственностью поступаться. Ни в коем случае. Неспроста же связывали думающие люди уничтожение нравственных основ с кончиной государства. Нравственные основы бережно создавались веками! А мы по ним – кувалдой. Пришла пора собирать камни. И верить, что не вовсе пали люди, не умер в их душах Бог. Между прочим сказывают, что люди удивительно быстро умнеют, когда их считают умными.
Корр.: Какова в этом роль журналистов?
Г.А.: Огромная. Журналистика, называемая нередко предместьем литературы, строится на документальном отображении действительности своего времени. Тут важно понимать каждому, кто взялся за перо: время – тоже родина. Да, да, есть не только та родина – земля, где мы родились, но и время, когда мы родились, – тоже есть наша общая родина, которую нельзя предать, которую надо спасать, чтобы она навсегда осталась живой и плодоносной. Об этом и надо вести речь. И показывать человека. Не осознавшему своего пути – подсказывать направление.
Корр.: Как Вы считаете, что приоритетно для современной журналистики?







