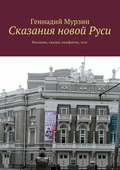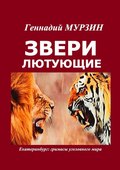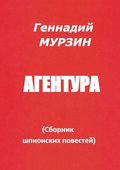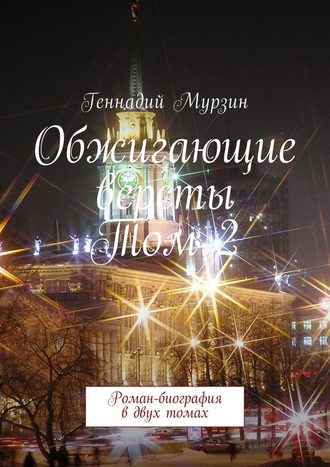
Геннадий Мурзин
Обжигающие вёрсты. Том 2. Роман-биография в двух томах
Не получилось. Леканов решил выхолостить статью, и в результате она теряла всякий смысл. Воспротивился. Отказался портить материал. Пусть в таком случае, заявил, статья летит в корзину.
– Пусть. – Согласился редактор.
Отказаться от борьбы? Признать поражение? Ну, нет! Не все шансы еще использовал. Когда в кабинете не было никого, позвонил в сектор печати обкома КПСС и рассказал всю историю В. Ф. Дворянову – от начала и до конца. Не утаил и того, что позвонивший в редакцию воспользовался именем секретаря обкома. Выслушав, последовал вопрос:
– Какие претензии к статье: по форме, стилю или содержанию?
– Факты проверил. Установил, что имели место. К качеству материала у редактора нет претензий. Он лишь считает, что нельзя порочить коллектив.
Больше ко мне вопросов не было. Сижу и жду реакции. Она не замедлила. Без пяти шесть вечера, когда собирался идти домой, у меня зазвонил телефон. Снял трубку. Слышу захлебывающийся слюной голос редактора. Понял, что требует сейчас же доставить в типографию оригинал статьи «В своем пиру похмелье». Осторожно интересуюсь:
– Номер все еще не подписан «в печать»?
– По твоей милости! – Кричит в ответ редактор и бросает трубку.
На другой день первоуральцы, развернув очередной номер газеты «Под знаменем Ленина», могли прочитать скандальную статью «В своем пиру похмелье». Причем, практически, без обычной редакторской правки.
Что же произошло? Как потом мне стало известно, из обкома КПСС позвонили Михаилу Морозову, первому секретарю горкома и сообщили, что у статьи «В своем пиру похмелье» имеются два варианта увидеть свет и горком вправе сам решить, который самый подходящий: либо статья публикуется в городской газете, либо она завтра появится в областной газете «Уральский рабочий». Первый вариант для Морозова оказался предпочтительнее и он дал указание Леканову, чтобы в завтрашнем же номере статья появилась. И она появилась.

Проглотили бы, да подавиться опасаются
Есть ли смысл упоминать, что после этой истории в горкоме стал и вовсе персоной NON-GRATA? Будто острая кость в номенклатурном горле застряла: ни проглотить, ни выплюнуть. Проглотили бы, еще как проглотили бы! Но вынуждены придерживаться внешних приличий. Потому что их коснулась цивилизация, в отличие от тех, кто правил глухой провинцией (например, в Шале). Охотно придрались бы, но нужен был повод, а его (кажется, об этом уже упоминал) не давал. Понимал: ждут, когда поскользнусь на чем-либо (например, на арбузной корке, брошенной кем-то под ноги), поэтому соблюдал предельную осторожность – как на работе, так и в личной жизни.
Значит, не любят? И не надо! Насильно мил не будешь. А работать все равно надо.
Приятно удивил меня Михаил Морозов, первый секретарь. Кривясь от боли, которую причинил ему и его другу, созвал внеочередное заседание бюро горкома КПСС (заседание проходило в закрытом режиме, поэтому на нем, кроме членов бюро, никого не было – ни инструкторов, ни заведующих отделами, не присутствовал и редактор), на котором была рассмотрена статья «В своем пиру похмелье». В редакцию принесли выписку из постановления бюро. В документе насчет автора или позиции газеты, опубликовавшей скандальную статью, не было ни слова – это уже хорошо. Предпочтительнее, если б… Надо уметь было довольствоваться малым. Зато содержалось прямое осуждение в адрес героев публикации, то есть организаторов предновогодней пирушки. Первые лица – директор завода, секретарь парткома и председатель завкома профсоюза – привлечены к персональной партийной ответственности.
Леканов с большой радостью опубликовал документ под рубрикой «По следам наших выступлений». Что ж, еще один его вклад в копилку принципиальности, действенности и эффективности газеты «Под знаменем Ленина». Леканов принимал поздравления читателей и был на седьмом небе от счастья. Будет ли еще случай, когда по отдельно взятому материалу соберется заседание бюро и будет принято персональное постановление?
Итак, настала вокруг тишина… Надолго ли? До следующей бури, которая, как предполагаю, не за горами. Ищи и обязательно найдешь приключений на… Ибо «покой лишь только снится».
Наступил 1978-й. Скучаю оттого, что уж слишком покойно и ничего со мной не случается. Одно утешает: через несколько месяцев закончу учебу и стану дипломированным специалистом, как и все вокруг меня.
Чувствую, как кто-то толкает меня под руку, чтобы сделал что-то этакое, отличное от привычной редакционной рутины. Слежу за центральной партийной прессой, особенно за дискуссиями в газете «Правда». В ней встречается перчик, а это очень мне по нраву. Не то, что в областной газете «Уральский рабочий» или в журнале «Партийная жизнь». В этих изданиях иногда также мелькает нечто дискуссионное, но не то, нет, не то, что в «Правде»: не хватает остроты, того самого мною обожаемого перчика. В них дискуссия проходит примерно так. Один говорит: «Партийные организации с каждым днем крепнут, повышая авторитет и значимость в коллективах». Оппонент категорически не согласен и возражает: «Партийные организации не просто крепнут, а становятся монолитом, единым организмом и, пожалуйста, коллега, не затушевывайте очевидного. Авторитет их не просто „повышается“, как вы изволите выражаться, а становится неизмеримо более высоким день ото дня».
Интуиция мне подсказывает: нужны публичные дискуссии, в том числе по таким коренным вопросам, как дальнейшее совершенствование форм и методов внутрипартийной жизни, повышения роли в ней каждого коммуниста. Вижу, знаю, что все больше членов КПСС уходит в пассив, обосновываясь на галерке жизнедеятельности первичных партийных организаций, все меньше принципиальной критики на собраниях, все больше словоблудия об успехах и достижениях, больше и больше коммунисты становятся корыстолюбцами, хапугами, набивающими личные карманы за счет государства, но этим явлениям в партийных организациях не дается принципиальной оценки. Вот о чем, считаю я, надо откровенно и открыто говорить в партийной печати.
Все чаще и чаще в голове вертится вопрос: смог бы затеять дискуссию о чем-то подобном? Ну, сам себе отвечаю, «затеять» можно все, что угодно, а вот провести… Удастся ли? Нет, не для галочки в творческом отчете, а для пользы дела. Созрел ли? Хватит ли ума и сил? Очевидно, что будет противостояние. Потому что поперек течения, вопреки устоявшейся практике восторженно кричать об успехах и вскользь, походя об «отдельных недостатках». Чувствую, что готов к боям, но как отнесется редактор? Поддержит ли инициативу?
Сажусь и начинаю разрабатывать подробный план газетной акции. К редактору надо идти во всеоружии, а иначе получишь от ворот поворот. Придумал и главную тему разговора, обозначив ее тремя словами, заканчивающимися не точкой, а вопросом, – «ТВОЯ ПОЗИЦИЯ, КОММУНИСТ?» Именно в отсутствии какой-либо позиции, считал, и кроется корень зла. Только неимение позиции рождает равнодушие и инертность в партийных организациях, тупой формализм.
Честно признаюсь: излагая редактору тему читательской дискуссии, тщательно избегал собственных опасных мыслей, чтобы его не напугать. И поэтому редактор даже не мог себе представить, во что на самом деле выльется дискуссия. Редактор, испытывая сильное душевное волнение, согласился-таки с идеей. Убедил также его: для затравки, чтобы к дискуссии привлечь сразу как можно больше коммунистов и беспартийных, чтобы создать фон, на котором в дальнейшем пойдет разговор, опубликовать острое читательское письмо на обозначенную тему.
– Где возьмешь такое письмо? – Спросил Леканов. – Сам, поди, собираешься сочинить?
– Нет, не сам. – Поспешил успокоить шефа. – Письмо уже есть.
– Откуда?.. Самотёком?
– Да. Письмо остро ставит проблему, но не хватает конкретных фактов, поэтому намерен встретиться с автором и помочь дополнить, углубить и, возможно, за счет этого обострить.
– Не пенсионер?
– Вальцовщик новотрубного завода.
Редактор просиял.
– Ну, ты… – Леканов, очевидно, хотел меня похвалить, но вовремя спохватился. – Везучий ты, мужик! Такого автора заполучил.
Усмехнувшись, ограничился коротенькой репликой.
– Везет тем, кто хочет делать дело.
Письмо читателя, давшее повод для разговора, получилось недлинным, но предельно конкретным и необычайно честным для того времени. В нем автор каждую мысль подтверждал примером из жизни своей первичной партийной организации, не пощадив никого из своих товарищей по партии.
В день выхода газетного номера с этим письмом (оно было сопровождено приглашением поучаствовать в разговоре всех читателей городской газеты, просьбой присылать отклики) Леканов чувствовал себя именинником. Видимо, готовился принимать лавры. Мне же не сказал ни одного слова похвалы или одобрения. Получалось, что это всё он придумал и организовал. Ну и пусть. Когда-нибудь сочтемся. В конце концов, не ради похвал затеял дискуссию. К тому же рано радоваться: сделан лишь первый шаг. Надо посмотреть, что будет потом, когда завершится дискуссионный разговор.
Дошел до меня слух, что одобрительно отозвался о письме коммуниста, опубликованном в газете, заведующий организационным отделом горкома КПСС, который выразился в том смысле, что тема крайне актуальна, что газета правильно сделала, придав письму столь важное значение, однако, посетовал он, в письме отсутствует позитив, значит, перекос в сторону критики. Ну, это так, кстати.
И вот почти в каждом номере на второй странице стали появляться дискуссионные материалы под рубрикой: Продолжаем разговор «Твоя позиция, коммунист?»
Конечно, это был результат моей организационной работы. Потому что газета «Под знаменем Ленина», несмотря на обильную редакционную почту, не могла похвастаться большим числом писем, приходящих самотёком, на темы партийной жизни. Да, писем таких стало больше, но все равно недостаточно.
Интерес к дискуссии приходилось все время подогревать. Как? Ну, разными способами. Скажем, обращался (лично и по телефону) к секретарям партийных организаций с просьбой обсудить на партсобрании тот или иной читательский отклик (сами бы вряд ли догадались) и прислать в редакцию короткий отчет о результатах. Действенный способ – столкновение мнений, то есть опубликование рядом двух писем, содержащих полярно противоположные мнения на одно и то же общественное событие, на одного и того же человека. Третий способ – это разговор за «круглым столом», где сознательно избегал какой бы то ни было парадности или словоблудия, так присущего коммунистам той поры. Я, как ведущий за «круглыми столами», естественно, старался предельно обострить разговор по теме, вызвать партийный актив на откровенное обсуждение. Тяжело, но удавалось. Удавалось раскачать даже секретарей партийных организаций, чтобы те переходили от общих слов к конкретным вещам, и они, в пылу дискуссии, позволяли себе говорить то, что в любой другой обстановке никогда бы не отважились произнести вслух.
Удачно построить разговор за «круглым столом», оживить присутствующих – полдела. Ничуть не проще было добиться, чтобы отчет со встречи за «круглым столом», в котором проблемы были обнажены мною до крайнего предела, появился в газете в том виде, в каком бы я хотел. Каждый раз отчаянно сражался за каждое предложение, а редактор с не меньшей настойчивостью стремился сгладить острые углы. В схватках доходило до того, что редактор меня обвинял в антипартийности, в сознательном очернении действительности, что пытаюсь протащить в газету всякую грязь, но он этого мне не позволит; я в долгу не оставался и обвинял редактора в трусости, в попытках лакировать действительность. Ярость моя была настолько, видимо, сильная, что редактор уступал. Правда, не всегда.
Особенно жарко поспорили по поводу, как сейчас помню, отчета со встречи за «круглым столом», проходившей в парткоме Первоуральского хромпикового завода, где, наравне с другими, участвовал и секретарь парткома. Леканов цеплялся к каждому факту, стараясь ослабить остроту разговора, но особенно взбунтовался по поводу одного инцидента, о котором рассказал один из участников той встречи. История такова: в одном из магазинов самообслуживания задержали коммуниста (называлась конкретная фамилия), который пытался, спрятав за пазухой, похитить дорогостоящий шарф, как он объяснял, хотел порадовать подарком жену. В ходе дискуссии завязался спор даже не о факте кражи, а о той реакции, которая последовала, когда персональное дело обсуждалось на партийном собрании. Оказалось, что у воришки с партбилетом в кармане немало нашлось защитников, возможно, единомышленников.
Редактор требовал убрать этот факт или, на худой конец, смягчить формулировки и не делать из одного случая далеко идущие выводы. Я упрямо отказывался, считая, что подобные случаи как раз и придают остроту дискуссии, поскольку есть конкретная пища для нее. Отстоял, но все-таки с некоторыми, признаюсь, потерями.
Словом, дискуссии на страницах газеты предшествовали мои ничуть не менее жаркие споры в редакции. Видимо, в угоду редактору, позволял себе прохаживаться с критикой по материалам газетной акции на летучках и первый заместитель редактора Борис Пручковский. Ну, это известный подпевала. За счет этого качества и так долго держался в должности. Иначе никто бы не стал смотреть сквозь пальцы на его вечно хмельную физиономию. Впрочем, у Пручковского тут был личный интерес: хоть и косвенно, но читательская дискуссия касалась и лично его «жизненной позиции». Его «боль» была мне понятна и объяснима.
Боюсь, личными мотивами объяснялось и упрямство коммуниста-редактора, у которого с позицией также не все ладно. Понимал, что и у него рыльце в пушку. По мелочам, а все же. Вспомню, как в редакции распределялось авторское вознаграждение или тот же фонд редактора.
Не предполагал (уж в который раз) Леканов, во что обернется жаркая дискуссия в газете. Но джин вырвался из амфоры, а обратно он загнать его не в состоянии: не хватает власти, а еще и отваги.
Долгая дискуссия (семь месяцев) подошла к концу. Надо подводить итоги. Согласно плану, должна завершиться большой статьей первого секретаря горкома КПСС, в которой бы были расставлены (теперь уже официально) еще раз акценты. Пошел к редактору. Сказал, чтобы тот сходил к Морозову и договорился. Леканов замахал руками, отказываясь даже затевать разговор с первым секретарем (видимо, кое-что знал об истинном отношении в аппарате горкома к дискуссии). Что ж, сказал, придется мне пойти, хотя и не по чину, но ничего не поделаешь.
Леканов самодовольно хмыкнул.
– Иди-иди… Ждут… Давно уж…
Понял второй смысл, но пошел. К удивлению, Морозов сразу принял, как только ему доложили о моем приходе. Выслушал молча. Подумал какое-то время и сказал:
– Ну, вы сами изладьте статью… Приносите… Я подпишу.
– Но это уже будет моя позиция. – заметил в ответ.
Морозов многозначительно улыбнулся и спросил:
– Вы думаете, что моя позиция в чем-то отличается от вашей?
– Нет… Наверное… Но…
– Значит, договорились.
Получив свободу, развернулся и сделал итоговую статью такой, какой я хотел. Статья получилась большая, на всю вторую страницу. И акценты расставил там, где хотел. Потом несколько дней шлифовал статью. Доведя до кондиции (кстати, об особом механизме работы над статьей ни с кем не обмолвился и словом, сохранив в тайне даже от корреспондентов отдела партийной жизни), с материалом пошел к Морозову. Тот бегло пробежал текст и попросил оставить на вечер. На другой день вновь был у первого секретаря. Он вернул статью в первозданном виде и с подписью. Пришел в редакцию. Стал разглядывать. Оказывается, замечаний нет, ни одного. Впрочем, кое-где на полях нашел авторские пометки-возражения, которые крест на крест были перечеркнуты. После подписи рукой автора было приписано: «Прошу редакцию не обращать внимания на мои пометки на полях».
Значит, даже эти немногие возражения автор посчитал нужным снять? Подумал: видимо, результат раздумий. Рукопись сдал в секретариат. Через час прибежал редактор и с порога…
– Так… Сам Морозов?.. Уже?..
Когда-то он, а теперь я в ответ усмехнулся.
– А чего вы хотели?
Редактор закрутил головой, не зная, о чем еще спросить, и ушел.
В следующем номере статья Морозова появилась в газете. Ее править Леканов не решился.
Так была поставлена точка в одной из газетных акций, проведенных мною лично и, считаю, успешно. Точнее – считал. Но не знал, что впереди ждет большой сюрприз. Меня и всех остальных. Для меня сюрприз явился приятной неожиданностью, для завистников – жесточайшим огорчением, для редактора – растерянностью и недоумением, для местного партийного начальства – удивлением. Что тут скажешь? Лишь одно: каждому – свое.
И все-таки не могу себе представить, что редактор, человек, несомненно, умный и опытный, не сумел оценить по достоинству, понять, что в газете произошли серьезные изменения и эти изменения связаны с работой по-новому сотрудников отдела партийной жизни, с работой не по привычным шаблонам и трафаретам, а творчески. Это же происходило на его глазах, каждодневно. Что за куриная слепота?! Мне – очевидно, а редактору – невероятно? Кто-кто, а Леканов знал практически и теоретически, как сложно, почти невозможно найти способы и сказать в газете по-журналистски увлекательно что-то новое в заскорузлых и замшелых, обремененных уставами и инструкциями, темах партийной жизни. Знал и не увидел, что за каких-то три года его газета стала любимой и увлекательно любопытной для коммунистов и беспартийных трибуной обсуждения злободневных проблем общественной жизни, обсуждения острого, всестороннего, принципиального и заинтересованного, что газета говорит теми же словами, что и раньше, но не так, совсем не так, что слова эти звучат больно и горько, но от этого как-то дышится легко, будто дохнул свежего воздуха, выйдя из смрадного закутка.
Как ни странно, редактор не понимал, что его газета в этом смысле интуитивно, возможно, случайно опередила свое время.
Впрочем, что теперь об этом думать?.. Вернусь-ка к тому самому сюрпризу, подготовленному мне судьбой.

От судьбы не спрячешься
Как-то раз Сергей Леканов, редактор, в очередной раз убыл в Свердловск. Не знаю, известна ли была цель поездки редактора его заместителю Борису Пручковскому? Сомневаюсь. Из того, что одновременно выехали туда же, в Свердловск первый, второй и третий секретари горкома, председатель горисполкома, сделал вывод: проводится очень ответственное областное мероприятие.
На другой день увидел, что на лице редактора растерянность. Он, будто, смотрит на меня совсем иначе, чем прежде. И ведет сдержаннее. Его странности никак не связал с тем, что произошло накануне. И не мог связать, потому что ничего не знал. В «Уральском рабочем», правда, заметил коротенькое информационное сообщение: Свердловский обком КПСС провел научно-практическую конференцию, тема которой (цитирую по памяти) звучала так: дальнейшее укрепление авторитета партийных органов и партийных организаций, последовательное усиление их влияния на жизнь общества и увеличении роли в этом партийной печати. Материалы к конференции готовили ведущие ученые-философы. С основным докладом выступил первый секретарь обкома КПСС Б. Н. Ельцин.
Итак, как-то странно смотрит редактор и молчит. Проходит недели две. Дела идут тихо и мирно. В один из таких дней, под вечер зазвонил мой телефон. Снял трубку и услышал знакомый голос инструктора обкома КПСС Виктора Дворянова.
– Прими поздравления, – сказал он.
– Принимаю, – ответил, – но не знаю, в связи с чем?
– Шутишь, Геннадий Иванович?
– Нет… серьезно.
– Не знаешь, что проходила научно-практическая конференция?
– Читал… В «Уральском рабочем»… И что?
– А то, что ты был героем дня.
– Из газетного отчета не видно… Из разряда черного юмора, да? – Обидчиво спросил его.
– Ты меня удивляешь.
– Чем?
– Тем, что до сих пор ничего не знаешь.
– А что должен был знать?
– Ну, как же! Ты только представь себе, что в докладе Борис Николаевич говорил о тебе целых двенадцать минут. То есть, – поспешил поправиться Дворянов, – твоя фамилия не называлась, а речь шла о твоей газете. Это – по форме, а по сути же…
– Ну… – Не знал, что на это сказать.
– Газета получила высочайшую оценку. Такую оценку, которой больше не удостоился никто в области, даже «Уральский рабочий». Странно, что ты не радуешься.
– Нет… Спасибо… Рад… Но… Откуда сведения у Бориса Николаевича?
– Ты и этого не знаешь?!
– Нет. А должен был знать, да?
– Конечно. С материалами, которые легли в основу доклада, должны были познакомить не только тебя, а и весь партийный актив города, прежде всего, коллектив редакции. Обком рекомендовал.
– Не знаю… Ничего не слышно.
– Неужели и редактор, участвовавший в работе конференции, ничего не сказал?
– Ни слова. Заметил, что в последние дни Леканов ведет себя непонятно, но… Не считал, что это как-то может быть связано с научно-практической конференцией.
– Конференцию готовили ученые Высшей партийной школы. Комиссию возглавил заведующий кафедрой философии, доктор философских наук… Работало несколько групп. Одна из них проанализировала твою газету…
– Это – не моя газета…
– Как это не твоя, если в ней работаешь? И работаешь так, как другим и не снится.
– Преувеличиваете, Виктор Федорович.
– Иди ты со своей скромностью, знаешь, куда? – наконец возмутился Дворянов. – Всякий на твоем месте носом землю бы рыл, а ты…
– Скажите, а ученые выбрали газету «Под знаменем Ленина» для анализа по рекомендации обкома?
– Нет. Группа сама так решила… После тщательного отбора.
– Еще вопрос: могу познакомиться с материалами ученых?
– Не только можешь, а и должен.
– Когда можно к вам подъехать?
– В этом нет необходимости: все материалы находятся в горкоме.
Разговор закончился. Положил трубку и минут пять отрешенно смотрел в окно. Радость перемежалась с обидой. Внутри – буря эмоций. Чуть-чуть успокоившись, встал и вышел на улицу. Постоял на перекрестке минуту, другую. И пошел в гастроном, что через дорогу, на углу. Купил бутылку водки и поехал домой. Жена, увидев в руках водку, удивилась.
– С какой стати?
Ни слова не говоря, прошел на кухню, достал рюмку, нарезал хлеба и колбасы, молча стал опрокидывать одну рюмку за другой. Опьянев (порция совсем не по мне), лег и уснул.
На другой день, столкнувшись с редактором в коридоре, не сказал ему ни слова о вчерашней «новости». Как, впрочем, и в последующие дни. Вечером, сбагрив с плеч повседневную свою обязанность, пошел в горком КПСС. В отделе пропаганды и агитации мне сказали, что запрашиваемые мною материалы хранятся у третьего секретаря. Пришел к Савельеву. Тот, услышав мою просьбу, засуетился, подтвердив, что материалы научно-практической конференции у него. Слазил в сейф и достал объемистую папку.
– Считал: горком познакомит партийный актив. – Съязвил я.
– Кто сказал?
– Тот, кто выдавал вам эту рекомендацию.
– Да-да… Конечно… Собираюсь прийти в редакцию и на собрании коллектива всех познакомить… День намечал, но все как-то срывалось… То да сё… Запарка у нас… Как-нибудь попозднее… Не горит…
– Нет свободного времени?
– Увы. – Савельев развел руками.
– А у первого секретаря обкома нашлось время. – Съязвил вновь.
– Я приду… на этих днях… Ну, а ты, раз уж так сильно интересуешься, можешь почитать сейчас.
Раскрыл папку. В ней лежало около шестидесяти страниц машинописного текста. Спросил разрешения взять с собой, на досуге и в более благоприятной обстановке почитать. Савельев не разрешил. Сказал, что нельзя выносить из стен горкома эти «секретные материалы».
Прочитал. Что могу сказать? Главное: аналитический обзор ученых расставил все точки над «I» и ответил со всей определенностью на основные спорные вопросы, возникавшие между мной и редактором. Это была моя нравственная победа в затянувшемся противостоянии. Победа полная и окончательная. Это многое объясняет, в том числе странное замалчивание того, о чем в полный голос было сказано на уровне области. Они не могли признать поражения, но в их власти оказалось предать забвению триумф не только мой, а и газеты, их газеты. Ни в чем не нуждался, а хотел лишь одного: обычного человеческого, главное, заслуженного, признания, что не зря четыре года трудился.
Запись в трудовой книжке:
«За большую работу по организации на страницах газеты „Под знаменем Ленина“ литературного конкурса под девизом „Коммунисты, вперед!“ и обсуждению письма коммунистов под рубрикой „Твоя позиция, коммунист?“ – объявлена благодарность. Редактор газеты – С. Леканов».
Что это, если не издевательство?! К тому же запись появилась лишь в последний день работы в редакции, то есть первого декабря 1978 года, спустя пять месяцев после областной научно-практической конференции. Редактор не мог скрыть радости, что ухожу-таки, и рассыпался в щедротах.
Как уходил? Своеобразно. Куда? Ну, это уже тема другой главы.
И последнее. Сравниваю двух первых секретарей – Василия Сюкосева (Шаля) и Михаила Морозова (Первоуральск). Первый действовал нахраписто и тупоголово, второй – умнее, тоньше, а потому гибче, интеллигентнее. Но результат один: там и тут партийная элита не поняла и не приняла меня. Значит? В этом что-то есть. Более глубинное, чем та пена, что на поверхности. Да, я – не ангел, но и не мерзавец… Переворачиваю еще одну страницу, длиною в четыре года, оставляя «за бортом» многое.