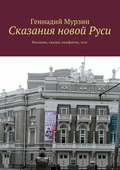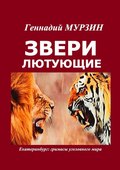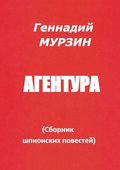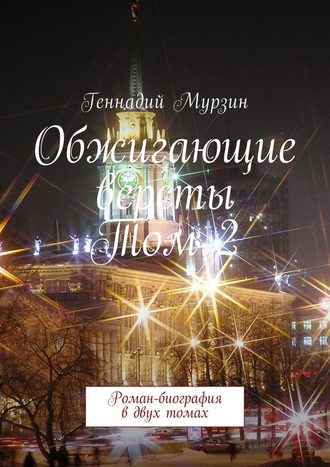
Геннадий Мурзин
Обжигающие вёрсты. Том 2. Роман-биография в двух томах
А шалинские князьки выжидают
Родная редакция встретила настороженно. Все смотрели на меня с любопытством, задаваясь одним вопросом: что-то теперь будет? Но ничего не происходило. Внешне, по крайней мере. И редактор молчал, будто воды в рот набрал, хотя прекрасно знал, что может меня ждать в дальнейшем. Мог бы по-товарищески предостеречь. Но… Атмосфера, чувствую, вокруг наэлектризованная. Прихожу в райком, и аппаратчики стараются избегать прямых контактов: все сухи и немногословны. Холодком отовсюду веет. Может, думаю, со временем оттают?
И оттаяли бы, если б попритих на какое-то время, посидел чуток в каком-нибудь уголочке. Но нет! Я – журналист, я – боец партии, поэтому долг зовет каждый день идти в бой за идеалы. Бросаюсь на очередной неприятельский дзот, будто кто шилом в задницу подтыкает. Реакция на атаку? Вполне предсказуемая: раздражение в кругах районной элиты не только не спадает, но и растет не по дням, а по часам.
Что же сдерживает князьков? Почему бы не пнуть крепенько под зад «варягу», пробующему натянуть на себя мантию учителя-наставника? Выжидают. На что рассчитывают? Надеются, что оступлюсь, на чем-либо спотыкнусь и тогда…
Обычно ловили подобных сражателей за «правду» на бытовухе. Например, аморалка в виде связи с любовницей. Совсем отлично, если жена придет в райком и пожалуется, что коммунист-супруг непристойно ведет себя в семье. Тут тебе сразу персональное дело на партийное собрание: покаешься – отделаешься строгим выговором, но с работы все равно попрут, потому что это их конечная цель; заартачишься – быть исключенным из партии, а тогда, что ты за заместитель редактора, что ты за идеологический боец? Ну, на худой конец, напился и попал в вытрезвитель. Пьют все? Да, но не все попадаются. Вора судят не за то, что он украл, а за то, что поймали.
Начальство терпеливо, не обнажает без крайней нужды кинжал. Ждет своего часа. Понимает уже, что на аморалке вряд ли подловит – тут, видит, все чисто. Но, думает про себя начальство, – человек слаб, несовершенен, поэтому обязательно где-нибудь на чем-нибудь да «подорвется». Ну, а пока… Ждет своего звездного часа, не давая даже повода подумать, что замышляет подлую месть. А что я? Ничего не жду и продолжаю работать в своем ключе, то есть задиристо. Ну, например…
Сергей Соловьев, председатель районного комитета народного контроля, получает письмо, в котором сообщается о непристойностях, допускаемых начальником районного отдела внутренних дел Мошкиным, в письме высказывается просьба разобраться и принять меры к безобразнику. Письмо – не анонимное.
Соловьем зачем-то знакомит меня с содержанием письма. Знакомит приватно: только, предупреждает, между нами. Прочитав, спрашиваю:
– Что собираетесь предпринять?
– Ничего. – отвечает Соловьев.
– Почему? – Вопрос прозвучал глупо, потому что знаю ответ. Нужды спрашивать никакой не было.
Соловьев обреченно вздыхает.
– Не дадут… Мошкин – член райкома КПСС, особа, приближенная к Самому…
– И как быть?
– Отправлю жалобу с сопроводительным моим информационным письмом в райком. А там…
– А там – похерят, – спешу добавить.
Соловьев опять вздыхает:
– Их право.
– Но вы же член бюро райкома?!
– Сегодня – член, завтра – не член. Сам косо взглянет – и песенка моя спета.
– Но это же произвол! – Начинаю кипятиться.
– Ну, что ты говоришь? На себе разве еще не почувствовал?
Отмахиваюсь:
– Не обо мне сейчас речь. Скажите, какова, на ваш взгляд, доля правды в жалобе?
– Скорее, на все сто процентов. Сигнал-то не первый. Да и без этих сигналов знаю: не без глаз.
Готов, прямо-таки горю жаждой справедливости. Тут же принимаю решение: так это не оставлю и сделаю все, чтобы общественность узнала правду. Мне, считаю, уже терять нечего. Признаюсь о намерении Соловьеву. Тот ахает и машет руками.
– Ни в коем случае! Меня – сожрут и не подавятся. Скажут, что это я науськал. Давай условимся: ты этого письма не видел.
– Да, не видел. – Охотно соглашаюсь. – Но никто мне не сможет помешать заполучить такое же письмо. Встречусь с автором, попрошу написать еще и в редакцию, уже на мое имя.
– Ну, как знаешь… Как старший товарищ, не советую: боком выйдет.
Ну, какие советы? Когда слушал подобные советы? Тем более, если во всеоружии, то есть с фактами, и на коне.
От Соловьева – к автору письма. Тот, на мое счастье, оказался дома. Сказал ему, что мне все известно, что хотел бы иметь на руках документальное подтверждение, то есть письмо соответствующего содержания. Он спросил: откуда узнал? Ответил: земля слухами полнится. Не хотел он, потому что не верил, что газета хоть что-то напечатает. Убедил, в конце концов. Чтобы полностью исключить возможные подозрения по адресу Соловьева, попросил дату в конце письма поставить другую. Автор согласился. И вот у меня собственноручное письмо, из которого следует, что написано оно было на два дня раньше, чем Соловьеву, то есть получалось, что узнал первым, а Соловьев – вторым. Маленькая неправда, но о ней знают лишь трое (Соловьев, я и сам автор) и каждому не резон раскрывать эту неправду.
В редакции знакомлю с полученным письмом редактора. Тот читает, и, вижу по его лицу, не удивляется ничему. Чертова провинция! Эти малые поселения, где все и всё о происходящем знают, но делают вид, что ничего не знают!
Михаил Кустов, прочитав, спрашивает:
– Что собираешься делать?
– Как что!? – Возмущаюсь. – Буду делать то, что положено партийному журналисту!
Редактор хмыкает.
– Ну-ну… Знаешь, что делают с бодливой коровой? – Спросил он, и сам же ответил. – Ее делают комолой8.
Позиция Кустова удивила: он предостерег, но не стал отговаривать. Подумал: уже хорошо, есть шанс вытащить парадный офицерский мундир Мошкина из затхлого и темного закутка на свет Божий, потрясти хорошенько, выбить накопившуюся пыль.
Приступаю к ковке железа, покуда оно раскалено. Вечером того же дня встречаюсь с Мошкиным, знакомлю с письмом и прошу прокомментировать изложенные факты. Мошкин держится уверенно, можно сказать, самонадеянно: он точно знает, что помимо воли первого секретаря редактор ничего не поместит в газете. Так что опасаться нечего. А заместитель редактора, сидящий перед ним, считает Мошкин, – не редактор, к тому же с подпорченной репутацией и имеет во власти серьезных недоброжелателей. Комментирует охотно. Оправдывается неумело, поэтому в речи, по сути, звучат не опровержения, а подтверждения того, что написано в письме.
Два следующих дня посвящаю встречам с возможными свидетелями. Неохотно, но дают, как любят говорить юристы, признательные показания. Заношу в блокнот, а для верности, чтобы потом не взяли свои слова обратно, знакомлю с записями и прошу удостоверить истинность личной подписью. Поясню: подобный способ сбора фактов при подготовке заведомо скандальных материалов перенял от друга юности, моего одногодка Руслана Киреева, специального корреспондента журнала «Крокодил».
Еще один день и статья «Пятна на мундире» сходит с печатной машинки. Иду в кабинет редактора. Там – Дмитрий Лаврентьев, друг Мошкина, правда, последнее время между ними пробежала черная кошка, и они почти не разговаривают. Лаврентьев, кстати, тоже знал о похождениях бравого майора милиции. И мы втроем, то есть Кустов, я и Лаврентьев, обсуждаем каждый абзац статьи, при необходимости, вносим коррективы.
Что же получилось в итоге? Фактически, плод коллективной мысли. Лаврентьев (понимаю, что у него примешиваются личные чувства) высказался за то, чтобы статья была поставлена в ближайший, то есть субботний номер. Редактор не стал возражать. А раз так, то отнес исправленную рукопись ответственному секретарю, чтобы тот имел в виду при макетировании второй и третьей полос. Попросил поставить подвалом.
Вскоре куда-то исчез редактор. Вечером мне позвонил и сообщил, что он на больничном на неопределенное время, из чего вытекает, что автоматически приступаю к исполнению обязанностей редактора. Этот финт с больничным для меня не нов, поэтому отнесся спокойно. И с чистой совестью подписал «в печать» субботний номер со своей статьей.
Вот так статья увидела свет. Ее никто не ждал, в том числе Мошкин. Подвела его самонадеянность.
За выходные все успели прочитать, поэтому в понедельник началась буря. С утра прибежал взволнованный, но злорадно ухмыляющийся, заведующий отделом пропаганды и агитации райкома, изъял рукопись, с которой был сделан типографский набор, оригинал письма в редакцию, опросил сотрудников, как и что происходило перед появлением нашумевшей статьи. Ушел. А вечером мне позвонили, что созвано экстренное и закрытое заседание бюро райкома, где мне надлежит присутствовать. В качестве кого? Не знаю. Но догадываюсь.
Интуиция меня не подвела: предмет обсуждения – статья «Пятна на мундире». Члены бюро (Соловьев не присутствовал) единогласно решили, что выступление газеты «Путь к коммунизму» ошибочно и политически вредно, поскольку наносит серьезный ущерб авторитету районной партийной организации, соответственно, бросает тень и на всю партию. Бюро райкома КПСС принимает постановление: в следующем номере опубликовать опровержение, подготовку которого поручить заведующему отделом Александру Неугодникову.
Мои возражения никто в расчет не собирался принимать; не для того собирались. Василий Сюкосев в конце заметил, что в отношении автора персональное дело будет рассмотрено отдельно, после того, как редактор выздоровеет и выйдет на работу.
Вернувшись в редакцию, звоню Кустову, спрашиваю, как мне быть с опровержением? Он отвечает: ты исполняющий обязанности редактора, тебе и решать.
Во вторник принесли официальное опровержение, в котором сказано, что бюро райкома рассмотрело статью «Пятна на мундире»… Ну и так далее.
Что делать? Партийная дисциплина обязывает выполнить решение партийного органа, то есть сам себя должен буду, как та унтер-офицерская вдова, публично высечь.
Решение выполнил: в номере за четверг, причем, на первой полосе (так потребовал райком) читатель мог прочитать опровержение. Однако, когда дело было сделано, позвонил в обком КПСС (под предлогом того, что хочу посоветоваться, поскольку ситуация щекотливая) и проинформировал о случившемся. Рассказал все, как было.
Меня выслушали и сказали, что не должен был публиковать подобного рода документ. Напомнил о партийной дисциплине. Мне сказали, что у меня была возможность опротестовать подобное решение в вышестоящем партийном органе. Иначе говоря, указали, что должен был поставить в известность обком КПСС сразу после заседания бюро Шалинского райкома. Получилось, что все равно виноват.
Часа через два прибежал весь в красных пятнах тот же самый заведующий отделом пропаганды и агитации и сказал, что опровержение публиковать не надо, что должен ему вернуть подлинный текст опровержения. Подумал: дурак, еще не видел сегодняшний номер. Спросил:
– С какой это стати?
– Бюро райкома отменило ранее принятое постановление.
– Извините, – сказал, – у вас на неделе семь пятниц, а что мне делать? Свой документ назад не получите, а иначе вы представите дело так, что никакого постановления в природе не существовало, что это все плод моей больной фантазии.
– Мы…
Он что-то хотел возразить, но я не дал.
– Вы – крайне непорядочные люди и с вами надо быть предельно осторожным.
Конечно, никакого моего «персонального дела» не было. Затея провалилась… на этот раз. Однако и в отношении Мошкина также никакого персонального дела не заводилось: спустили на тормозах. Правда, авторитет был все равно подмочен, поэтому решили, что Мошкину лучше всего покинуть район. Он уехал и был назначен в области заместителем начальника одного из районных отделов внутренних дел.
Эффект статьи? Какой-никакой, но был. Сброшен с пьедестала мерзавец. Ну и (читатель все правильно понял) пощечину получил, пусть и косвенно, Василий Сюкосев, который обожал с Мошкиным выезжать на шашлычки, а также прочие проворачивать делишки.
Савельев зауважал меня еще больше. Правда, принародно это не выказывал: нельзя!
На какое-то время вокруг меня все поутихло: провинциальное болотце вновь стало затягиваться тиной.
Вспомнив, что есть давний должок, тянущийся еще с юношеской поры, пошел в школу рабочей молодежи, в класс, который, собственно, прошел и даже сдал один экзамен – в десятый. Проучившись осень, зиму и весну, вышел на госэкзамены. Сдал их (на сей раз без приключений) и на руках (наконец-то!) – аттестат зрелости. Поздновато пришла «зрелость», но лучше поздно, чем никогда. Причем, только с пятерками и четверками. Ну, конечно: совестно учиться на троечки заместителю редактора! Вот и тянулся.
Внешнее спокойствие и внутренний комфорт позволили задаться вопросом: куда дальше? То, что надо двигаться по дороге знаний, – не было сомнений. Понимал, что при отсутствии высшего образования – впереди приличного пути нет.

Всерьез задумался о высшем образовании
Еду в Свердловск и подаю документы в Уральский государственный университет. А куда еще-то? Ведь, фактически, состоявшийся журналист, с опытом практической работы – прямая дорога на факультет журналистики. На сердце – тревога. Две проблемы. Во-первых, большой конкурс, даже на заочное отделение, а потому сдавать надо вступительные экзамены только на «четыре» и «пять». Добиться мне такого результата, как понимаю, будет очень и очень сложно. Потому что, и это вторая проблема, в аттестате зрелости графа «иностранный язык» – пустая, там прочерк. Почему? В вечерней школе не было преподавателя иностранного языка. Не довелось (по той же причине) осваивать язык и в других ШРМ. И получается, что весь мой багаж по иностранному языку – первичные знания, полученные в пятом и шестом классах. Это было так давно. К тому же не было тяготения. И запомнил лишь из всего курса немецкого языка, пожалуй, одну фразу: «Was ist das?». Хотя не совсем так. Еще свободно мог произнести со значением: «Danke schon!». Встретив в тексте слова «Das Fenster» и «Die Rabe» легко мог перевести на родной язык. Вот и все познания. А на вступительном экзамене должен буду не только прочитать правильно текст, а перевести без словаря и ответить на вопрос по грамматике.
Приезжаю домой, обкладываюсь учебниками немецкого языка. Пытаюсь что-то понять: не получается. Прихожу к выводу: без репетиторства – не обойтись. Иду в одну школу. Ищу преподавателя. Нет ни одного: каникулы и все разъехались. Иду в другую школу: то же самое. И тут приходит на помощь коллега Дмитрий Лаврентьев. Говорит, что в его доме живет преподаватель иностранных языков, кажется, никуда не уехал, днями видел во дворе.
Вечером отправляюсь по названному адресу. Стучусь в дверь. Открыл молодой мужчина и… вдрызг пьяный. Тотчас же погрустнел, интуитивно понял, что мне не такой репетитор нужен. И все-таки на широкий приглашающий жест хозяина откликнулся. Вошел.
– Присаживайся, – показал рукой на диван, по которому были разбросаны тряпки. – Знаю, в чем дело: Димка рассказал… Ты попал в хорошие руки: лучше меня никто тебя не натаскает.
Условившись о стоимости услуги, спросил:
– Когда можем начать?
– Да хоть сейчас! – Бодро сказал репетитор, потянулся к столу, взял початую бутылку портвейна, плеснул в граненый стакан и выпил, не закусывая.
Все последующие репетиционные занятия проходили под хмельком. Так что… Пришлось отказаться от услуг подобного репетира.
Несмотря на это, все же поехал сдавать вступительные экзамены. На что рассчитывал? Наверное, на чудо. Его не случилось: сочинение написал на «отлично», литературу (устно) – тоже самое, историю на «хорошо», а иностранный язык – провалил.
Что же получается? А то, что из-за отсутствия знаний по немецкому двери университета для меня навсегда закрыты. Жаль, но на исправление этого минуса у меня уже нет времени. И если и далее буду тянуть с получением высшего образования, то не получу его уже никогда. Надо что-то делать. Но что? Пожалуй, одно: поступать в то учебное заведение, где при вступительных экзаменах нет иностранного языка.
На этой грустной ноте из стен университета иду в обком КПСС. В секторе печати рассказываю о провале. Виктор Дворянов, инструктор, выслушав, посочувствовал, сказал, что помочь ничем не может, поскольку вмешиваться в работу приемной комиссии не имеет права. Обиделся, что меня не так поняли. Дворянов, видимо, почувствовал, что посетитель надул губки.
– Хотя, – вдруг сказал он, – обком может помочь. – С надеждой взглянул ему в глаза. – У тебя есть все объективные данные: опыт общественной работы, солидный партийный стаж и, фактически, номенклатура, хотя и районного масштаба. – Не понимал, куда клонит Виктор Федорович. И тут Дворянов добавил. – Правда, возникнут другие трудности…
– Вы о чем?..
– Потребуется рекомендация-направление бюро райкома КПСС, а у тебя, насколько мне известно, непростые сложились отношения.
Все еще не понимал, о каком таком учебном заведении ведет речь инструктор обкома, для поступления в который требуется официальная рекомендация партийного органа?
Видя, что окончательно меня сбил с толку, заинтриговал, Дворянов пояснил:
– Речь веду о Заочной Высшей партийной школе при ЦК КПСС, где готовят руководящие партийные кадры.
– Но это… далеко от журналистики. – Заметил ему
– Там есть и специализированная группа из числа партийных журналистов. Слушателям, кроме обычных дисциплин, преподают и основы газетного дела. Это, по сути, сокращенная программа факультета журналистики. Ты – практик и тебе большего не надо.
– А… Как быть с иностранным?
Дворянов успокоил:
– На вступительных нет иностранного языка. Причем, нет никакого конкурса. Набирают ровно столько, сколько требуется, группа из двадцати пяти человек. Ясное дело, заявлений больше, но тут отбирает обком. В этом смысле, у тебя проблем не будет. – Заверил он, но тут же добавил. – Конечно, при наличии той самой рекомендации райкома.
– На нее – не рассчитываю. – Сказал со вздохом я.
– Пожалуй. – Согласился Дворянов и тут же добавил. – Но обком попробует помочь.
– Что я должен делать?
– Ничего. Характеристика с места работы, раз поступал, уже есть, две фотографии есть, аттестат зрелости – само собой. А остальное – заявление напишешь в райкоме. Там же дадут направление…
– Не дадут.
– Будем стараться… Короче говоря, работа пойдет по партийным каналам: все, что дополнительно потребуется, скажут в райкоме.
Уехал. С верой и надеждой. Правда, все выглядело весьма-таки призрачно. Как ни странно, но процедуру прошел без сучка и задоринки. Видел, с какой неохотой в райкоме оформляли документы, но делали, стиснув в злобе зубы. Даже на заседании бюро райкома КПСС, где утверждали направление на учебу, не прозвучало ни одного провокационного вопроса. Всё проделали молча, будто набрали воды в рот. Но это вовсе не означало, что люди сменили гнев на милость и забыли недавнее прошлое. Они всего лишь дали мне небольшую передышку. И за нее – спасибо!
Из райкома мои документы ушли в обком. Там, как и говорил Дворянов, все обошлось: прошел отбор и был включен в число допущенных к сдаче вступительных экзаменов. В сентябре успешно сдал их и был зачислен слушателем первого курса Заочной Высшей партийной школы при ЦК КПСС. Потом были сессии, зачеты, курсовые и бесконечные экзамены. Учился без срывов. Не скажу, что исключительно на «отлично», но высокие оценки намного преобладали над «удовлетворительными».


Неудача карьериста
А через год с небольшим вызвали в обком. Думал, что для головомойки. Но нет: предложили новое место работы. Сказали, что надо сейчас же выехать, познакомиться с первым секретарем райкома. Вечером сел в поезд и утром был в Тугулыме, райцентре, граничащем с Тюменской областью. Встреча с первым секретарем прошла, как мне показалось, на должном уровне: та сторона, кажется, демонстрировала удовольствие кандидатом на занятие номенклатурной должности и всем была довольна. Эта сторона, то есть я, – не в восторге: Тугулым – та же провинциальная глушь, что и Шаля. Однако своего неудовольствия не выказываю. Как-никак, есть плюс – повышение по должности и возможность с нуля начать строить взаимоотношения с новым начальством, возможно, надеялся, здесь меня примут лучше, чем в Шале.
Одним словом, стороны договорились. Утром другого дня был в Свердловске. С вокзала – в обком. Заведующий сектором печати Иван Новожилов (встреча по предварительной договоренности) встретил с явной прохладцей. Молча выслушал рассказ об итогах аудиенции с первым секретарем. По моим ощущениям, он что-то знает и не в мою пользу. Скупо и сухо обронил:
– Возвращайся домой… Если решится вопрос, позвоним.
Выйдя из кабинета, задался вопросом: что могло произойти за полсуток, которые истекли с момента расставания в Тугулыме? Подумав и проанализировав, пришел к выводу: после нашей встречи, прошедшей в «теплой и дружеской обстановке», первый секретарь Тугулымского райкома КПСС позвонил, скорее всего, своему коллеге, то есть первому секретарю Шалинского райкома Василию Сюкосеву, чтобы побольше разузнать о кандидате. Что услышал? Ну, ясно, ничего хорошего. И затем, видимо, позвонил в обком, Новожилову, и дал отбой.
Из обкома звонок не последовал – ни через неделю, ни через месяц. Обидно? Ничуть. Подобный исход ожидал. Несостоявшийся редактор районной газеты продолжал корпеть на Шалинской ниве, прекрасно осознавая, что перспективы никакой, что Шалинский райком хода не даст, грудью встанет на моем пути. Сам виноват и никто более.
Затем произошли два события, которые окончательно осложнили мое положение.
В первом событии моей вины не было никакой: так сложились обстоятельства, а в результате меня неправильно поняли. Что же произошло? Можно сказать, смешная и грустная, одновременно, история.
Нижний Тагил. Загородный профилакторий, на базе которого проходит трехдневный областной семинар для заведующих отделами партийной жизни городских и районных газет. Первый день проходит нормально. По теме семинара выступил с основным докладом инструктор обкома КПСС Виктор Дворянов. Это был глубокий и всесторонний анализ всех печатных изданий. Естественно, звучали похвалы в адрес одних газет и нелицеприятная критика – в адрес других. Газета, которую представлял, прозвучала в ряду первых, и поэтому сидел на семинаре настоящим именинником. Как приятно, когда хвалят. Вдвойне приятно, если похвала звучит из уст компетентных людей.
Расслабился и потерял бдительность. Вечером, после окончания семинарских занятий, в профилактории гул пьяных голосов. Пьют все: одни – по случаю радости, что отмечены положительно; другие – с горя, поскольку подверглись критике. У всех есть повод. У меня – тоже. Но… И тут-то происходит неожиданное.
Во время заезда по чистой случайности оказался поселенным в одной комнате с заместителем редактора Верхотурской районной газеты Сергеем Воробьевым. Естественно, Сергей наслышан обо мне и, возможно, поэтому повел себя непривычно сдержанно. До сих пор не могу понять, как это получилось, но факт: мы вечер провели по-трезвому. Взяли у горничной шахматы и до глубокой ночи сражались. И это не беда, если бы оставались в своей комнате. Но хватило ума выйти с шахматами в холл и там играть. Зачем? Короче, засветились «белые вороны»!
И общественное мнение осудило. Меня – в первую очередь. Народ посчитал, что сказалось мое «дурное» влияние на Воробьева, по принципу: сам – не гам и другим – не дам. Мое положение усугубилось еще и тем, что все знали, что Воробьев – горячий поклонник Бахуса и видеть его трезвым, когда все пьяные, – нонсенс. Все посчитали, что подобная моя выходка на семинаре – вызов обществу. Впрочем, не хочу дальше углубляться. Замечу лишь, что впоследствии добьюсь реабилитации и на деле докажу: все человеческое и мне не чуждо.
Вскоре произошло другое событие, пострашнее первого. Ну, тут-то моя вина очевидна. Да, возмутился, но это была реакция на неадекватность восприятия события партийной властью.
В 1974-м вцепились в меня мертвой хваткой. Ухватились по мелочи, о которой неудобно даже говорить, хотя придется. Вон, до каких масштабов раздули скандал!