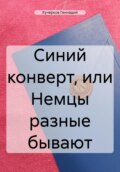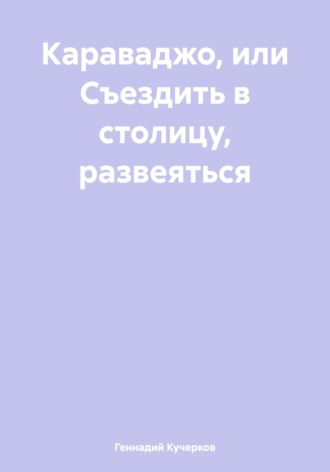
Геннадий Кучерков
Караваджо, или Съездить в столицу, развеяться
Раздробленная на множество мелких государств, Италия на рубеже 16 и 17 веков все ещё оставалась в состоянии, как формулируют некоторые исследователи, «запущенного морально-нравственного кризиса». В поисках лучшей доли в Рим стекались как талантливые умы и мастера, так и обездоленные со всей страны. Город был переполнен ворами, грабителями, нищими попрошайками, куртизанками и проститутками. Находиться на улице не только ночью, но иногда и днём, было небезопасно. Поэтому Караваджо, несмотря на формальный запрет на ношение оружия, никогда не выходил на променад без шпаги.
Господствующими чертами поведения римлян той эпохи были «эгоизм и себялюбие». Нормой жизни стала жестокая месть чуть ли не за любую обиду. Кровная месть, привнесённая на Апеннинский полуостров варварами-германцами, разгромившими Западную Римскую империю более тысячи лет назад, укоренилась в Риме настолько, что стала не только обязательной нормой жизни. Судебными решениями она была возведена, по сути, в ранг обязанности римлянина. Отказ от кровного мщения за обиду считался позором, и суд в этом случае нередко становился на сторону ответчика-обидчика, а не истца, презревшего своё право на кровную месть.
Гипертрофированный характер приобрело в Риме понятие чести. И в верхах общества, и у простолюдинов. Слово «честь» было у всех на устах по любому поводу, но каждый трактовал его исключительно в эгоистическом ключе, часто маскируя им свои пороки.
Сам по себе Художник был человеком с высоко развитым чувством собственного достоинства, презирающим обман, шулерство, мошенничество, воровство. Впрочем, он был порядочным в той мере, в каком порядочность понималась в тогдашнем Риме. И все же, находясь в среде людей, исповедующих эти пороки, он нередко оказывался в роли борца за справедливость и попадал в конфликтные ситуации. Сам он без достаточной причины редко начинал большую бузу. Но если кто-то из его друзей или спутников затевал драку, Караваджо самоотверженно поддерживал приятеля, невзирая на то: прав тот или нет. Нередко случалось, что в полицию попадал он, а не зачинщик ссоры. Так его несколько раз подставлял Лонге – его частый спутник по прогулкам по ночному Риму, всегда и везде искавший острых ощущений бузотёр.
Для Караваджо поводом для драки был также любой намёк на его внешность и невысокий рост. Будучи человеком от природы очень эмоциональным, он в конфликтах нередко обнажал шпагу, а иногда и использовал её. Спящему привиделась сценка, знакомая ему из литературы, когда Караваджо в ответ на оскорбление ударил противника шпагой по лицу. Правда, плашмя, но кровь появилась и Караваджо был препровождён в полицейский участок. Следствием этого происшествия станет вскоре его бегство из Рима.
Стремление простолюдинов Рима любыми способами вырваться из нищеты, привело к невероятному расцвету в городе азартных игр и тотализаторов. Правительство пыталось с этим бороться. Ремесло игрока было объявлено позорным занятием. Но удачливые игроки становились кумирами бедноты и ряды искателей счастья только умножались.
Сама природа эмоционального до экспансивности Караваджо делала его азартным игроком. Кроме карт, он любил играть в «мяч» – некое подобие примитивного тенниса. Проигрывать не любил, подтасовки пресекал без промедления, и это приводило к выяснению отношений между игроками, к оскорбительным пререканиям с болельщиками соперника, в конечном счёте – к потасовкам.
Спящему порой казалось, что ОН не только наблюдает за Художником, но и принимает участие в его буйных пирушках. ОН знал о преждевременной и таинственной смерти Караваджо и очень о ней сожалел. Во сне ОН не раз примерял на себя роль чуть ли не ангела-хранителя, предупреждающего Художника об опасности. Желание не допустить трагедии было столь велико, что сценки, где ОН спасает Художника от смерти, вновь и вновь его посещали. Чаще это происходило на улицах города. Своими криками ОН старался привлечь внимание Караваджо к опасности. И это ему удавалось до поры, до времени. Но однажды ОН ничего не смог сделать.
Ему привиделась грязная, полутёмная траттория, где веселился Караваджо в компании своих приятелей. Он весел, с ним его лютня и он, откликаясь на просьбы сотрапезников, играет и поёт. Сидящие за столом дружно ему подпевают. Но не всем в кабаке это нравится. Из зала сыплются оскорбления и угрозы, требования прекратить «козлиное блеяние». Им отвечают не менее вызывающими криками и издевательскими куплетами хором о «глухих баранах». Внезапно Спящий замечает за спиной поющих тень с клинком в руке. В предчувствии опасности у него в бешеном ритме заходится сердце, и ОН кричит Художнику: «Микеле, оглянись, берегись нападения сзади!». Но Караваджо его не слышит, он весь поглощён противостоянием с критиками его певческого таланта. А он его за собой признавал. Снова и снова Спящий выкрикивает своё предупреждение, но тщетно. Его крики заглушаются пением.
ОН чувствует, что задыхается от волнения, от страха за Караваджо, от натуги, с какой кричит… Но вот картинка расплывается и затягивается уже привычной ему серо-чёрной пеленой.
ПАЦИЕНТ ПАЛАТЫ №21
Дежурная медсестра на посту, услышав зуммер тревоги из палаты №21, бегом бросилась к ординаторской.
– Семён Иванович, двадцать первая, коматозный, – резко распахнув дверь в кабинет, крикнула она на бегу дежурному врачу.
На экранах мониторов они увидели, что пульс больного подскочил до 110, давление до 170, другие приборы, подключённые к голове, фиксировали оживление процессов в мозгу. Врач не успел ещё разобраться в показаниях, как с койки прозвучал хриплый крик скороговоркой: «Michele! Boda! Lama! Attento all’attacco da dietro!». И сразу же: «Attento da dietro, Michele! Guardaге in dietro!».
Врач и сестра переглянулись и какое-то время напряжённо ждали продолжения, внимательно наблюдая за больным. Лицо его оставалось совершенно неподвижным, только на шее и на висках чётко проступили интенсивно пульсирующие кровеносные сосуды, и ускорилось дыхание. Показания приборов держались на высоких значениях ещё около минуты и затем медленно вернулись к изначальным.
– Ты запомнила, что он сказал? – обратился врач к сестре.
– Не уверена, что-то вроде: «Микеле, атэнтцьоне, – припоминала она, – какая-то атака что ли, дьетра, ещё кажется. Похоже на итальянский».
– Да, да, кажется, именно так, а ещё: «бада, лама, атэньцьоне дьетро». Запиши, чтобы не забыть, а также все показания приборов в тот момент, – приказал врач и, повторяя в задумчивости слова больного, приступил к его осмотру.
Оставив сестру в палате продолжить наблюдение за больным, врач отправился в ординаторскую, где имелась довольно приличная полка с медицинскими справочниками и словарями. В своё время, в годы учёбы в мединституте, ему легко давался курс латыни, который вёл хорошо владеющий современным итальянским языком преподаватель. И сейчас врач уловил во фразе больного знакомое звучание. Он почти не сомневался, что это был итальянский язык. А слова как будто несли какое-то предупреждение.
Он быстро нашёл то, что искал. Фразу больного можно было перевести так: «Микеле, осторожно, кинжал сзади, оглянись, берегись нападения».
Назавтра врачи отделения обменялись своими догадками и предположениями, что означала эта фраза. Не исключалось, что больной во сне вновь пережил потрясение, случившееся с ним перед тем, как он потерял сознание в электричке, и приведшее его в состояние летаргического сна. То, что фраза была произнесена на итальянском, подтверждало предположение, возникшее ещё в районной больнице, о том, что проблемный пациент является иностранцем, скорее всего, итальянцем.
И для всех стало очевидно: летаргический больной видел сны. По мнению одних, это можно было рассматривать, как признак грядущего пробуждения. Другие полагали, что дело близится к критической фазе заболевания, исход которой непредсказуем.
***
Возбуждение, которое ОН пережил во сне в связи с желанием предотвратить смертельную опасность, угрожавшую Художнику, вернуло тематику его сна к картине «Положение во гроб». В его сознании трагические судьбы Художника и этой его картины были явлениями одного порядка и были неразрывно связаны. Обе они завершились смертью: буквальной смертью Караваджо и фактической смертью картины – ее забвением, последовавшим вслед за отправкой её в церковные подвалы на двухвековое заточение. И произошли эти события почти одновременно.
После драки с известным и влиятельным римским нотариусом, в ходе которой Караваджо нанёс ему удар шпагой по голове, он был вынужден покинуть Рим. (По мнению некоторых авторов конфликт возник между претендентами на одну и ту же известную в Риме куртизанку). Спустя недолгое время в город пришли вести о таинственной гибели Художника.
Церковь воспользовалась отъездом Художника, чтобы избавиться от его картины «Положение во гроб». Переписанное после критики церковников полотно, было выставлено в одной из римских церквей и пользовалась популярностью у прихожан. Высоко оценивали его даже враги Караваджо. Но отцов церкви смущал реализм картины, её потрясающая жизненная достоверность. Под предлогом демонстрации картин на библейские темы других художников её просто извлекли из ниши в церкви и снесли в подвал, где она будет оставаться в течение последующих двух веков. А чтобы пресечь возмущение верующих, недовольных удалением полотна, в освободившуюся нишу в 1608 году поместили выдающийся триптих молодого Рубенса, к тому времени уже также успевшего завоевать любовь римских граждан.
ОН знал эту историю изгнания картины «Положение во гроб». И она всегда воспринималась им, как действительное погребение. Ещё в реальной жизни в его никогда не спавшем воображении возникала картина, как монахи, повернув огромное полотно набок (этого требовали низкие своды церковных подвалов: в высоту картина достигала трёх метров, в ширину – двух), тащат его без должного почтения по каменным сырым темным переходам в скудном свете смоляного вонючего факела. При этом фигура Христа оказывалась перевёрнутой головой вниз и это обстоятельство воспринималось им особенно болезненно.
А сейчас во сне, травмированное смертью Художника подсознание, демонстрировало ему перенос не картины, а его самого в сырое подземелье. ОН был готов к чему-то подобному ещё тогда, когда стоял рядом с полотном на выставке, ощущая могильные запахи, когда обнаруживал себя во сне в мастерской Художника на месте Христа на холсте картины. Сейчас произошло совмещение этих двух проекций, и процесс его погружения в могилу преобразился в мучительное волочение его обнажённого полумёртвого тела по церковным подвалам.
Четыре монаха тащили его за руки и за ноги по подземным переходам. Впереди кто-то шёл с факелом, его отблески скользили по стенам, сочащимися мокрой зеленоватой слизью. Его сотрясала дрожь, глаза заливал холодный пот. ОН был крупным человеком, и временами худосочные носильщики не удерживали тело на должной высоте от пола, и оно шаркало по влажному, грязному камню. ОН содрогался от этих холодных, мокрых соприкосновений, но боли не чувствовал. Наконец, его бросили на голый холодный пол, ногами подтолкнули вплотную к столь же холодной и мокрой стене. И сразу же ушли. Он ещё какое-то время слышал гулкий стук и шарканье грубой обуви его могильщиков по каменным плитам пола, видел все удаляющиеся и уменьшающиеся пляшущие отблески факела на стенах. А затем наступили полная темнота и тишина. ОН с облегчением глубоко вздохнул и задохнулся промозглым воздухом каменной могилы. Раскашлялся так, что в его мозгу как будто что-то лопнуло, и подсознание выбросило перед ним картину Курта Гольбейна «Мёртвый Христос во гробе». Глаза Спасителя, которые ранее он видел на репродукциях картины чуть прикрытыми веками, теперь были распахнуты и смотрели ему прямо в душу, как бы спрашивая: «готов ли ты последовать за мной?». Но он был атеистом до последнего атома своё тела даже в смертный час и не преминул уточнить:
– «Последовать» – в смысле уверовать в тебя или предлагаешь истлевать вместе с тобой в могиле? Я бы предпочёл первое, но, похоже, поздно…
Прежде, чем его сознание заволокла уже привычная ему чёрная патока безвременья, успел ещё подумать:
– Ну вот и все. Нашёл своё последнее пристанище. Сейчас вся жизнь должна пронестись перед моими глазами. Наконец, приоткроется тайна моего детства.
ОН всегда сожалел, что его память почти ничего – ни хорошего, ни плохого – не удержала из этого раннего периода его жизни. Последней надеждой вспомнить хоть что-то была его вера в этот стереотип представлений живых людей о последних минутах умирающего, когда якобы должна развернуться подробная лента всей прожитой жизни.
ЭКСПЕРИМЕНТАТОР АЛЁША
Внимательное наблюдение за больным палаты №21 продолжалось. После его тревожного крика ждали каких-то новых проявлений жизни. И через несколько дней они были замечены. Но они были совсем не такими, какие ожидали увидеть те, кто ждал улучшения его состояния. Вместо проявлений положительной динамики тело вдруг стал сотрясать озноб, лоб покрыл холодный пот. Полагали, что начался переход из состояния летаргического сна в коматозное. Самостоятельное дыхание стало совсем малозаметным, пульс трудно уловим. На внешние раздражители организм не откликался. Подключили ИВЛ – аппарат искусственной вентиляции лёгких. Угасание жизни сопровождалось быстрым охлаждением тела. Оно покрылось настолько ледяной на ощупь испариной, что сестра, притронувшаяся рукой в медицинской перчатке к его лбу, в испуге вскрикнула. Прошло несколько дней и состояние летаргического больного палаты №7 снова стабилизировалось
Врачи постепенно утрачивали интерес к этому пациенту и все реже заглядывали к нему в палату. И если ранее в ординаторской лечащему врачу пациента палаты №21 приходилось ежедневно отвечать кому-нибудь на вопрос: «Как он там?», то теперь это происходило лишь от случая к случаю.
Лето – время практики для студентов медвузов. Алёша Ветров принадлежал к числу студентов, которых нередко называют «ботаниками». То есть был он немножко не от мира сего, увлекающийся идеалист. Он собирался стать нейрофизиологом и на практике в клинике очень заинтересовался случаем с больным палаты №21. С разрешения заведующего отделением он буквально дневал и ночевал рядом с «летаргиком».
Он перепроверил все показания, повторно провёл анализы, в том числе те, которые ранее не проводились, изучил химические формулы всех лекарств, которыми потчевали больного. В главной российской библиотеке нашёл несколько старинных медицинских манускриптов, где описывались случаи возвращения к жизни летаргических больных. Он очень сожалел, что не уделял раньше должного внимания изучению иностранных языков, но кое-какие рецепты из немецких и французских средневековых трактатов он извлёк, благодаря добросовестной зубрёжке в институте латинской медицинской терминологии. Зачёт по латыни он сдал лучше всех в группе.
В лаборатории больницы Алексей так увлёк своим энтузиазмом заведующего, что ему разрешили иногда проводить химические эксперименты и даже позволяли иногда пользоваться центрифугой. Практикант поставил перед собой задачу вывести находящего в летаргическом сне из этого состояния и вернуть его к активной жизни. Принёс из дома триммер и, проявив незаурядные навыки брадобрея, привёл Старика во вполне приемлемый вид. Помогал нянечке переворачивать и обтирать больного во избежание образования пролежней. Заметив, что медсестра, отвечающая за кормление пациента, делает это наспех и без должного тщания, он взял эту процедуру на себя, стал кое-что из еды приносить из дома.
Но обязанности санитара никак не могли удовлетворить будущего врача. Он разрабатывал тактику вывода летаргического больного из состояния сна. Он обратился к заведующему отделением со своими предложениями. Тот отнёсся одобрительно к поискам практиканта, но проводить какие-либо серьёзные эксперименты посчитал преждевременной затеей.
Алексей был готов тайно проводить свои опыты, но кроме Спящего в палате были ещё два пациента, и он не решился приступить к делу. Но «ботаники» везучие люди. В том крыле здания, где находилась палата Спящего, начинался ремонт и больных «распихивали» по другим палатам. Но и их не хватало. Использовали даже подсобные, более-менее пригодные, помещения. И Алёша сообразил, что можно воспользоваться случаем, для отдельного размещения Спящего. Он нашёл на первом этаже небольшую узкую комнатку под номером 7, которая образовалась в результате деления капитальной перегородкой технического помещения. Там сейчас хранилась кое-какая устаревшая медицинская аппаратура, но при компактном её размещении в углах у окна освобождалось достаточно места для одной кровати, тумбочки и стула. Для летаргического больного особой стерильности не требовалось и практиканту разрешили временно перевезти туда Спящего
В тайне от всех Алёша приступил к своим экспериментам. Он вводил больному перорально и ректально препараты, как известные, но ранее не применявшиеся в подобных случаях, так и смеси собственного изобретения. С применением грелки и сухого льда резко менял температуру тела, пропускал через него слабый ток. Результат был нулевым, что чётко фиксировали многочисленные датчики, подключённые практикантом к телу и голове больного. Алексей воспользовался оборудованием, обнаруженным им в комнатке. Хотя приборы были старыми, но многие работали вполне сносно.
Под влиянием средневековых алхимиков и эскулапов Алёша пришёл к выводу, что путь к «оживлению» летаргического больного проходит через его сосуды. Нужно было обогатить кровь дополнительными химическими элементами. А для этого требовалось ставить больному капельницу, чтобы ввести в вену соответствующий раствор. Алексей разработал состав такого раствора, который, по его мнению, мог вскрыть резервы мозга и одновременно запустить физическую активность тела.
Но сосуды больного были столь вялыми, практически незаметными, что он не рискнул бы даже попробовать ввести в них иглу. Нужна была помощь искусной процедурной сестры, чтобы поставила катетер, к которому он смог бы уже сам подключить систему.
Ботаники-мальчики, как правило, нравятся таким же ботаникам-девочкам. Среди медсестёр клиники была такая – романтичная, не всегда понятная окружающим, но неизменно доброжелательная особа лет тридцати. Лена увлекалась эзотерикой. В сестринской про неё говорили: "с закидонами, но своя, не продаст". Больные её обожали за неизменно весёлый нрав и ловкость, с какой она выполняла самые болезненные процедуры. С первого дня появления Алёши Ветрова в больнице они с Леной общались так, как будто были знакомы ранее не меньше ста лет. Именно она первая стала называть его просто Алёшей вместо прежнего официального имени – Алексей Леонидович, каковым его представил коллективу завотделением.
Медсестру Лену покорило отношение юноши к спящему пациенту, его желание вернуть больного к жизни. Она была единственной, кому он шёпотом рассказывал о том, какие манипуляции выполняет и получал от неё горячее одобрение. Сердобольность вообще была свойством её натуры. Она возмущалась врачами, фактически признавших обречённость спящего пациента. Как-то в разговоре у них зашла речь о том, что у этого человека, возможно, нет родственников. И они единодушно решили, что выполнят их роль в час его кончины, если родственники к тому времени так и не обнаружатся.
Поэтому Алёше Ветрову не стоило больших трудов уговорить Лену как-нибудь незаметно поставить катетер. Ради спасения страждущего она была готова пойти ещё и не на такое. По его же просьбе она незаметно внесла в палату стойку для капельницы и закачала в банки с физраствором препараты, изготовленные юношей. Их легко можно было спрятать среди техники в комнате у окна.
Под разными предлогами практикант время от времени задерживался в отделении, а слишком припозднившись, и оставался там на ночь, напрашиваясь в помощники дежурному врачу. Первую капельницу он подключил к катетеру после отбоя в больнице. Для начала он установил самый минимальный режим дозирования. По его расчётам полный цикл капельницы должен был завершиться не ранее, чем через два часа. Он и просидел все эти два часа рядом с больным, не спуская с него глаз.
Первый опыт не дал результата, впрочем, на немедленный эффект юноша и не надеялся. Боясь разоблачения своих своевольных действий, Алексей тем не менее повторил капельницу ещё несколько раз, постепенно увеличивая дозу своего снадобья. Ему везло – в процессе этих процедур ни дежурная сестра, ни дежурный врач не заглядывали в палату, целиком полагаясь на самого практиканта. Да следы своего «преступления» он старался быстро и аккуратно ликвидировать: снимал и выносил на мойку банки из-под своей «алхимии», как называла Лена его микстуры.
В тот вечер, сделав очередную капельницу, Алёша отправился в соседнюю палату, где приметил свободную койку, чтобы прилечь. Спать не хотелось, он закинул руки за голову и задумался, как быть, если его тайный эксперимент не даст результата. С какого-то момента его стал раздражать посторонний шум, что-то вроде монотонного бормотания. Он подумал, что в палате кто-то бредит. Сел на кровати, прислушался, шум шёл из коридора. Наверно, больные, страдая бессонницей, где-то языки чешут. Он вышел, бормотание стало громче. Пошёл в одну сторону, звук стал отдаляться, вернулся, пошёл в другую. Он не поверил своим ушам. Шум шёл из седьмой. Кому пришло в голову устраивать разговоры у постели полумёртвого человека?
С тех пор, как практикант стал осуществлять свои манипуляции со Спящим, он оставлял дверь палаты открытой, если находился где-то рядом. Мало ли какой эффект окажет капельница. Так было и в этот раз, дверь в палату он оставил приоткрытой. И оттуда звучал монотонный голос. Он вошёл и замер в изумлении.
Голос шёл с кровати и был приглушен и неразборчив из-за дыхательной маски. Практикант снял маску. Полилась, вполне разборчивая, местами даже рифмованная, русская речь, напоминающая классическое монотонное чтение авторами своих стихов. Алёша сообразил сразу включить диктофон на своём телефоне, положил его рядом с говорящей головой и бросился в ординаторскую за дежурным врачом.
Спящий говорил с перерывами ещё минут сорок. Приборы высвечивали обычные для спящего показания давления, пульса, температуры. Дыхание стало более заметным, больной дышал самостоятельно. Дежурный врач записал в журнале, что у летаргического пациента было замечено состояние близкое к бредовому. Он затруднился назвать причины такого явления.
Единственный, кто не то что догадывался, но был абсолютно уверен, в чем причина такого изменения состояния пациента седьмой палаты, был Алёша Ветров. Вместе с дежурным врачом он прослушал запись монолога Спящего. Это не было бредом в полном смысле слова. Речь отличалась местами чёткой ритмической упорядоченностью. Она состояла из отдельных более или менее продолжительных кусков, между которыми говорящий от несколько секунд до минуты как бы отдыхал.
Оратор явно тяготел к рифмованию своей речи. И врач, и практикант, мало что понимали в стихотворчестве. А тематическую составляющую монолога врач определил, как «бред философствующего пенсионера пессимистического настроя». Юноша возразил:
– Почему бред? Может это просто размышления пожилого человека о жизни?
– Может и так, – не стал спорить врач. – Проснётся, спросим.