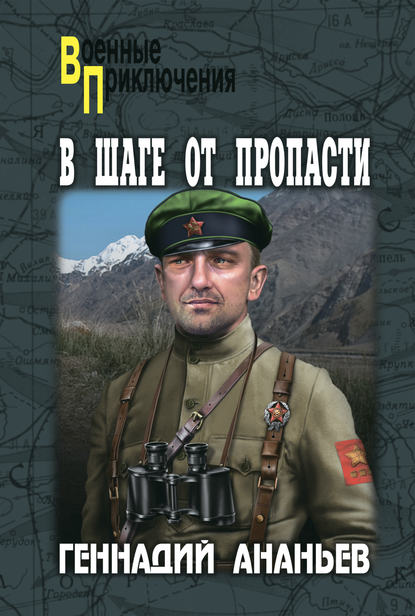Полная версия:
Геннадий Андреевич Ананьев Орлиный клич
- + Увеличить шрифт
- - Уменьшить шрифт

Геннадий Ананьев
Орлиный клич
© Ананьев Г. А., 2018
© ООО «Издательство «Вече», 2018
© ООО «Издательство «Вече», электронная версия, 2018
Знак информационной продукции 12+
Глава первая
Самовар уже давно остыл, Москва укуталась в ночную темень, притихла, насторожилась, а дед и внук Богусловские, не замечая времени, продолжали нескончаемый разговор о войне, о фашистах, о воздушных налетах на Москву, прежде более опасных, теперь сильно ослабевших, но все еще беспокойных и разрушительных. Отвлеклись они лишь на малое время, когда пришла пора светомаскировки и Семеон Иннокентьевич, кряхтя: «Старость, внучек, не радость», – поднялся со стула и пошлепал к окну, чтобы опустить черные занавески и задернуть шторы, а уж после того зажечь лампу. С жалостью смотрел Владлен на деда, которого сравнил при встрече с пухлой периной. Теперь же ему виделось, что перинная взбитость уже заметно опадает, и мягкая, просторная пижама надета дедом для того, чтобы скрыть старческую дряблость рук и живота.
«Да, старость не радость, – повторил мысленно Владлен слова деда и тут же спохватился: – Да что же это я?»
Он поспешил на помощь. Пышущий здоровьем и молодой силой, ловкий и быстрый.
– Я затемню, деда, все окна. Ты садись, отдыхай.
– И то верно…
Потом они снова заговорили о том, о чем в те месяцы судили да рядили всенародно, ибо открылась тогда людям полной мерой иезуитская жестокость захватчиков. Потеснили фашистов от Москвы и воочию увидели все, что такое фашист. Почерневшие печные трубы над кучами золы вместо статных недавно домов, повешенные колхозники на столбах, светивших всего несколько месяцев назад теплым светом электрических лампочек, забитые до отказа расстрелянными орешниковые овраги – много тогда открылось людям такого, во что они никак не хотели верить. Да, читали и в газетах, что такое фашизм, слушали радио, но запало в душу многим не предостережение, а повторяемая иногда фраза, что рабочий класс Германии скажет свое слово, как и в восемнадцатом: «Руки прочь от Советской России!»
Не хотелось верить в то, что пролетарий-немец станет стрелять в пролетария-русского, а тем более – вешать его, насильничать над ним, пытать изуверски. Никто тогда еще не знал секретных директив Гитлера, его столь же секретных речей перед верхушкой партийных функционеров, где рисовал он будущее мира, обескровленного, поверженного к ногам великой арийской расы, превращенного в концлагерь. Мало кто тогда читал у нас «Майн кампф», а еще меньше – популярные немецкие брошюрки, рассчитанные на обывательское понимание философии Ницше, Шпенглера, Шопенгауэра, из которой и заимствовал античеловеческие идеи Гитлер, создавая свою «философию», суть которой была в открытом человеконенавистничестве. Не знали еще тогда советские люди о «Генеральном плане Ост», который предусматривал часть русских уничтожить, остальных расселить в Южной Америке и Африке, украинцев большую часть переселить в Сибирь, туда же согнать белорусов, не оставив в Белоруссии ни одного из них, а евреев уничтожить всех до одного.
Не ведал еще тогда мир о гитлеровском плане «колонизации Востока», который предписывал учить детей порабощенной России лишь дорожным знакам, чтобы те не бросались под машины. Еще хранились за семью печатями в несгораемых сейфах гитлеровские приказ № 32, изданный за десять дней до нападения на нашу страну, а затем и приказ № 32б, которые несли одну главную идею: уничтожать, уничтожать и уничтожать… Ох как много тогда еще не было известно советскому народу, вот и складывалось этакое неверие в иезуитскую жестокость фашизма. Думалось: люди же!
Не люди, вышло. Нелюди! И когда наконец осознал это народ русский, налился гневом, и уж не только из любви к святой Отчизне брали в руки мужчины и женщины оружие, но и мести ради. Поднялась страна могучая. От границ до границ…
– Воистину меч занесли над миром! – говорил, гневаясь на захватчиков, Богусловский-старший. – Окровавленный! Лютый! А рука, его держащая, без чести и совести… Рубить меченосную руку нужно. Без пощады рубить!
– Отрубим, деда! Отомстим за все.
– Так-то оно так, только пятимся шибко. Вот, слава богу, потеснили супостата, только не побег он, как француз прежде. Выходит, есть еще у него сила. Иль мы еще не поднялись купно. Иль неумехи. Скорей всего, неумехи. Я уже не единожды ходил в Управление. Берите, говорю, меня обратно. Сгожусь на доброе дело. Отмахнулись. Вежливо, но отмахнулись. Потом, верно, приезжали за советом. Всякий раз я их убеждал: негоже пограничниками дыры затыкать в обороне. Полосы прифронтовой охрану наладить – это куда важней. Коварен германец. Ох как коварен! Он хоть и сломя голову прет, но разведку и диверсантов успевает вперед пускать. Пограничникам, говорю, судьбой самой определено лазутчину всю эту – под корень. Мне отвечают, что, дескать, истребительные группы создаются из пограничников, охрана тыла сама, мол, собой, а истребительные группы, мол, ходят по вражеским тылам, штабы их бьют, сведения ценные собирают. Докладывают, что досталось штабам дивизии «Норд», «Северной дивизии СС», а «Голубую дивизию» полностью, дескать, деморализовали, поуничтожив изрядно солдатни ихней. Семь тысяч, сказывали. Вот, убеждают, и следует сюда основные силы бросать. А свои тылы, спрашиваю? Приказ, объясняют, НКВД СССР уже отдан. Начальники охраны войскового тыла фронтов назначены. Верно все. Только не осознали мы еще, сколь велика эта миссия и сколько сил на нее нужно тратить. И если уж в тыл фашисту идти пограничнику, так не главное, чтобы штабы громить. Войсковые разведчики для того есть. Нам следует искать шпионско-диверсионные базы и – к ногтю их.
Все, о чем говорил дед, Владлену было неинтересно. Одним диверсантом больше, одним меньше, думалось ему, что может от этого существенно измениться? Господство в воздухе, господство танков и артиллерии на земле, господство автоматического оружия и транспорта – вот что переломит хребет гаду многоголовому.
«Ворчит, нервничает, а чего ради? Мелочно, не масштабно…»
И выжидал момент, чтобы сказать об этом, но не обидев сильно, не вызвав нового потока доказательств того, что самое главное условие для победы – надежная охрана тыла.
– Забыты опыт и империалистической, – продолжал тем временем убеждать внука Богусловский-старший, – и Гражданской. Будто не научил нас немец ничему…
– Видимо, ты, деда, прав. Только я другое хочу сказать. Верно, ракета с земли – целеуказатель. Один лазутчик свел огромные усилия многих насмарку. Демаскировал объект бомбометания. Но, деда, если бы навстречу фашистам поднялись наши истребители да на земле бы зенитки заговорили хором – какой она, ракета, имела бы вес? Не оснасти Москву противовоздушными средствами, что бы от нее осталось? Не сидели бы мы, деда, сегодня за самоваром…
– Изрядно палили – ничего не скажешь. Все небо в веснушках дымных. Прожекторы полосуют. А бомбардировщики летят себе и летят. И ухом не ведут. Пока истребители наши вертлявые не появятся. Нагляделся я на все это. Ох как нагляделся! В бомбоубежище ни разу не спускался и дома не отсиживался. Как тревогу объявят, я – на улицу. Поначалу ругались на меня, потом привыкли. Досталось, внучек, Москве. И фугаски сотнями летели, и зажигательные. Тех особенно много. И вот тут – паника. Да-да. Я человек военный и знаю, что такое паника. Что бы от Москвы осталось, не ведаю, не назначь Сталин комендантом пограничника. Заметь – пограничника. Генерала Синилова. Чтобы порядок навел. Быстро он паникеров вражеских – а они смуту начали, чтобы, значит, валом снежным она катилась, – да ракетчиков повыловил, лазутчине всякой мигом голову своротил. Оттого, внук, и выдюжила столица наша.
Дед стоял на своем, и Владлен больше не возражал ему, хотя недоумевал: как может военный человек не понимать главного? И неведомо было тогда молодому лейтенанту, что это их разногласие, мирное, без обиды, микроскопическое, не только злободневно, но и масштабно. В самых высоких кругах зрело понимание того, что те, кто умело водил полки в сабельные атаки в годы Гражданской войны, отстал и тактически, и стратегически, что время требует их немедленной замены и что их авторитет в народе стал даже тормозом, ибо их просчеты не оспаривались, принимались все их решения на веру, без критического осмысления. А у тех, командиров Гражданской, была своя логика. Железная. Танки? Нет, они, конечно, не помешают, только что танк по сравнению с бронепоездом? Силища какая! Автоматы? Не меткие вовсе, а патронов не напасешься. То ли дело – трехлинейка. У хорошего стрелка бьет без промаха. Самолеты? Штука нужная. Да их вон сколько уже понаделали! На выставках международных даже показываем. Глядите, какие мы технически мыслящие люди, побаивайтесь нас, ибо наши истребители самые быстрые и самые маневренные, наши бомбардировщики и транспортные самолеты вместительны и грузоподъемны. Мы даже десанты можем выбрасывать, чтобы малой кровью да на вражьей земле врага бить. Приезжайте на учение, смотрите на возможности наши, мотайте себе на ус. Только все это несерьезно, когда есть кавалерия. Везде она пройдет, все сокрушит. Чем остановишь сабельную лаву? То-то!
Они заблуждались честно, без злого умысла. Они, сами порядочные, даже не предполагали, что тактические новинки, показанные военным атташе на маневрах, тут же берутся на вооружение агрессорами, а на выставках, особенно когда показывался И-17, меньше было зевак, больше – специалистов. Это уж потом выяснилось, что «мессеры» фашистские куда как схожи с нашими истребителями. Но не себя обвинили авторитеты Гражданской войны, а конструктора. И даже новый его истребитель И-185, лучший в мире, не пустили в серию, ничего в том дурного не видя. Ну, одним больше самолетом, одним меньше – что изменится? У нас их и так больше двадцати типов. А для острастки, остальным в назидание – наказать конструктора не грех. Чтобы другие не разбазаривали своих изобретений. Хотя и это пустое все. Кавалерию пестовать нужно. Пехоту. Они – царицы полей. Вот их тактическое применение нужно держать в тайне. В полной тайне…
Даже когда поперли танковые клинья захватчиков, когда стали рушиться города и укрепрайоны от бомбовых ударов, даже тогда не все поняли свои ошибки, цеплялись за старое, давя своим авторитетом все новое, так нужное для победы над сильным и опытным врагом. Но подспудный конфликт молодого со старым подошел к последней грани последней черты, и вот-вот должен был произойти крутой перелом. Причем открытый. Резкий, решительный. В то, однако же, время, когда спорили Богусловский-внук с дедом, не взорвалась еще звонкой бомбой пьеса Корнейчука «Фронт», хлестнувшая наотмашь по заскорузлости тактического и стратегического мышления. В тот вечер старый и юный Богусловские не считали, что разногласия их столь серьезны. Случись этот разговор немного позже, внук наступал бы решительней, а сейчас он, не желая обижать дедушку-генерала и даже сомневаясь (дед как-никак вон сколько лет в генералах) в своих выводах, вообще перестал перечить.
Дед же не унимался. Его будто кто-то подхлестывал:
– Вот так же и в Управлении рассуждают, как ты. Молодо-зелено. Вроде заводных игрушек: «Техника, техника…» Оснастить ею, дескать, погранполки – вот главное. И даже истребительным группам, говорят, хорошо бы придать танки и артиллерию. Самоходную. Эка куда гнут! О функциях пограничников вовсе забывают. Не о танках и пушках думать нужно, а о тактически грамотном использовании погранвойск. Кесарю – кесарево. Только, слава богу, не одинок я, сообща и убедим…
Вон как повернул дед-генерал! Вроде бы прав. А кавалеристы, должно быть, тоже столь же логично гнут свою линию. У пехотинцев – своя логика. Нет, не у рядовых бойцов и командиров, а у тех, кому дано право решать, но кто сам в боях давным-давно не бывал и продолжает представлять их такими, какие пришлось пережить в годы своей молодости. Так думал юный командир-зенитчик, сопоставляя дедовские утверждения с теми рассказами, которые слышал от преподавателя-фронтовика в училище.
Прибыл тот в училище, когда Владлену и его товарищам оставалось учиться меньше месяца. Болезненно худой, с левой рукой на перевязи (говорили, что кисть руки отсечена, хотя сам раненый об этом помалкивал) и прихрамывающий. Досрочно настоял на выписке из госпиталя и наотрез отказался комиссоваться. Писал, говорили, письмо самому Сталину. В Кремль. На фронт не пустили, направили преподавать. Почти каждый вечер захаживал он к курсантам-выпускникам. Опустится устало на кровать (нагрузки великие не только на курсантов, но и на учителей), поудобней уложит свою в толстых бинтах руку и посидит какое-то время молча, пока не скучатся вокруг него не только выпускники, но и ребята из младших групп, стриженые, юные, дети, по сути дела. Им в лапту бы еще играть, а они готовят себя к смертельным боям. Почти все добровольно пришли.
Самокрутку подадут рассказчику, тот затянется глубоко и начинает почти всегда с одной и той же фразы:
– Погибнуть в бою – дело нехитрое. Даже если пятки смажешь, догонит тебя пуля шальная, а то и снаряд. Хитрее – выстоять. Живым остаться. Победить…
Ему прощали это неизменное назидательное начало, ибо знали: дальше пойдет интересное. О смекалистых и храбрых, о неумехах и трусах. Причем без прикрас. Как было, так и было. Редко он давал оценки фактам. Расскажет о двух-трех боях и – хватит. Осмысливать услышанное оставляет самим курсантам. До горячих споров у тех доходило, до обид и, если совсем разнотык в мыслях случался, призывали в арбитры самого рассказчика. Те вечера были особенно интересны курсантам, ловили они каждое слово фронтовика, и это вполне объяснимо: они готовились воевать, они постоянно об этом думали и все, что касалось боевого быта, всасывали в себя, словно губки, воспринимая узнанное и сердцем, и разумом.
С тем, что запомнилось Владлену на одном из таких вечеров, и сравнивал он сейчас дедовские оценки и выводы.
Попросили курсанты в тот вечер своего кумира рассказать о ранении. Не сразу тот согласился. Словно перебарывал себя. Опасался будто чего-то. Закурил вторую самокрутку, что случалось с ним весьма редко. Затягивается раз за разом и молчит. Тихо в казарме, сидят ожидающие курсанты и уж поругивают в душе прыткого любопыту за неуместный, как видно, вопрос.
И только когда опалил ветеран губы кургузым бычком, рубанул воздух:
– Ладно! Была не была!.. Отходили мы. Связи нет. Народу подсобралось, а орудие одно – восьмидесятипятка. Двигаемся на восток. Знаем: фашисты вот-вот нагонят. Тут я и распорядился: на высоту орудие. Она, как сторож, у дороги стоит. Окопаемся, приказываю, насколько время позволит, и – прямой наводкой по танкам или машинам. В общем, что появится первым на дороге. А как боезапас, думаю, закончим – в лес. Он сразу за высоткой. Густой. Могучий.
Так вот, когда мы уже отрыли боевую позицию и начали щели для боезапаса готовить, ячейки для стрельбы стоя, появилась танкетка. Наша. Хотел я и ее на высоту, только командиры там оказались пехотные. Один из них, самый старший, похвалил нас и пообещал прислать подмогу. И верно: вскорости глядим – идут. Торопятся. Пограничники. Целая застава. Красноармейцы на первый взгляд, как красноармейцы, только фуражки зеленые. Но когда до боя дошло, дивились мы их храбрости и умелости.
Что творилось! И бомбы с неба сыпались, и снаряды с минами ливнем лились. Орудием своим мы всего-то и успели головной танк подбить да машин пяток с пехотой ихней. Не пустяк, конечно, только я о другом – остались мы лишь с винтовками и пулеметами, а высоту держали до самой темноты. Вот, думал тогда, прикрой заставу с воздуха, поддержи арт-огнем, ее бы с высоты той фашистам ни в жизнь не сдвинуть. А так… Полегло больше половины, остальные все, почитай, ранены. Десяток целых осталось – не больше.
К ночи, когда гитлеровцы за ужин взялись, мы покинули высоту. Да что там покинули – поковыляли, поддерживая друг друга. Те, кто не ранен, впереди, в разведке, и замыкающими, чтобы, значит, заслоном встать в случае чего. Обошлось. До утра без помех двигались. А на рассвете вышли к речке. Топкая, хотя и не широкая. Не перейти нам, калекам. Пошли мост искать. Нашли. Только и он разрушен. Подрубили сваи наши, когда отходили. Что делать? Особенно тем, у кого ноги побиты? Кто-то даже предложил: «Назад по дороге давайте. Найдем удобный для обороны рубеж и – до последнего вздоха! Последний бой! Запомнят его фашисты!» Только пограничники нашли выход. Спустились в речку цепочкой и – доски на плечи. Хоть и шаткие, но мостки.
И вот, пока мы переправлялись по тем мосткам, фашисты уже тут как тут.
И раненные легко, и здоровые пограничники заслоном встали, нас защищая. Тех, значит, кто не то чтобы винтовку держать мог, а себя едва передвигал. Долго слышали мы тот бой. Очень долго. Фашистская артиллерия ухает, автоматы ихние строчат, а наши – одиночными. Поначалу, правда, пулемет тараторил, а потом умолк. Патроны, видать, кончились… Да, дай тем бойцам автоматы, артиллерией усиль… Трехлинейка против танков! Кем тех орлов заменишь?! Другие есть и будут, а тех – нет! Нет и не будет!
Тихо-тихо в казарме. Курсанты оторопели от такой откровенности. Им никто ни разу не говорил об отсталости в вооружении Красной армии. Напротив, о наших самолетах, артиллерии, о боевых кораблях и даже о танках преподаватели рассказывали с гордостью. Очень даже часто звучали слова: лучшая в мире техника, самая маневренная, самая быстрая… Да и изучали они, как им внушали, самые современные и совершенные средства обнаружения самолетов. И верно – одни радиолокаторы чего стоят. Прекрасная новинка. Система управления огнем тоже на уровне. А зенитные орудия? И скорострельные, по низким самолетам, и мощные, для больших высот. Все есть. Все сработано добротно. И самолетов разноцелевых сколько! В два раза, почитай, больше типов, чем у фашистов. Вот они – силуэты. По всем стенам. Чтобы в память врезались. Отчего же без всего этого пехота бои ведет? Не все понятно курсантам. И боязно им. За себя, за любимого учителя своего. Не паникует ли? А они слушают паникера. Спросить с него могут по жестким меркам. И с них тоже. Война!
Большинство из тех, кто сидел в тот вечер в казарме, так и не поймут всего, что происходило в тот первый период войны, – не доживут до мая сорок пятого. Но даже и тем, кто вернется домой победителем, пропахав по-пластунски пол-Европы, не сразу доступной станет истина. И все же поворот в их понимании происходившего на фронте произошел именно в тот вечер, хотя споров по поводу услышанного не было. Опасались – вдруг что лишнее скажешь. А думать – думали. И спорили каждый сам с собой, где он – полновластный хозяин своим мыслям, своим выводам и оценкам.
И сейчас, слушая деда, Владлен возвращался к тем думам, к тем выводам из внутреннего спора, и выходило, что хоть и генерал его дедушка, а явно не в духе времени хлопочет, отстаивая свою точку зрения. Решил еще раз возразить:
– Как началась война, я, деда, на фронт поехал. Вернули. Обида грызет, а отец и говорит: какую ты, неуч, пользу там принесешь? И в училище тоже так нас настраивали. Моральный фактор очень важен, слов нет, но война нынешняя не война винтовок и пулеметов. Вот и следует вносить коррективы в военную стратегию, в тактику… Нам один преподаватель так говорил: основы войскового боя пересматривать нужно, уходить от традиционного понимания роли родов войск.
– Молодые вы да ранние, как я погляжу. Моду хотите диктовать. Переучиваетесь. Проку только от того, как выходит, не слишком много. Жидок навар. Встали бы, как отцы да деды наши, стеной – повернул бы несолоно хлебавши фашист. Пятки бы только смазал. Веками армия опыт накапливала, и плевать на него никому права не дано. Тем более – желторотым!
Не прятал сердитости и обиды Богусловский-старший, и снова внук удивлялся – не таким представлял он себе дедушку, потомственного военного, о ком в доме у них говорилось только с почтением. Не сходились концы с концами. Обывательски дед подходит к важнейшему вопросу времени, не как кадровый военный.
«Да, старость не радость!»
Больше Владлен не стал перечить, и вскоре беседа их приняла вполне спокойный и мирный характер. Внук рассказывал о новых противовоздушных средствах, дед слушал с интересом, но нет-нет да и бросал реплики-сомнения:
– Так уж метки новинки? Будут небось палить по-прежнему в божий свет, как в копеечку, а бомбы все одно достанут Москву…
– Теперь я, деда, ее прикрою, – отшучивался Владлен. – Ни одного стервятника не пропущу сюда.
– Ну-ну, дай-то бог…
Неслучайно, однако же, бытует в народе присказка: на бога надейся, а сам не плошай. Но Владлен оплошал. Утром, простившись с дедом, отправился он согласно предписанию в штаб Московской зоны ПВО, где тут же получил назначение и совет добираться в часть на попутных машинах.
– На КПП у Можайской дороги посадят. Машин много там. Вопросы?
– Все ясно, – ответствовал лейтенант Богусловский и, браво козырнув, вышел из кабинета, хотя вопросы у Владлена, естественно, были: где тот самый КПП, который проявит о нем заботу, где начало Можайской дороги? Но стеснительно спросить, если только что на заботливый вопрос: «Где ночь коротал?» – ответил: «У дедушки».
Вышел на крыльцо, оглядел небо, заполненное серым бесцветьем, чтобы определить запад, куда ему предстоял путь, но услышал громкое:
– Куда направили, лейтенант?
Наматывая и разматывая цепочку с ключом зажигания, у обшарпанной полуторки замасленный шофер в артиллерийской фуражке, демонстрируя свое явное превосходство над молодым лейтенантиком и вольготной позой, и формой обращения к старшему по званию, и тем, что, ожидая ответа, не перестал забавляться цепочкой, и особенно взглядом, каким обычно одаривают неумех желторотых. Шофер держался хозяином, который волен творить добро, но волен и не творить.
«Эка наглец!»
Иная субординация внушена была лейтенанту в училище, она становилась ему привычной, просто даже необходимой, и вдруг – такая покровительственная фамильярность! Первым желанием Владлена было желание отчитать бойца-шофера, напомнить ему устав, но он сдержался, прикинув:
«Вдруг на фронте обыденней все? Без чинов?»
– Так куда, лейтенант?
Владлен назвал условное наименование хозяйства, еще не зная, уточнять или нет номер полка, но боец уже радушно, даже с явной радостью, пригласил Богусловского:
– Наш, значит. Прошу в кабину. Считай, повезло тебе, лейтенант. До Нового Ерусалима легко доберемся, дальше по шоссе тоже ничего, а вот до нас… Дорога – черт ногу сломит. С другим бы пришлось тебе потолкать и попотеть с лопатой, а со мной – как по маслу. Ефрейтор я. Иванов. Звать тоже Иваном. Как удобней, лейтенант, так и зови.
Неловко чувствовал себя Владлен, ибо обязан был, по долгу старшего, одернуть ефрейтора, приказать ему обращаться по-уставному, но не делал этого, подчиняясь, вопреки своей воле, нахальной развязности. Только в разговор с шофером не втягивался, хотя тот и пытался выспросить лейтенанта его довоенную биографию, чему в училище учили и легко ли туда попасть.
Успокоился в конце концов ефрейтор, заключив пророчески:
– Молчунам, лейтенант, несладко в зенитчиках. Самолеты, они не часто над головами. Без разговоров душевных со скуки сдохнешь.
– Душевный разговор возможен между друзьями. Так мне представляется.
– Может, ты и прав. Только как это можно, чтобы зенитчик зенитчику не друг?..
Первый контрольно-пропускной пункт. Лейтенант Богусловский начал было доставать удостоверение и предписание, но шофер остановил его и, открыв дверцу, крикнул подходившему контролеру:
– Здравствуй, старшина! Груз у меня – штатный. Пассажир один. Зенитчик. К нам.
Пожилой старшина, в ватнике, из ополченцев, должно быть, козырнул в ответ и приказал открыть шлагбаум.
Пропустили их и на втором шлагбауме, тоже козырнув уважительно, и на третьем. Владлен спросил, не утерпев:
– Всех, что ли, так – на слово?
– Ишь ты, всех… За всю Русь не ручаюсь, а по трассе слух обо мне идет. Покольцевал я тут. Туда – снаряды и патроны, оттуда – раненых. ЗИСы, бывало, на рамы садились, а я буксовать почти не буксовал. Талант. А его, лейтенант, уважают.
«Неведома скромность, – с неприязнью заключил Богусловский. – Нахальством себе цену набил. Со всеми покровительственно на “ты”, вот и уступают».
Но вывод тот продержался у Владлена лишь до поворота с Можайского шоссе. Шофер остановил машину, неспешно обошел ее, приседая и рассматривая, все ли на своих местах под днищем, затем начал подспускать шины. Делал он это тоже без спешки, расчетливо: надавит чуток на ниппель и – пинок сильный по скату, второй, третий, еще надавит на ниппель, еще… И только, когда определит он с помощью пинка, что упругость стала такой, какая должна быть, тогда переходит к следующему колесу.
Чудно, кажется Богусловскому, ведет себя шофер Иван Иванов. Сколько он видел, все шофера перед трудной дорогой проверяют скаты, чтобы поднакачать их, а этот осадил их наполовину. Расплющились, едва обода до земли не достают.