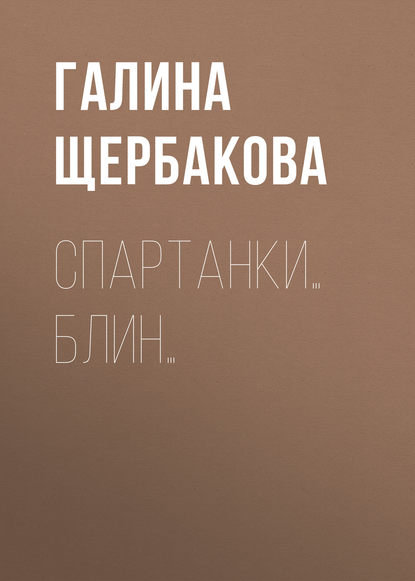
Полная версия:
Галина Николаевна Щербакова Спартанки… блин…
- + Увеличить шрифт
- - Уменьшить шрифт

Галина ЩЕРБАКОВА
СПАРТАНКИ… БЛИН…
Последний взгляд в маленькое зеркальце в глубине стеллажа. Будто бы так, по ошибке притулилось оно к чуть выдвинутому из ряда Киплингу, но у Элизабет ничего не бывает просто так. Вот этот ее последний перед сеансом взгляд в стеллаж – это как у молящегося «Господи, прости», как у суевера «Тьфу! Тьфу! Тьфу!», как у Гагарина «Поехали!». Жизнь Элизабет – четкий, организованный механизм. Ничего лишнего и все по делу.
– Садитесь, где вам удобно, – говорит она, красиво поводя рукой. Откуда пациенту знать, что три предлагаемых места – на диване, венском стуле и в кресле – уже тест, уже входная дверь в беседу, равно как и на секунду вытянутая для жеста рука с красивыми браслетами, дорогими кольцами и хорошо прилаженными накладными ногтями. Знак разницы. Знак этажа.
Женщина в длинной, не новой – видны иголочные прихваты по шву – юбке-годе моды восьмидесятых садится на краешек венского стула. Знала бы она, как насмешливо кричит ей в мыслях Элизабет: «Да сядь полной жопой, идиотка!» Но разве подумаешь такое о известном психотерапевте? Хотя теперь даже монашки могут залупить такой мат, что мало не покажется. Но, опять же, мат – почти изыск, это не расхожее, с земли поднятое – «жопа». Элизабет улыбается красивым ртом, губы очерчены карандашом чуть темнее цвета помады. Отсюда эта соблазнительная тайность глубины рта, будто в нем много чего есть, кроме заурядных зубов и языка, как у всех. Манки! Манки! Хотя подумать – на хрена ей обольщать эту закомплексованную, сидящую на ребре сидения тетку? Какие тайны, кроме своих забубенных, серых, как войлок, неудач способна она поведать? Сколько их таких перевидала и переслушала Элизабет?
– Зовите меня просто Бет, – говорит она самым располагающим из своих голосов.
«Почему Бет? – думает Марина. – Разве Бет не от Бетси? Господи, да откуда я знаю. Какая мне разница? Пусть будет Бет. Хотя чем ей не имя – Елизавета? Царское имя, не каждому пойдет, но ей вполне… Ногти вон какие. Господи, соберусь я когда-нибудь к маникюрше? Теперь уже даже стыдно, все заросло в хлам».
– Вам сорок лет, вы разведены и у вас проблемы по службе?
– Нет, нет. Даже не близко, – тихо говорит Марина. – Во мне поселился червяк. Он лижет меня изнутри, и мне не хочется жить.
– Нарисуйте мне его, – Элизабет подвигает ей листок.
– Господи! – говорит Марина. – Червяк фигуральный. Это я его так назвала. Ну, нечто… Ласкающее до смерти… Не болит, не стреляет, не кусается, без рук, без ног… Но душит…
– Это постоянное состояние?
– Нет. Это ночь. Это когда я одна.
«Как элементарен этот женский вскрик. Ей нужен мужчина, а его нет и не будет у такой техи».
Она подходит к Марине и поднимает ее волосы вверх. Длинная шея с родинкой под ухом. Мочки ушей кругленькие, мягонькие, так бы и укусила.
«Но, но! – говорит себе Элизабет. – Брось эти штучки неслучившейся лесбиянки!»
– Марина, – говорит она. – Не буду морочить вам голову. Вам нужен любовник. Вы сохнете на корню, и вам нужен обильный полив. – Она смеется пришедшей мысли. – Вам нужен внешний червяк. Он убьет внутреннего. Извините за прямоту.
Маринины карие глаза делаются почему-то серыми как цинк.
– Вам не нравится моя прямота? Скажу честно, я сама от нее не в восторге. Но вы хороши с поднятыми волосами, у вас красивая шея, вы образованы… А вы конаете себя. Сами себя сживаете со свету.
Марина улыбается:
– Я и вправду забыла, что konac по-польски – умирать. Мне надо было вспомнить польский.
«А я и не знала, что это по-польски», – думает Элизабет, радуясь возвращенной рыжеватости глаз.
– Знаете, – говорит она, – скиньте это чертово годе. Придумайте себе прическу, чтоб прямо в глаз. Погордитесь шеей, пока еще есть время. Эта деликатная девушка сдается раньше всех.
– Да я знаю, – говорит Марина, – но я не попадаю в ногу с этими лихими женщинами. Они всегда раньше меня всюду занимают место.
– Встаньте раньше их. Наконец, попробуйте с волосами сами. Начните себя показывать. Понравьтесь себе. А потом вы себя и полюбите. Вы у себя одна. И вы себе не груз, который тащат на вялых ногах. Впереди большая жизнь, много дорог, а вы ковыляете, как на последний причал. Зачеркните в себе это польское слово, я его уже забыла.
– Konac, – тихо говорит Марина.
– К черту его!
Собственно, все как бы уже и сказано. Но Элизабет берет деньги за честную работу, поэтому она должна поговорить еще. Ведь, в сущности, прическа – это насколько правильно настолько и примитивно. Должно быть что-то еще.
– Расскажите о своем замужестве, – говорит она.
– Первое сентября, мой первый учительский день. А у директора случилось пятидесятилетие. Ее завалили цветами, как могилу. Я бы, может, сама не сообразила эту мысль, но старшеклассники тихонько дудели похоронный марш и давились от смеха. Ну, меня тоже прорвало. Я захохотала, видимо, не очень тихо, а эта вылезла из могилы цветов и увидела, что я смеюсь не от радости ее рождения, а от чего-то другого. Ну, в общем, характер моей жизни в этой школе был уже предопределен.
– Перешли бы в другую. Насколько я знаю, учителей у нас всегда не хватало.
– Ну и что с того? Я ушла бы, за мной следом пошла бы телега. Мол, я циник, для меня нет ничего святого, и прочая идеология. Это говорилось вслух.
– А почему? Было что-то еще, кроме вашего неуместного смеха в первый день?
– Если человека надо схарчить, многого не требуется.
– И все-таки…
– Я увела мужа у химички.
Марина прикрывает глаза. Как это можно рассказать? Это ведь не могила цветов.
…Никита появился в школе через неделю после начала занятий. Вместе с молодой женой они получили какую-то наградную поездку в Болгарию. Они были любимцами в школе, и им даже разрешили на неделю опоздать. Вернулись загорелые, веселые. Химичка-птичка, крохотная женщина-ребенок, как бы специально созданная для торжественных переносов на руках через все пороги жизни. И чтоб подол ее платья свисал до пола.
Марина именно на подол обратила внимание. Тогда уже давно никто не носил юбки-колокол, вместо мини взметалось макси, а тут такая архаика болтается вокруг крошечных, почти детских ног. Это сейчас гордятся тридцать девятым размером, а Ума Турман даже сорок вторым. Время молодости Марины было перешейком между тем и этим, а крохотные туфли химички были последним отголоском прошлого. И вот это надо представить. Стоит приехавшая из Болгарии химичка Люся в своем колоколе, эдакая мышка-норушка, а рядом новое лицо в школе Марина – в джинсовой юбке в обтяжку, блузке-марлевке, вышитой крестом, и босоножках на хорошей, удобной платформе тридцать восьмого размера.
Что-то тогда и произошло с Никитой. Именно с ним. Как будто ему по жизни недовесили, а когда он это обнаружил, было уже поздно. Товар был на руках.
Во всяком случае, момент выяснения именно товарного эквивалента, как говорят, имел место быть. Две рядом стоящие юные женщины где-то в тонких эмпиреях скрестили шпаги и ранили мужчину. Никита так потом рассказывал Марине: «Ну, я на тебя глянул и сразу кончил. Ей Богу! Ты вся стояла такая большая и горячая. Сдержаться сил не было».
– Вам не приходило в голову, – из толщи времени она слышит голос Элизабет, – что удача в любви выше места работы? Что вы выиграли тогда, а не проиграли?
– Да, да, – отвечает Марина. – Я очень себе это внушала. Но время было еще советское. Это сейчас никакой грех не грех, а тогда… За мной потянулось нехорошее. Будто я чуть ли не младенца съела. Люсю все обожали, в школе ее называли «Светик солнце». Дети на нее просто молились. Я выглядела жабой-людоедкой. Но нет! Я была молодой и сильной. Я бросила школу к чертовой матери, ушла редакторствовать в издательство. Деньги приблизительно те же. Пришлось уйти и Никите. Но его сразу перехватили в другой школе, мужчина-учитель никогда на дороге не валяется. Вам что, рассказывать все подряд?
– Вовсе нет, – Элизабет чувствует в голосе Марины раздражение. – Только то, что считаете нужным… Но мне надо ведь понять причину вашего сегодняшнего состояния. Из чего оно выросло?
– Из чего же, из чего же, из чего же… – криво улыбается Марина. – Из дня и ночи. Из хлеба и чая. Из слов и движений. Из да и нет. – Она усмехается. – Я думала, вы меня положите на диван, проникнете в меня вашими способами и вытащите из меня эту сволочь.
– Для начала сядьте на стуле удобно. Вы стесняетесь занять больше места. Откуда этот комплекс краешка? – Она не должна была это говорить, Элизабет понимает, что неправильно в самом начале обозначить «предполагаемый диагноз». Это грубая ошибка. К комплексу краешка надо было подводить долго и осторожно. Это ее срыв. Она не смогла справиться с этим необъяснимым раздражением против этой юбки-годе, тусклых свисающих волос и бесцветья глаз. Но к ней ведь другие не ходят! Просто в остальных она ощущает покорность судьбе и готовность выслушать и бесконечно слушать врача. А эта, несмотря на краешек, все-таки непокорна, дыбится, сопротивляется. Зачем тогда пришла? Она даже от слов врача не сдвинулась на стуле, и дернулась вверх по вертикали, а не по горизонтали. Хороший, в сущности, медицинский случай. Надо с ним совладать.
– Я не кладу пациентов на диван, – нежнейшим их своих голосов говорит Элизабет. – Мне не нужны ваши покорность и беззащитность. Я предпочитаю разговор глаза в глаза. Вы не красите ресницы?
– Мне это не надо было никогда, – отвечает Марина. – А когда глаза, пардон, стухли, тушью это не поправишь…
– Зачем вы так, – мягко говорит Элизабет. – Стухли… Ничего не стухли… Период упадка сил, депрессии так же естествен и так же нужен, как восторг и упоение жизнью. Никогда одно не бывает без другого. Постоянность радости и ясности, постоянность оптимизма – признак недалекого ума. Однолинейность. В сущности, уродство. Вы другая. Вы настоящая.
Показалось или на самом деле – в глазах Марины мелькнула не то смешинка, не то скорбная ирония. Это уже прогресс. Значит…
– Вы умный человек и я умный человек. Вот и пойдем друг другу навстречу. Сколько лет продолжался ваш брак?
«Столько, – думает Марина, – что мне уже казалось – ничего другого и быть не может. Семь лет, на минуточку».
Она прижилась тогда в издательстве. Даже когда вся полиграфия посыпалась к чертовой матери, она без труда находила себе место в новых изданиях. Более того, через какой-то период возник вариант возвращения в школу. Туда, где работал Никита. Звал он сам, будучи завучем. Она тогда вспомнила запах школы, ее пронзительное многоголосье, ее стуки и грюки… Где-то что-то сжалось, но пересилило совсем другое: нежелание работать вместе с бывшим мужем. Не к месту и не ко времени почему-то вспомнилось: Люся и Никита тоже работали в одной школе. Но разве это одно и то же? Разве она Люся? И разве этот не ее Никита – тот ее Никита?
Он уже ничей. Об этом она уже давно знала. И был, был порыв – зачем врать? – опрокинуть время вспять, и чтоб все исчезло, и были они: Марина и Никита.
Бойтесь случайных мыслей. Из неведомых нам пространств они являются не случайно. Они как бы что-то знают искони, исперва. Они всегда все знают еще с дремучего времени, а вот являются не всегда, и не по зову, а так – мигом, блеском, секундным трепыханьем сердца. Боже! Все не так. Мысль – это ведь в голове. Это всегда слово. Слово было – Люся. Сто лет она о ней не вспоминала. Подол-клеш, изящные ножки, вся такая птичка-синичка. Знала, что Люся очень скоро после Никиты вышла замуж, родила двойняшек, уже директор элитной школы-новостройки. Но за все время ни разу они не встречались. Хотя жили на одной линии метро.
Так вот… Сразу после того разговора с Никитой («А не пойдешь к нам вспомнить свое настоящее образование?») и мгновенного возникновения мысленной Люси она встретила ее живую. В парикмахерской. Марина села в кресло, а в соседнем умащивалась женщина, вернувшаяся из глубины косметического зала. Боковым зрением Марина отметила: у клиентки ноги до пола не достают, она скосила глаза в сторону «лилипутки», но та уже восклицала:
– Марина! Ты? Господи, сколько лет, сколько зим!
Ну, во-первых, они никогда не были на ты. В голову бы такое не пришло в условиях тех обстоятельств.
– Здравствуйте, Людмила Петровна, – буквально по слогам ответила Марина, переполняясь чувством удовлетворения: и коротышка, и невоспитанная хамка, и все такое… Но мне-то плевать, зачем она мне и зачем я ей?
– Как вы там? Я слышала, ты ушла из школы. (Она слышала! Мать твою за ногу, да разве не из-за тебя меня «ушли»?) Многие поменяли профессию. А мы с твоим Никитой все пашем. (Они с моим Никитой! Ну, ты даешь, лилипутка!) Кстати, ему нужен предметник в старшие классы.
«Меня заклинило, – думает Марина. – Как она может говорить «Мы с Никитой»?» Какая-то мерзкая гадюка вклинилась в душу и стала вертеть мордой.
– А где работает ваш муж? – выдавливает она слова поверх гадюки.
Он работник бани. Кончал финансовый. – Кресло Марины резко развернули, и теперь она смотрела на Люсю всю – от волос, освобожденных от бигуди, до джинсовой юбки, что свисала кружевной окантовкой подола, и туфелек на высокой золотистой шпильке. Марина посмотрела на себя со стороны. Ну, что ж… На ней тоже хорошая джинса. И волосы у нее погуще. Босоножки, правда, никакие, на платформе, уже хорошо стоптанной.
– Я слышала, у вас двое детей, – говорит Марина.
– Земля слухом полнится. Близнецы, по шесть лет. Оба мальчики.
«Значит, она родила через год, как ушел от нее Никита. Не долго печалилась брошенка». Что это в ней говорит? Удовлетворение или удивление, что так легко у той получились дети?
Марина ведь делала аборт от Никиты. Потеря работы, маятня по частным квартирам, да и Никита нет-нет и впадал в депрессию. После полного достатка и защищенности с Люсей – столько проблем. Чтобы не усугублять их, она пошла в больницу и освободилась от лишней заботы. И вправду, все потом наладилось. Умерла мать Никиты, осталась комната. Умерла мать Марины, осталась еще одна. Одна и одна – будет две. Две из коммуналок в центре дали двухкомнатную хрущевку на первом этаже в Зюзине. Недавно их дом снесли и дали хорошую квартиру на десятом этаже в том же дворе. Вид из окна – лучше не бывает. Отдельные комнаты смотрят на две стороны света. Метро близко. Детей нет.
– Детей у нас нет, – говорит Марина.
Люся уже снова развернута и смотрит в зеркало. Туда же – а куда еще? – смотрит и Марина. Для своих тридцати Люся выглядит более чем.
У нее хорошая, гладкая, упругая кожа. Ей идет и короткая стрижка, и романтический сессон. Она сохранила фигуру и весит столько, сколько и в двадцать два года. У нее хорошая работа и любящий муж. Все, как говорится, тип-топ. Люся спрыгивает с кресла и, проходя мимо Марины, кладет на подзеркальник визитку.
– Давайте не терять друг друга. Мало ли что… – И она проводит ручкой со свежим маникюром по простыне, в которую еще обернута Марина.
– Какая очаровательная женщина, – говорит парикмахерша Марине. -А дети у нее – ангелы. Тоша и Гоша.
– Как попугаи, – смеется Марина.
– Антон и Георгий, – почему-то обижается за Люсю парикмахерша.
Да! Она совсем забыла. Тогда тоже все за нее обижались. Разве можно после Люси кого-то еще полюбить?
Возвращаясь назад во времени, Марина думает глупую мысль: а если бы от меня ушел Никита, сумела бы я тут же выйти замуж? Вопрос был не из легких. У Марины, кроме Никиты, ни до, ни после не было никого. Странное ощущение открытия. Только в очереди за черешней после парикмахерской все прошло. Вернулось позже.
– Семь лет – это хороший срок и для продолжения отношений, и для их прекращения. Седьмой год – кризисный. Он вам изменил? – Элизабет говорит четко, но тихо.
– Он? – с сердцем отвечает Марина. – Да господь с вами. Я во всем причина и следствие.
– Не вы первая, не вы последняя. Брать на себя вину – это крест русской женщины.
«Она меня встраивает в клин. Ей надо, чтобы я соответствовала болезни, которую она мне придумала».
Больше всего ей хочется уйти. Зачем она послушалась советов, будто ей нужен психолог, психотерапевт? Это же дурь – думать, что чужой человек, пусть даже самый умный доктор, может, поковырявшись перстами в ее словах, тех, что она сама сказала, вынуть из нее жало. А эта даже и не очень умна. «Краешек стула» – ишь нашла определение! Как ей объяснить, что я не люблю спинку стула, потому что не люблю чувствовать упор сзади, меня это раздражает.
Когда Марина была маленькая, ее забирала на лето бабушка «на хутор» в Донбасс. Отправлять ребенка «на шахты» было бы неэлегантно. В слове же «хутор» крылось для незнающих людей даже некоторое очарование. Ну там, значит, крыныця, хуторянки в хусточках, вишневый садок и прочая пейзанская прелесть. Слово «хутор» повторялось до противности упрямо, даже назойливо. Бабушкин же хутор лежал прямо под боком самого высокого в округе террикона. Бедняки лепили свои саманки, прямо притулившись к его боку. И хотя бабушкина хата стояла «далеко от террикона», но это только так говорилось – далеко, на самом деле тут же, но все-таки у речки Курдюмовки. И был у бабушки садок вишневый, и была недалеко криница, а еще «билля бабуси» (возле бабушки) всегда жили цыгане, вольно жили, табором. Они приходили – не звали, – и бабушка кричала им с порога: «Нечего подать, нечего! Идите с богом!» Вот эта фраза – «нечего подать» – как-то закрепилась в памяти. Спроси, с какой стати, – не ответить. Но в обиходе жизни и отношений она вдруг возникала и в точности определяла ситуацию.
Случилось так, как случилось. Они с Никитой смотрели в окно. Он в северное, она в южное. Ну, просто так смотрели, без смысла. Ибо нет в утре воскресенья смысла вообще. На работу идти не надо, выгуливать детей не надо. В холодильнике лежит продукт, в морозилке – чекушка к обеду. И тут, можно сказать, на ровном и счастливом месте возьми и выскочи эта фраза: «Нечего подать».
– Я на эти слова напоролась как на мину. Понимаете? За минуту до этого «любимый», «единственный» и вдруг – «нечего подать».
– Нет, моя дорогая, что-то, значит, было до слов. Из чего-то они выросли. Из чего? Или из кого?
Ну да – кого…
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.





