
Полная версия:
Фредрик Бакман Вторая жизнь Уве
- + Увеличить шрифт
- - Уменьшить шрифт

Фредрик Бакман
Вторая жизнь Уве
Fredrik Backman
En Man Som Heter Ove
© Fredrik Backman, 2012
© Издание на русском языке, перевод на русский язык, оформление. Издательство «Синдбад», 2016
* * *Посвящается Неде. Как всегда, чтобы насмешить тебя. Как всегда
1. Уве покупает компьютер, который не компьютер

Уве пятьдесят девять лет. Он ездит на родном шведском «саабе». Есть такая порода людей: случись вам не угодить им, они непременно ткнут в вас пальцем, словно вы тать, крадущийся в ночи, а их палец – полицейский фонарь. Уве из этих. В настоящий момент он стоит у прилавка в салоне и испытующе смотрит на продавца, помахивая небольшой белой коробочкой:
– Вот это, стало быть, и есть тот самый «отпад»?
Продавец, юнец с явным дефицитом массы тела, нервничает. Видимо, борется с желанием отобрать у Уве коробку.
– Совершенно верно. Айпад. Только что ж это вы, не надо бы его так трясти-то…
Уве смотрит на коробку как на предмет в высшей степени сомнительный. Как смотрел бы на обормота в трениках, который подкатил к нему на итальянской «веспе» и со словами «Эй, брателла!» попытался бы втюхать ему поддельные часы.
– Так, так. Это, стало быть, компьютер или как?
Продавец кивает. Но тут же, засомневавшись, энергично мотает головой:
– Ага… Хотя вообще-то не совсем компьютер. Это айпад. Кто-то называет их таблетками, кто-то – планшетами. Как посмотреть…
Уве глядит на продавца так, будто тот вдруг заговорил на тарабарском языке:
– Да ну?
Продавец неуверенно кивает:
– Ну да…
Уве снова трясет коробкой:
– И как он, ничего?
Продавец чешет макушку:
– Ничего вроде. А что вас… Что вы имеете в виду?
Уве, вздохнув, начинает медленно, тщательно выговаривая каждое слово. Словно единственная помеха беседе состоит в глухоте продавца:
– Как. Он. Ничего? Этот. Компьютер. Хороший?
Продавец чешет подбородок:
– Ну, вообще-то… как сказать… Очень даже ничего… Все зависит от того, что вам надо.
Уве, смерив его взглядом:
– Компьютер мне надо. Что ж еще?
Короткая немая сцена. Потом продавец, кашлянув, решается:
– Это как бы не совсем обычный компьютер. Вам, наверное, нужно что-то типа…
Продавец делает паузу, очевидно, подбирая слово, которое вызвало бы у собеседника нужную ассоциацию. Еще раз кашляет. Наконец находится:
– …типа ноутбука?
Уве, энергично замотав головой, угрожающе нависает над прилавком:
– Да на фиг мне сдался твой ноутбук? Компьютер мне нужен!
Продавец снисходительно кивает:
– Ноутбук тоже компьютер.
Уве, оскорбленно уставившись на продавца, наставительно тычет в прилавок пальцем-фонарем:
– Это я и без тебя знаю!
– О’кей, – кивает продавец.
Снова заминка. Как если бы два дуэлянта, сойдясь, внезапно обнаружили, что не захватили с собой пистолетов. Уве сверлит коробку долгим взглядом, словно добиваясь от нее признательных показаний.
– Ну а клавиатура тут где запрятана? – цедит он наконец.
Юноша принимается чесать ладони о край прилавка и нервно переминается, как это свойственно начинающим работникам розничной торговли, осознавшим, что обслуживание покупателя займет существенно больше времени, чем предполагалось изначально.
– Видите ли, клавиатуры нет.
Уве (подняв брови):
– Ну, ясное дело! Ее надо докупать, да? За хрен знает какие деньжищи, так?
Продавец снова почесывает ладони:
– Да нет… Ну… В общем, это компьютер без клавиатуры. Все операции производятся прямо с дисплея.
Уве с укоризной качает головой, словно продавец попытался лизнуть мороженое сквозь стекло витрины:
– Так на кой он без клавиатуры? Сам подумай!
Продавец тяжело вздыхает, будто считая про себя до десяти.
– О’кей. Я понял. Тогда вам не стоит брать этот компьютер. Возьмите какой-нибудь другой, макбук например.
Лицо Уве выдает внезапную неуверенность.
– А не бигмак, часом?
Продавец оживает, словно добился решающего успеха в переговорах:
– Нет. Макбук! Точно.
Уве недоверчиво морщит лоб:
– Это не та гребаная «читалка», про которую все нынче талдычат?
Продавец издает эпический вздох, что твой профессионал-декламатор:
– Нет. Макбук – это… эт-то… такой ноутбук. С клавиатурой.
– Да неужто? – язвит Уве.
Продавец кивает. Чешет ладони.
– Ну да.
Уве окидывает взором магазин. Снова встряхивает коробочку:
– И как он? Ничего?
Продавец упирается взглядом в прилавок, явственно борясь с желанием почесать нос. И вдруг расплывается в бодрой улыбке:
– А знаете что? Может, мой напарник уже обслужил покупателя, так он вам лучше все покажет и расскажет!
Уве смотрит на часы. Качает головой:
– Конечно, у нас ведь других дел нет. Торчи тут целый день, вас дожидайся.
Продавец поспешно кивает. Уходит и вскоре приводит напарника. Тот приветливо улыбается. Как всякий новичок, не успевший поднатореть за прилавком.
– Здравствуйте! Я могу вам помочь?
Уве повелительно тычет пальцем-фонарем в прилавок:
– Мне нужен компьютер.
Улыбка начинает сползать с лица напарника. Он переводит взгляд на первого продавца. Взгляд этот недвусмысленно говорит: ну, брат, и схлопочешь же ты у меня.
– Ах, вот что! Ну да, ну да. Давайте сперва посмотрим секцию портативных компьютеров, – без прежнего энтузиазма произносит напарник, оборачиваясь к Уве.
Уве хмурится:
– Черт возьми! Как будто я не знаю, что такое ноутбук! Обязательно говорить «портативных»?
Напарник услужливо кивает. Первый продавец за его спиной бормочет: «Все, с меня хватит, я ушел на обед».
– Ну и работник нынче пошел. Только обед на уме, – хмыкает Уве.
– Чего? – Второй продавец оглядывается.
– О-б-е-д, – по буквам произносит Уве.
2. (Тремя неделями раньше). Уве производит инспекцию территории
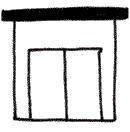
Без пяти шесть состоялась первая встреча Уве с кошаком. Кошаку Уве сразу не понравился. Надо сказать, неприязнь оказалась в высшей степени обоюдной.
Проснулся Уве как обычно – за десять минут до обхода. Он вообще не понимал тех, кто, проспав, пеняет на будильник. Будильников он отродясь не держал. Просто просыпался без четверти шесть и вставал.
Уве заварил кофе, засыпав в кофеварку ровно столько, сколько они с супругой засыпали все сорок лет, прожитых в этом поселке. Из расчета одна ложка на чашку плюс еще одна на кофейник. Ни больше ни меньше. А то нынче разучились готовить нормальный кофе. Так же как разучились красиво писать. Теперь все больше компьютеры да эспрессо-машины. И куда оно годится, такое общество, в котором ни писать, ни кофе варить толком не умеют, сокрушался Уве.
И прежде чем налить себе чашечку доброго кофе, Уве надел синие штаны, синюю куртку, обул шлепанцы на деревянной подошве и, сунув руки в карманы, как подобает человеку немолодому и не ждущему более от этого бестолкового мира ничего, кроме разочарований, отправился инспектировать окрестности. Как делал каждое утро.
Когда он вышел за порог, в соседних домах было еще темно и тихо. Само собой. Кто тут станет напрягаться и вставать раньше положенного? Ведь теперешние соседи Уве – сплошь индивидуальные предприниматели и прочий никудышный народ.
Кошак сидел на дорожке между домами с самым невозмутимым видом. Хотя какой кошак? Так, одно название. Полхвоста и одно ухо. Шкура в проплешинах, словно скорняк накроил из нее кусков размером с кулак. Не кошак, а сплошное недоразумение, да и то не сплошное, а так, клочьями, подумал Уве.
Он направился было к кошаку, топая для острастки. Тот поднялся. Уве остановился. Так они и стояли, оценивая друг друга, точно два забияки вечером в деревенской пивнушке. Уве прикидывал, как бы поточнее запустить в подлеца шлепанцем. Кот же всем своим видом выказывал явственную досаду, что запустить в противника ему нечем.
– Кыш! – рявкнул Уве так, что кот аж вздрогнул.
Чуть попятился. Смерил взглядом пятидесятидевятилетнего недоумка в шлепках на деревянной подошве. Потом лениво развернулся и затрусил прочь. Уве даже померещилось, что перед этим кот успел презрительно закатить глаза.
Вот холера, ругнулся про себя Уве и посмотрел на свои часы. Без двух шесть. Надо поторапливаться, а то из-за паршивой животины едва не опоздал с обходом. Даром что вышел вовремя.
И Уве решительно зашагал между домами по дорожке в сторону автостоянки, которую инспектировал каждое утро. Остановился у знака, запрещающего парковку посторонних автотранспортных средств на территории ТСЖ. Легонько пнул столб с приколоченным к нему знаком. Не то чтобы столб покосился, ничего подобного, просто лишний раз проверить на прочность не помешает. А Уве как раз из тех мужчин, для кого проверить вещь на прочность – значит хорошенько ее пнуть.
Затем он обследовал стоянку, обошел гаражи, убедился, что за ночь их не взломали воры и не подожгла шайка вандалов. Признаться, ничего подобного с местными гаражами спокон веку не случалось. Но, с другой-то стороны, ведь и Уве не пропустил ни одного утреннего обхода. Он дернул ручку двери, за которой стоял его собственный «сааб». Трижды, по своему утреннему обыкновению.
Потом заглянул на автостоянку для гостей, где разрешено парковаться не дольше двадцати четырех часов. Тщательно переписал номера в блокнотик, лежавший в кармане куртки. Сравнил их с номерами, записанными накануне. Если какая из машин попадала в блокнот несколько дней кряду, Уве обыкновенно шел домой и звонил в управление транспорта. Получив телефон автовладельца, связывался с названным лицом и доводил до сведения оного, что считает его долбаным дятлом без мозгов, не способным прочесть вывеску на родном языке. Не то чтобы Уве сильно беспокоило, кто именно из гостей паркуется на стоянке. Но тут дело принципа. Дали тебе двадцать четыре часа на парковку – будь добр соблюдай. А ну как все начнут парковаться сколько хотят и где хотят – что тогда? Полный бардак, полагал Уве. Продыху от ихних машин не станет.
Сегодня, однако, посторонних машин на стоянке не наблюдалось, так что Уве с блокнотиком проследовал далее – к мусорке. Он инспектировал ее ежедневно. Не потому, что ему больше всех нужно (поначалу Уве сам громче всех возражал против дурацкой затеи этих новых понаехавших субчиков – сортировать мусор до опупения). Но раз уж решили сортировать, надо же кому-то за этим делом приглядывать. Не то чтобы кто-то поручал Уве следить, сортируют ли жильцы мусор. Но пусти Уве и такие, как он, все на самотек, в мире настанет анархия. Уве знал это. Продыху от ихнего мусора не будет.
Он легонько пнул один бак, другой. Выудив стеклянную банку из бака для стеклотары, помянул недобрым словом неких «балбесов» и снял с банки жестяную крышку. Вернул банку в бак со стеклотарой, а крышку швырнул в бак для металлолома.
Когда Уве председательствовал в жилтовариществе, он продавливал установку на мусорной площадке видеокамер: чтобы видеть, кто из жильцов кидает «неположенный мусор». К огромной досаде Уве, собрание проголосовало против: по мнению остальных соседей, камеры доставили бы им «некоторый дискомфорт»; к тому же было бы хлопотно возиться с видеоархивом. Даром Уве тратил свое красноречие, убеждая их, что «правда» только тому страшна, у кого «рыльце в пушку».
Два года спустя, уже после путча (так сам Уве называл историю его низвержения с председательского кресла), вопрос подняли снова. Появилась, дескать, некая ультрасовременная камера с сенсорными датчиками, которая реагирует на движение и выкладывает запись в Интернет, рапортовало правление в письме, разосланном всем жильцам. Такие камеры можно поставить не только на мусорке, но и на автостоянке – от взломщиков и хулиганов. Кроме того, видеозапись будет удаляться автоматически через двадцать четыре часа – «во избежание вторжения в частную жизнь жильцов». Для установки камер требовалось единогласное решение. Один участник собрания проголосовал против.
Дело в том, что Уве не доверял Интернету. Писал его со строчной буквы и вообще обзывал «энтернетом», невзирая на ворчание жены, которая учила, как правильно. Так что наблюдение по этому самому «энтернету» за тем, как Уве выбрасывает мусор, могло состояться только одним путем – через труп Уве, о чем он не мешкая поставил в известность правление. И от камер отказались. Небось обойдемся, думал Уве. Его утренние обходы куда эффективней. Сразу видно, кто куда чего бросил, не забалуешь. Ежу понятно.
Проинспектировав мусорные баки, он привычно запер за собой дверь, трижды для верности дернув ручку. Обернувшись, заметил велосипед, приставленный к велосипедному сараю. Даром что над ним красуется здоровенная вывеска, внятно и четко предупреждающая: «Стоянка велосипедов запрещена!» Уве буркнул что-то про «идиотов», открыл сарай и водворил велосипед на место в ряд с остальными. Заперев дверь сарая, трижды дернул ручку.
Потом он сорвал со стенки чье-то гневное послание. Неплохо бы направить правлению предложение разместить знак, запрещающий расклейку объявлений на этой стенке. А то взяли моду вешать здесь всякие бумажки почем зря. Тут вам стенка, понимаешь, а не доска объявлений.
Дальше Уве миновал узкий проход между домами. Встал перед своим домом на дорожке, вымощенной плиткой. Наклонился к земле и шумно втянул носом воздух. Моча. Воняет мочой. Отметив это обстоятельство, он вернулся в дом, запер дверь и стал пить кофе.
Допив кофе, стал звонить – отказался от услуг телефонной компании и подписки на утреннюю газету. Починил смеситель в малой ванной. Поменял шурупы на ручке двери, ведущей из кухни на террасу. По-новому расставил ящики на чердаке. Пристроил по местам инструменты в сарае. Перенес в другой угол зимнюю резину от «сааба». И вот стоит столбом.
Нет, дальше так жить нельзя. Это единственное, что Уве ясно.
Ноябрьский вторник, четыре часа дня, Уве уже погасил все лампочки. Отключил батареи и кофеварку. Обработал пропиткой кухонную столешницу. Пусть эти ослы из «Икеи» дяде своему рассказывают, что их столешницы не нуждаются ни в какой пропитке. Нуждаются ли, нет ли – в ЭТОМ доме столешницу мажут пропиткой каждые полгода. Какая-то соплюха со склада, размалеванная и в желтой футболке, будет ему указывать!
Уве стоит в гостиной двухэтажного таунхауса с мансардой и смотрит из окна во двор. Мимо трусит сорокалетний тип – тот, с пижонской щетиной, из дома наискосок. Андерс, кажется. Без году неделя тут, всего лет пять как заселился. А уж пролез в правление жильцов. Гад ползучий. Думает, что теперь тут хозяин. После развода, видать, подался сюда, тройную цену отвалил. Вечно припрутся эти черти, а приличным людям потом налог на имущество поднимают. Точно им тут элитный квартал какой! На «ауди» ездит, будьте-нате! – Уве сам видел. Да и так можно было догадаться. Кретинам да индивидуальным предпринимателям только на «ауди» и кататься. На лучшее-то ума не хватит.
Уве сует руки в карманы синих брюк. Легонько стукает ногой по плинтусу. Да, он готов признать: для них с супругой это жилье великовато. Ну, зато за него уплачено сполна. Весь долг, до последней кроны. Небось не дешевле вышло, чем этому пижону. А то нынче всяк в ипотеках как в шелках, известное дело. Уве-то все в срок платил. Вкалывал. В жизни не брал больничного. Вносил посильную лепту. Брал на себя ответственность. Теперь брать некому, боятся все. Нынче все подались в программисты, да в айтишники, да в местные начальники – ходят по порноклубам и сдают квартиры нелегальным путем. Офшоры да инвестпортфели. А работать ни-ни. Страна, где всем только бы обедать с утра до вечера.
«Не пора ли на заслуженный отдых?» – вчера с такими словами его выпроводили с работы. Мол, нехватка рабочих мест, вот и приходится расставаться с нашими ветеранами. Треть века служил на одном месте, и нате – дослужился. Ветеран, едрен корень. Оно конечно, теперь всем по тридцати одному годку, все носят брючки в облипку и нормального кофе не пьют. И никто ни за что не отвечает. Хлыщи с холеными бороденками. Меняют работу, жен, машины. Как нечего делать. При первом удобном случае.
Уве сердито таращится в окно. Пижон совершает пробежку. Но не его ленивая трусца так бесит Уве, нет. Уве все эти променады вообще до лампочки. Только зачем бегать с таким видом, будто дело делаешь? Самодовольно лыбиться, будто, как минимум, лечишь эмфизему? Не то быстро ходит, не то бежит медленно – вот и вся его трусца. И вообще, когда сорокалетний мужик выползает на пробежку, он как бы сообщает всему свету: больше он ни к чему не пригоден. При этом обязательно вырядится, словно двенадцатилетняя румынская гимнастка. Словно на олимпийский марафон, а не на сорокапятиминутную пробежку.
Вот блондинку себе завел, пижон. На десять лет младше. Бледная немочь, как прозвал ее Уве. Разгуливает по двору вперевалочку, будто пьяная панда, каблучищи что твой карданный ключ, рожа вся размалевана, чисто клоун, вдобавок темные очки такие здоровенные – не очки, а целый мотоциклетный шлем. А в ридикюльчике у нее мелкая зловредная шавка. А если не в ридикюльчике, то носится без поводка, гавкает без разбору и ссыт на плитку перед домом Уве. Думают, Уве не видит? Как бы не так!
Нет, так дальше жить нельзя! Баста!
«Не пора ли на заслуженный отдых?» – сказали ему вчера на работе. И вот стоит Уве посреди своей кухни и не знает, как ему убить вторник.
Смотрит в окно на одинаковые соседние дома. Вон в тот на днях семья многодетная заселилась. Иммигранты, насколько понял Уве. Что у них за автомобиль, пока неясно. Ладно, лишь бы не «ауди». Или, не дай бог, не японец какой.
Уве одобрительно кивает, будто только что сказал что-то очень верное и горячо согласился сам с собою. Поднимает глаза к потолку гостиной. Сегодня он собрался ввинтить туда крюк. Но не абы какой крюк. Абы какой крюк нынче худо-бедно вкрутит любой айтишник с психиатрической справкой и в вязаной кофте не то мужской, не то бабской. Нужен такой, чтоб намертво сел, как скала. Чтобы дом рухнул, а крюк остался на месте.
А через несколько дней явится расфуфыренный маклер, узел на галстуке величиной с голову ребенка, и станет вешать лапшу про евроремонт да про полезную площадь и даже, может быть, распространится о самом Уве, но ни словом не обмолвится о крюке, гад. Это понятно.
На полу в гостиной стоит малый ящик для полезных мелочей. Так уж у них в доме заведено. Все купленное женой «изящно» либо «красиво». А Уве уж если покупает, то вещи полезные. Практичные. Которые разложены у него в двух ящиках – большом и малом – на все случаи жизни. Вот малый инструментальный ящик. В нем гвозди, саморезы, автомобильные ключи и прочий инструмент. Теперь в домах не держат полезных вещей. Один только хлам. Двадцать пар обуви и ни одного рожка. Горы микроволновок и плазм, а завалящего дюбеля не сыщешь, словно их всех распугали резаком для пластика.
В ящике у Уве целое отделение для дюбелей. Он склонился, изучая их, точно шахматист фигуры. Уве не торопится с выбором. С дюбелями спешить – людей смешить. У каждого дюбеля свое применение, своя метода. Народ нынче совсем не думает о технологии, лишь бы смотрелось помоднее. Но Уве, если уж взялся за что-то, все делает как положено.
«На заслуженный отдых…» – сказали ему на работе. Зашли к нему в контору в понедельник и заявили, мол, решили не тянуть до пятницы, чтоб «не омрачить ему выходные». «На заслуженный отдых», ишь! Вам бы самим проснуться во вторник и понять, что вас списали в утиль. Вам бы только по энтернету шариться да эспрессо посасывать, а чувство долга вам неведомо.
Уве изучает потолок. Щурится. Надо поставить крюк ровно по центру, решает он.
Уве уже приступил к решению задачи по существу, как вдруг раздался беспардонный, протяжный скрежет. Как если бы какой-нибудь дюжий увалень на японском шарабане с прицепом, пытаясь сдать назад, заскреб по стене таунхауса.
3. Уве сдает назад на японце с прицепом
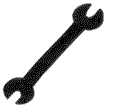
Уве отдергивает занавески в зеленый цветочек (жена давным-давно грозилась их поменять). И видит коренастенькую чернявую смуглянку лет тридцати явно нешведского розлива. Та отчаянно машет водителю, своему погодку, дюжему белобрысому увальню, втиснутому за руль миниатюрной японской машинки, которая в этот самый момент скребет прицепом по стене таунхауса Уве.
Увалень жестами и знаками пытается деликатно намекнуть женщине: дескать, задача не так проста, как может показаться. Чернявая, отнюдь не столь деликатно, а скорее даже наоборот, семафорит ему что-то в ответ: по всей вероятности, сообщает, что видит за рулем остолопа.
– Твою мать! – ревет Уве, глядя, как прицеп одним колесом бороздит его клумбу.
Он бросает ящик с инструментами. Сжимает кулаки. Две секунды, и он уже вылетает на крыльцо. Дверь распахивается сама собой, словно опасаясь, что иначе Уве просто ее проломит.
– Вы чё творите? – напускается он на чернявую.
– Вот и я спрашиваю! – кричит она в ответ.
На какое-то мгновение Уве оторопевает. Пепелит ее взглядом. Женщина отвечает тем же.
– Написано же: проезд по территории запрещен. По-шведски читать не умеете?
Смуглянка выступает вперед, и тут только Уве замечает: она либо на большом сроке беременности, либо, по определению самого Уве, страдает точечным ожирением.
– Это я, что ли, за рулем?
Уве молча смотрит на нее несколько секунд. Потом поворачивается к белобрысому увальню: тот кое-как выкарабкался из тесной японской коробчонки и теперь стоит, виновато разведя руки. В вязаной кофте, с осанкой, свидетельствующей о застарелом дефиците кальция в организме.
– А ты кто такой? – интересуется Уве.
– Это я вел машину, – беззаботно улыбается увалень.
Ростом под два метра. Уве всегда с интуитивным скепсисом относился к людям выше метра восьмидесяти пяти. Опыт подсказывал: при эдаком росте кровь просто не добирается до мозга.
– Ага, как же! Кто еще кого вел! Может, она тебя? – Пузатая смуглянка, пониже увальня примерно на полметра, яростно наскакивает на него, пытаясь шлепнуть по руке обеими ладонями.
– А она-то кто? – интересуется Уве.
– Женушка моя, – дружелюбно кивает в ее сторону увалень.
– Ненадолго, не надейся, – энергично, аж пузо подпрыгивает, огрызается «женушка».
– Думаешь, это так прос… – начинает оправдываться муж, но она перебивает:
– Я сказала: ПРАВЕЕ! А ты едешь НАЛЕВО! Почему ты меня не слушаешь? НИКОГДА не слушаешь!
Тут она выдает тираду на полминуты, представляющую собой, как догадывается Уве, подборку изощренных арабских ругательств, которыми столь богат этот язык.
Белобрысый увалень только блаженно кивает – его улыбка неописуемо гармонирует с жениной бранью. С такой улыбкой ходят буддийские монахи, отчего любому нормальному человеку хочется двинуть им по морде, подумал Уве.
– Извиняемся, в общем. Сплоховали малость, сейчас все поправим, – бодро сообщает увалень, дождавшись, пока его половина наконец замолкнет.
И с самым беспечным видом выуживает из кармана круглую жестянку и отправляет себе под губу табачный ком величиной с гандбольный мяч. И, видимо, уже собирается дружески хлопнуть Уве по спине.
Уве одаривает увальня таким взглядом, словно тот только что навалил кучу на капот его машины.
– Поправим? Да ты же у меня на клумбе встал!
Увалень смотрит на колеса прицепа.
– Хех, это вот это, что ли, клумба? – добродушно скалится он, кончиком языка поправляя табачный ком.
– И-МЕН-НО! – отрезает Уве.
Увалень кивает. Сперва глядит на землю. Потом – на Уве, решив, что тот шутит.
– Да, брось, мужик, это же просто земля.
От гнева лоб у Уве собирается в одну огромную и грозную складку.
– Сказано. Тебе. Это. Клумба.
Увалень озадаченно чешет голову: на взъерошенном чубе его остаются табачные крошки.
– Так тут вроде не растет ничего…
– А тебе не один хрен? Моя клумба: хочу – сажаю, хочу – нет!
Увалень поспешно кивает, явно не желая еще больше разозлить незнакомца. Поворачивается к жене, словно ища у нее поддержки. Та, впрочем, совсем не спешит ему на подмогу. Увалень снова обращается к Уве:
– Беременная, понимаешь. Гормоны и все такое… – пытается пошутить он.
Беременная почему-то не смеется. Уве тоже. Она складывает руки на груди. Уве упирается руками в бока. Увалень, не зная, куда девать свои кулачищи, опустил руки вдоль тела и смущенно чуть покачивает ими: кажется, будто они тряпичные и сами собой мотаются на ветру.
– Щас сяду и еще раз попробую, – снова примирительно улыбается парень.





