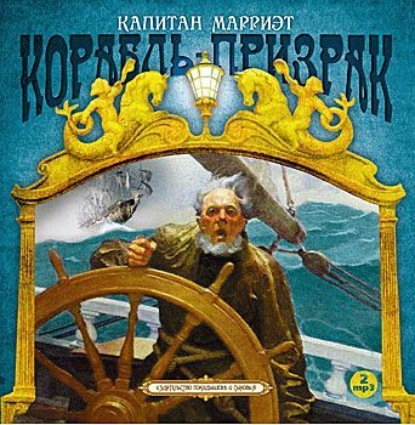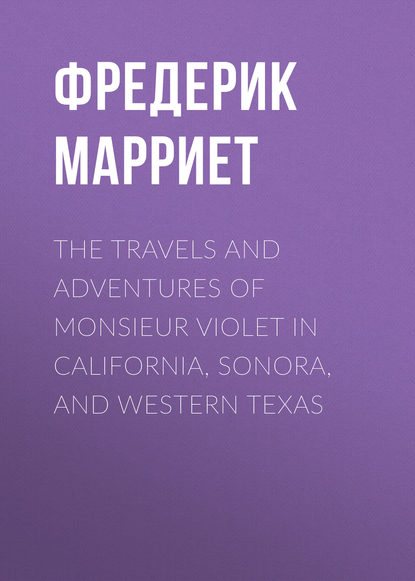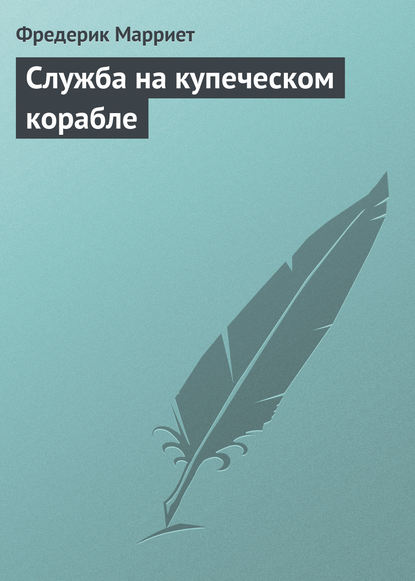 Полная версия
Полная версияПолная версия:
Фредерик Марриет Служба на купеческом корабле
- + Увеличить шрифт
- - Уменьшить шрифт

Фредерик Марриет
Служба на купеческом корабле
Глава I
В 17.. году, в скучный туманный месяц, навевающий человеконенавистничество и желание покончить с собой, в тот месяц, когда солнце встает, но не светит, дает свет, но не вселяет в нас радости веселыми лучами, когда только большие сальные свечи помогают купцу подсчитывать свои барыши, а философу ясно видеть свои потери, то есть в ноябре, Эдуард Форстер, который долго служил на флоте ее величества, сидел в удобном кресле в удобной гостиной удобного коттеджа, куда он переехал, получая пенсию после серьезной раны, зажившей много лет тому назад, но раскрывавшейся каждую весну.
Место, окружавшее его дом, не было так приветливо, как сам коттедж. Дом стоял на горе, которая оканчивалась отвесным обрывом. Берег этот возвышался над частью Атлантического океана, в этом месте носящей название «Ирландское море». Форстер всю свою жизнь был моряком и всегда с прежним удовольствием слушал стон и свист ветра. Даже ночью, лежа в гамаке, он, просыпаясь от порывов бури, только крепче завертывался в одеяло.
Финансы Форстера не позволяли ему допускать в жизни роскоши, и напиток местной перегонки заменял для него вино. Он сидел, поставив ноги на каминную решетку, держа в руке стакан виски, уйдя в воспоминания о счастливом прошлом, полном надежд, надежд несбывшихся, и постоянно разбивавшихся мечтаний и грез. Стояла бурная ночь. Дождь то громко стучал, то прекращался, точно давая пищу ветру, который в такие промежутки налетал с новой силой и проникал в каждую щелку. Время от времени ковер в маленькой комнате поднимался над полом и надувался под напором Дыхания бури. Единственная свеча, фитиль которой, благодаря небрежности Форстера, не только стал необычайно длинен, но даже на своем конце превратился в гриб, каждую минуту могла потухнуть; деревянные занавеси на окне торжественно покачивались из одной стороны в другую. Вдруг прозвучал пушечный выстрел, нарушивший глубокую задумчивость Эдуарда Форстера. Форстер вскочил, уронил книгу и качнул локтем стол, вследствие чего большая часть содержимого стакана расплескалась. Корона из сажи на светильнике тоже упала от этого толчка, и свеча, освобожденная от своего груза, загорелась ярче.
– Господи помилуй, мистер Форстер, вы слышали? – закричала вбежавшая в комнату старуха-экономка, единственная обитательница коттеджа, кроме Форстера.
– Да, – слышал, миссис Безлей, – ответил Эдуард. – Это сигнальный выстрел гибнущего судна. Оно, вероятно, близ страшного подветренного берега. Дайте мне шляпу.
Он допил свой стакан, надел шляпу, которую ему подала старуха, и выбежал из дома. Дверь, выходящая к морю, резко распахнулась, и Форстер исчез в темноте ночи.
Старая экономка, на долю которой выпала задача закрыть дверь, увидела, что это нелегкое дело, к тому же дождь попадал внутрь дома и был неприятным душем для женщины, жестоко больной ревматизмом. Наконец ей удалось добиться желанного результата, и она укрылась в комнату, снова зажгла свечу, которую задул ветер, и стала ждать возвращения своего господина. После града восклицаний миссис Безлей села в кресло Эдуарда, помешала кочергой в камине и выпила стаканчик виски с водой. Когда ее платье высохло, а стакан был осушен, своим звучным храпом старушка возвестила, что она находится в счастливом состоянии забвения. В этом положении мы и покинем ее, а сами проследим за Эдуардом Форстером.
Когда он подверг себя злобе непогоды, было около семи часов вечера. О, как прелестны были вечера всего за несколько недель перед тем! Солнце, исчезавшее за отдаленными волнами, оставляло позади себя часть своего сияния, блестевшего до тех пор, пока звезды, послушные божественному закону, не зажигались, чтобы светить в ночи; море рябило на песчаном грунте или заливалось в расщелины скал; оно изменяло свою окраску по мере медленного угасания света, делалось темнее, из лазоревого становилось все более и более серым до тех пор, пока мрак не сгущался и не скрывал его так, что оставалась видной только линия горизонта.
Теперь все было иначе: завывание ветра и грохот волн, ударявшихся о скалы, с которых вода стекала потоками, глушили Форстера. Дождь и брызги били ему в лицо, и он обеими руками удерживал шляпу на голове; стояла такая густая, черная тьма, что он только изредка мог различать широкий пояс пены, которым был окаймлен берег. Но Форстер шел к отмели, и ее теперь нужно описать подробнее.
Как мы заметили раньше, коттедж стоял на высоком берегу, кончавшемся отвесным обрывом высотой ярдов в двести и обращенным прямо на запад. С северной стороны берег на протяжении многих миль образовывал непрерывный ряд утесов, которые сулили почти неминуемую гибель судам, но к югу от утеса, который выступал в виде полуострова против коттеджа Форстера, была глубокая впадина в линии берега, представлявшая собой песчаную и почти совершенно замкнутую сушей бухту, правда, маленькую, но до того защищенную, что всякое судно, вошедшее в нее, могло бы с безопасностью ждать там окончания бури.
Близ этого заливчика, в маленьком доме жил рыбак со своей семьей, компаньон Форстера, который выстроил на свои средства баркас и летом почти не покидал его, К этому коттеджу и направлялся Форстер. Подойдя к дому рыбака, он сильно постучался в дверь.
– Робертсон, Робертсон! – во весь голос крикнул Форстер.
– Его нет дома, мистер Форстер, – ответила Джейн, жена рыбака, – он пошел смотреть на судно.
– В какую сторону пошел он?
Раньше, чем Джейн успела ответить, появился сам Робертсон.
– Я здесь, мистер Форстер, – сказал он, снимая меховую шапку и выжимая из нее воду, – только я не видел судна.
– А все-таки, судя по звуку пушечного выстрела, оно должно быть близ берега. Возьмите несколько связок хвороста из сарая и разведите костер побольше; не скупитесь, я вам заплачу.
– Я и даром зажгу костер, сэр; надеюсь, что они поймут сигнал и выбросятся на берег в этой бухте. Вот, опять пушка!
Второй выстрел, прозвучавший гораздо громче первого, доказал, что судно быстро подходило к земле, а судя по тому, откуда донесся звук, стало ясно, что оно шло к скалистому полуострову.
– Живо, живо! – крикнул Форстер. – Я пойду на утес и постараюсь отдалить его от камней.
Они расстались, чтобы заняться добрым делом.
Не без труда и не без опасности Форстеру удалось исполнить свое намерение, и, когда он добрался до вершины, сильный порыв ветра свалил бы его с ног, если бы он не опустился на колени и не ухватился за траву. Шляпу он потерял, и ветер далеко унес ее. В такой позе, промокший от ливня, дрожащий от холода, он несколько минут напрягал зрение, стараясь пронизать темноту ночи; вдруг вспыхнула молния; она зажглась в зените, продолжала свой прихотливый путь зигзагами, пропала за горизонтом, и ее свет показал Форстеру предмет его поисков. Но Эдуард видел его всего несколько мгновений; затем, в силу контраста, ему почудилось, будто пелена застлала его болевшие глаза, и все стало еще чернее, еще ужаснее прежнего. Однако для зрения опытного моряка и короткого мгновения оказалось достаточно. Он заметил, что выстрел дал большой корабль, находившийся приблизительно в миле от суши; что он шел под зарифленными парусами; что его бушприт то вздымался к небу, когда судно поднималось на мешавшую его ходу гряду, то, окруженный пеной, зарывался в бездну вод; что судно походило на громадное чудовище, порождение глубин моря, вырывающееся из сетей, бичуя волны в своем стремлении к свободе.
На берегу бухты ярко горел костер назло дождю и ветру, который, казалось, сначала тщетно старался уничтожить его, а потом раздувал пламя.
«Может быть, он все-таки спасется, – подумал Форстер, – только бы вошел в бухту… Еще пространство длиной в два каната, и он минует мыс».
Корабль показывался на мгновение всякий раз, когда расщепленная молния падала с неба, раскаты грома оглушали, сотрясали воздух.
По мере того, как судно шло вперед, оно в то же время боком приближалось к утесу. Форстер не дышал от тревоги, потому что последняя вспышка молнии показала ему, что еще две секунды – и судьба корабля решится.
Буря усилилась, и Форстеру пришлось держаться за траву изо всех сил и уже не стоять на коленях, а лечь ничком на мокрую землю. Но он все-таки подполз так близко к краю утеса, что, несмотря на лежачее положение мог видеть и море, и корабль. Новая молния. Ее было достаточно.
– Господи, помилуй их души! – крикнул Форстер и прижался лицом к земле, точно желая скрыть от себя жестокую картину.
Он увидел судно на волнах прибоя, но всего в нескольких ярдах от первых, внешних скал; корабль кренился; его передний парус и грот были сорваны с мачт. Напрасно звучали крики о помощи, воплей отчаяния никто не слышал, никто не пытался спастись, и яростная стихия с воем и ревом поглотила свои жертвы.
Точно удовлетворенная уничтожением, буря начала мало-помалу ослабевать, и Форстер, пользуясь минутой затишья, медленно спустился на отмель. Там он застал Робертсона, который продолжал подкладывать хворост в костер.
– Не тратьте больше топлива, мой милый, все кончено; бывшие на палубе судна теперь уже перешли в вечность, – печально произнес Форстер.
– Он утонул, сэр?
– Да, на первой гряде; теперь некому увидеть нашего маяка.
– Да будет Господня воля, – сказал рыбак. – А все-таки я не потушу костра, потому что, если кто-нибудь чудом попал в нашу тихую бухту, он может спастись.
И рыбак подкинул в костер еще несколько связок хвороста, потом принес из своего дома для Форстера красный шерстяной колпак вместо его погибшей шляпы и вместе с ним сел подле костра, чтобы согреться и обсушить насквозь промокшее платье.
Робертсон еще раз подбавил топлива в костер; его яркое пламя отразилось в воде залива; вдруг Форстер увидел что-то плывшее к берегу. Он указал на это рыбаку; они вместе подошли к самой воде и с глубоким вниманием стали ждать приближения неизвестной вещи. Это, кажется, не человек, сэр, – помолчав, заметил Робертсон.
Я не могу понять – ответил Форстер, – но мне вроде кажется, что это животное… и, конечно, живое.
Минуты через две вопрос выяснился: они увидел! большую собаку, которая несла во рту что-то белое и плыла туда, где они стояли. Робертсон и Форстер стали подзывать бедное животное, чтобы ободрить его, потому что собака, по-видимому, очень устала и двигалась медленно. Но все же они с удовольствием видели, что пес миновал линию прибоя, который даже в эту минуту был не силен в бухте; вот бедное животное вышло на землю, вода так и лила с мохнатого тела собаки; она еле держалась на ногах, но все же не выпускала изо рта своей ноши и, наконец, положив ее к ногам Форстера, стала отряхиваться. Эдуард поднял предмет заботливости животного: это было тело грудного ребенка, очевидно, нескольких месяцев от роду.
– Бедненький! – печально вскрикнул Форстер.
– Это мертвое дитя, сэр, – сказал Робертсон.
– К сожалению, кажется, да, – ответил Форстер, – но, вероятно, ребенок умер недавно; собака, очевидно, держала его над водой, пока не попала в волны прибоя. Кто знает, может быть, дитя только без чувств, и нам удастся его оживить.
– Если его что-нибудь способно оживить, то, конечно, тепло женской груди, к которой он еще недавно прижимался. Джейн возьмет ребенка к себе в постель и уложит со своими малютками.
Рыбак вошел в дом; Джейн раздела ребенка с нежностью, которую внушало ей материнское чувство, и взяла его к себе. Через четверть часа, к восторгу Форстера, Робертсон вышел из коттеджа и крикнул, что дитя пошевелилось, заплакало, что появилась надежда на его выздоровление.
– Джейн говорит, сэр, что это прелестная девочка и что, если малютка останется жива, она будет кормить ее, как кормит нашего Томми.
Форстер пробыл близ бухты еще около получаса и узнал, что девочка стала сосать грудь, а потом заснула. Радуясь, что ему удалось помочь спасти маленькое создание, Эдуард крикнул собаку, бесстрастно лежавшую подле костра, и пошел было домой, но собака подбежала к дверям коттеджа, в который на ее глазах унесли ребенка, и было невозможно отозвать ее от этого порога.
Форстер вызвал к себе Робертсона, дал ему еще кое-какие наставления и вернулся домой, где ему пришлось долго стучать в дверь, прежде чем его экономка проснулась. Проснувшись же, старуха еще долго бранила его за то, что он заставил ее так долго ждать.
Глава II
Форстер скоро заснул крепким сном; он видел дикие, спутанные сны, но я редко беспокою людей рассказами о сновидениях, ведь они – ничто.
Однако нам нужно немного вернуться назад и бросить взгляд на предыдущую историю Эдуарда. Мы можем это сделать теперь без перерыва, потому что те действующие лица, с которыми мы познакомили читателя, спят.
Отец Эдуарда Форстера был священником и хотя мог насчитать около двадцати-тридцати двоюродных, троюродных и прочих братьев с громкими титулами, совершал богослужение в епархии, расположенной недалеко, от той части страны, в которой теперь жил Эдуард. Он принадлежал к числу пчел церкви, собирающих мед, в то время как ее трутни поедают запасы.
Этот труженик каждое воскресенье читал проповеди и служил в трех различных местах и целый год крестил, венчал и хоронил всех жителей в области, занимающей несколько тысяч квадратных акров, за очень жалкое жалование. Получив место, он в скором времени женился на девушке, которая принесла ему в приданое красоту и скромность и подарила несколько детей. Но тот, кто дает, тот и отнимает; изо всех детей этой четы только трое дожили до взрослых лет. Джон (его обыкновенно звали Джок) был старшим. Его отправили в Лондон, и там он изучал юридические науки и жил у одного родственника, который взял на себя заботы о нем. У Джока не было способностей; он учился прилежно, запоминал прочитанное, но читал не быстро; впрочем, если он не умел быстро усваивать знания, то вознаграждал это настойчивостью и прилежанием; наконец, только благодаря своим усилиям, Джок достиг хорошего положения в своей профессии. С детства разлученный с семьей, он никогда не мог вернуться домой. Он слыхал о рождении различных братьев и сестер; слыхал, что они умирали; узнал, наконец, и о смерти родителей; и только это последнее сообщение взволновало и огорчило его; он любил отца и мать и все ждал, что придет время, когда его средства позволят ему облегчить их жизнь. Но все это давно прошло. Теперь он, пятидесятилетний холостяк, бородатый, некрасивый, был неприветлив и неласков. Он жил запершись в своих комнатах, весь ушел в сухую технику своей профессии и делил нравственный мир на две части: честную и бесчестную, законную и противозаконную. Все остальные чувства и привязанности, если они еще и жили в нем, он похоронил где-то в глубине души, и они никогда не появлялись наружу. В то время, о котором идет речь, он продолжал свою трудную, но прибыльную карьеру, работал, как лошадь, вертящая мельничный жернов, и накоплял богатство, впрочем, делая это не из скупости, а вследствие старинной привычки.
Эдуард Форстер не встречал его около двадцати лет; в последний раз он виделся с ним, когда, выйдя в отставку, проезжал через Лондон. Благодаря отсутствию переписки (у них не было ничего общего), Джок не знал, кто из его братьев жив.
Вторым уцелевшим сыном был Никлас. Преподобный мистер Форстер, знавший, что он оставит детям в наследство только доброе имя, старался подметить в каждом из них проблески таланта, ведущего к богатству и славе. И вот, когда Никлас еще носил платье девочки, он стал выказывать большое пристрастие к зажигательному стеклу и этим причинял много бед. Он обжег нос собаке, спавшей подле двери. На платье матери виднелись следы его таланта в виде маленьких круглых дырочек, которые значительно увеличивались после каждой стирки. И зажигательное стекло определило судьбу мальчика: его поместили учеником к мастеру, изготовлявшему оптические и математические приборы, мечтая, что из этого положения он поднимется на самые высшие ступени профессии; но вследствие тех или других причин, по недостатку ли таланта или честолюбия, Никлас не смог добраться до верхней ступени этой лестницы и теперь держал лавку в приморском портовом городке Овертоне. Там он чинил испорченные инструменты: сегодня часы, завтра компас; но его главное занятие заключалось в телескопах, а потому большая вывеска с надписью «Никлас Форстер-оптик» висела над окном маленькой лавочки, и через ее стекла можно было видеть оптика за его занятиями. Это был странный человек; в его мозгу существовала какая-то бороздка, которая не позволяла ему мыслить последовательно и ясно. Он мог жить недурно, потому что у него не было соперника в маленьком городе, и его считали способным человеком. Никлас, единственный из трех братьев, попробовал надеть на себя брачные узы, но об этом мы скажем только, что у оптика был единственный сын и что он женился, отыскав, по собственному выражению, особу, которая совпадала с нужным ему фокусом.
Эдуарда Форстера, младшего брата, мы уже представили читателю. Он всегда выказывал ясно выраженные стремления к мореплаванию. Он пускал в луже скорлупки и посылал куски коры с бумажными парусами по ручью, который журчал близ пасторского дома. Это послужило указанием: его приговорили к морю и приказали вернуться домой Нельсоном. Эдуард Форстер честно служил родине, и если бы у него была возможность продолжать морскую профессию, он, благодаря своим заслугам, конечно, поднялся бы до высших степеней. Но, будучи еще в чине мичмана, Эдуард получил страшную рану и был произведен в лейтенанты. Рана Эдуарда была так серьезна, что ему пришлось уйти со службы, получая половинное содержание. Много лет подряд он все ждал, что будет в состоянии продолжать свою карьеру, но напрасно; рана постоянно открывалась, из нее выходили все новые и новые осколки кости, и он был осужден на вечное разочарование. Когда Эдуард сделал попытку поступить на службу, оказалось, что его заслуги забыты. Он получил холодный отказ, впрочем, почти отвечавший его желаниям, и, не чувствуя себя обиженным, отправился в свой коттедж, в котором вел замкнутую, но не несчастную жизнь. У него были очень небольшие потребности, и половинное жалование более чем удовлетворяло их. Светлая созерцательность, порожденная образованным умом, скорее питавшаяся прежними приобретениями, нежели собиравшая новые запасы, чувство справедливости и привычка хорошо управлять собой составляли главные характерные черты Эдуарда Форстера, которого я теперь разбужу, чтобы вернуться к нашему рассказу.
– Ну, признаюсь, мистер Форстер, недурно вздремнули вы, – закричала миссис Безлей, да так громко, что ее восклицание немедленно положило конец его сну. И она принесла ему горячей воды для бритья – операции, которая считается наказанием для мужчин. – Ведь десять часов, мистер Форстер, и стоит холодное утро после вчерашней бури. Но, пожалуйста, скажите, что вы видели и слышали?
– Вот оденусь и расскажу, миссис Безлей, – был ответ. Пожалуйста, как можно скорее принесите мне завтрак, потому что мне опять нужно к заливу. Я совсем не собирался так долго спать.
– Что же видно под ветром? – спросила старуха, употребляя одну из его обычных фраз.
– Если вам угодно знать это, то чем скорее дадите вы мне возможность встать с постели, тем скорее я буду в состоянии рассказать вам все.
– А почему вы так долго не ложились? – продолжала экономка, которая хотела получить какие-нибудь вести.
– К сожалению, погибло судно.
– О, Боже, Боже! И люди пошли тоже ко дну?
– Боюсь, что погибли все, уцелела только одна жизнь, да и та еще не наверно.
– Господи! О, Господи! Пожалуйста, мистер Форстер, расскажите мне все.
– Вот оденусь, тогда и расскажу, – ответил Форстер, делая движение, точно готовясь встать с постели, и тем обращая старуху в бегство.
Через несколько минут он уже сидел за столом, завтракал и рассказывал. Покончив с обоими занятиями, он пошел к Робертсону, чтобы узнать о судьбе малютки.
Теперь картина была совсем другая. Море все еще волновалось, и ясное солнце освещало его неспокойную пелену, золотя верхушки волн. Все это было красиво и величаво и не вызывало ни малейшего ужаса. Атмосфера, очищенная борьбой стихий, была свежа и бодрила человека.
Форстер скоро пришел к коттеджу Робертсона; шум его шагов вызвал из дома рыбака с женой, которая держала на руках спасенную малютку.
– Посмотрите, мистер Форстер, – сказала Джейн, поднимая ребенка, – она совсем здоровенькая и все время улыбается. Что за милый ребенок!
Форстер посмотрел на дитя, которое улыбнулось ему, точно из благодарности, но его внимание отвлекла ньюфаундлендская собака; она царапала Эдуарда лапой, когда же он приласкал ее, побежала на песчаную отмель и, глядя в глаза Форстера, замахала хвостом.
Форстер взял малютку из рук ее новой матери и сказал:
– Бедное создание, ты еле спаслось от гибели. Кто ведает, какие новые опасности ожидают тебя? Но тот, кто велел тебе спастись, знает все лучше нас, бродящих во тьме!
И Эдуард, поцеловав дитя в лоб, передал его Джейн. Форстер решил на время оставить дитя в семье Робертсона, сговорился по поводу этого с ним и его женой, а сам пошел на мыс, чтобы посмотреть, что осталось от погибшего судна. Лежа на вершине утеса, он увидел много соединенных между собою бревен и досок, которые показывались над водой. Желая узнать, что это был за корабль, Форстер по опасной и извилистой тропинка спустился вниз и приблизительно через четверть часа был уже невдалеке от потерпевшего крушение корабля. Но за исключением расшатанного скелета судна, крепко засевшего между камнями, не виднелось ничего: ни кусков мачт и рей, ни парусов – ничего, что напоминало бы о жизни. Волны все унесли; может быть, также нижние течения увлекли обломки, чтобы снова выкинуть их на поверхность где-нибудь далеко-далеко. Форстер мог понять только, что это был корабль иностранной постройки и имел большой тоннаж. Но кто был на его палубе, какой груз совлекли с него пожирающие волны, нельзя было даже и предположить. На белье ребенка стояло «Ж. де Ф.», и это было единственное указание для определения личности малютки. Больше часа неподвижный, как статуя, Форстер стоял на скале, сложив руки, глядя на бурные волны и погруженный в печальные мысли.
Прошли недели, месяцы; однако все попытки узнать имя погибшего корабля не привели ни к чему. Хотя предположение Эдуарда, что погибший корабль принадлежал к числу многих иностранных Вест-Индских судов, погибших в эту бурную зиму, было правильно, но не нашлось указаний, которые помогли бы отыскать родственников спасенной девочки.
Между тем малютку отняли от груди и перенесли в коттедж Форстера. И Эдуард, и его старая экономка посвящали много внимания девочке, которую Форстер хотел взять себе.
Миссис Безлей, женщина добрая, старая, была сильно привязана к Эдуарду, в доме которого прожила много лет. Но как все женщины, она любила властвовать и часто бранила своего господина так бесцеремонно, точно была его женой. Форстер кротко подчинялся этому и обладал достаточно философским умом, чтобы подчиняться. Ребенок внес новое очарование в его жизнь.
Ньюфаундленд стал скоро отзываться на поистине заслуженную им кличку Верный и всегда спал подле люльки своей маленькой госпожи. Малютке тоже пришлось Дать новое имя.
– Она сокровище, выкинутое океаном, – сказал Форстер, целуя красивую малютку. – Будем же звать ее Амбер – янтарь.
Однако предоставим ей расцветать в невинности и чистоте и перенесем внимание читателя к другим сценам, происходившим в одно время с описанными нами.
Глава III
Так вышло, что Никлас Форстер, о котором мы уже упомянули, перед свадьбой находивший, что жена вполне соответствует его фокусу, скоро оказался близоруким больше, чем следовало бы быть оптическому мастеру.
Какими бы прелестями не отличалась миссис Форстер в эпоху заключения их брачного союза, в то время, о котором говорится в нашей истории, она не могла похвалиться большой привлекательностью. Это была худая маленькая женщина с острым носом и хорьковыми глазами, подозрительная, ревнивая, часто недовольная; ее главное занятие, почти наслаждение, состояло в придумывании проступков мужа; с утра до ночи ее пронзительный голос слышался на всю улицу. Средства позволяли Форстерам иметь только одну прислугу (конечно, миссис Форстер не позволяла ей лениться), которая редко оставалась к их доме дольше месяца, и ничто, кроме немедленно грозящей смерти от голода, не заставило бы девушку предложить свои услуги этой хозяйке дома.
Никлас Форстер, на свое счастье, обладал очень странным темпераментом: ничто никогда не могло вполне рассердить его. Он вечно думал о чем-нибудь постороннем, и когда поступки или речи его жены вызывали в нем вспышки гнева, новое течение мыслей скоро изглаживало из его ума причину этого неудовольствия. Однако, раздумывая о таких припадках, он невольно говорил себе, что будет спокойнее, когда небо отзовет миссис Форстер в лучший мир. Наконец эта идея вполне овладела его воображением. Вечные волнения жены до такой степени нарушали его планы, что, видя невозможность выполнить их, он мысленно откладывал все, что считал важным, на то время, когда миссис Форстер умрет.