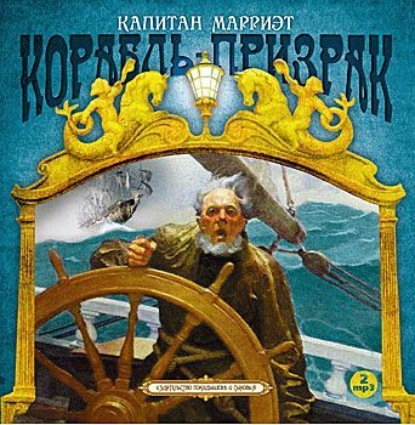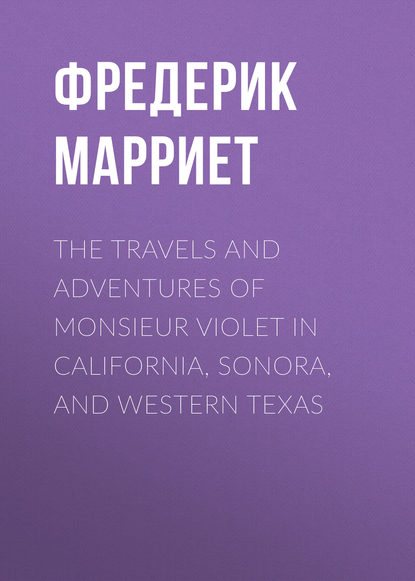Полная версия:
Фредерик Марриет Корабль-призрак
- + Увеличить шрифт
- - Уменьшить шрифт

Фредерик Марриет
Корабль-призрак
© К. М. Королев, перевод, 2019
© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“», 2022
Издательство Азбука®
Серийное оформление Вадима Пожидаева
Оформление обложки Валерия Гореликова
Иллюстрации Венцеслава Черны и Вацлава Чутты
* * *

Глава 1
Приблизительно в середине семнадцатого столетия на окраине крохотного, но укрепленного городка Тернез[1], расположенного на правом берегу Шельды, почти напротив острова Вальхерен, можно было увидеть стоявший впереди редких и еще более неказистых построек маленький, но опрятный домик, сложенный в полном соответствии со вкусами тогдашнего времени. Фасад его сколько-то лет назад раскрасили в сочный оранжевый цвет, а окна и ставни были раньше ярко-зелеными. Футах в трех над поверхностью земли стены этого домика украшала плитка и синее чередовалось с белым. Вокруг располагался небольшой сад, около двух рудов[2] площадью, если мерить нашими мерками, а вдоль садовых деревьев шла низкая живая изгородь из бирючины, окруженная канавой – полной воды и слишком широкой, чтобы с легкостью ее перепрыгнуть. Там, где канава подступала к фасаду, через нее перебросили узкий мостик с узорчатыми железными перилами, дабы гости ненароком не упали в воду. Впрочем, цвета, некогда столь яркие и свежие, давно поблекли, а признаки неизбежного обветшания можно было разглядеть в оконных рамах, дверных косяках и прочих деревянных частях строения, а многие плитки, как белые, так и синие, повыпадали, и никто не спешил заполнить бреши. Прежде дом явно окружали заботой, а ныне, что представлялось столь же очевидным, он пребывал в небрежении.
Внутри дома, на нижнем этаже и наверху, имелось по две большие комнаты в передней части и по две меньшие в задней, причем большие комнаты могли считаться таковыми лишь в сравнении с малыми, ибо каждая была от силы в дюжину футов площадью и с одним-единственным окном. Верхний этаж, как положено, отводился под спальни; внизу малые комнаты теперь использовались в качестве помывочной и кладовки для хвороста, а одну из больших приспособили под кухню и обставили поставцами, с полок которых сверкала, будто ее посеребрили, металлическая кухонная утварь. Само помещение выглядело дочиста выскобленным, но мебель и утварь оставляли ощущение запущенности. Доски пола слепили белизной и казались на удивление светлыми – ступить боязно, того и гляди запачкаешь. Крепкий сосновый стол, два стула с деревянными сиденьями и маленькая кушетка, очевидно спущенная сюда из спальни наверху, – вот и вся мебель, что составляла обстановку комнаты. Другая передняя комната на этаже служила гостиной, но каково было ее убранство, оставалось неведомым, ибо вот уже почти семнадцать лет туда никто не заглядывал, и весь этот срок комната была наглухо заперта, даже от обитателей жилища.
В кухне, которую мы описали выше, находились двое людей. Женщине, по всей видимости, совсем недавно перевалило за сорок, но тяготы и муки ее преждевременно состарили. Прежде она явно поражала красотой, о чем все еще можно было судить по правильным чертам лица, благородному челу и большим темным глазам, но в ее облике просматривались усталость и угнетенность, придававшие коже восковую прозрачность; лоб, когда она размышляла, бороздили глубокие морщины, точно у древней старухи, а лихорадочный блеск глаз поневоле заставлял порой усомниться в ее душевном здоровье. Чудилось, что внутри нее поселилась и не желает уходить некая безнадежная тоска, ни на мгновение не исчезавшая из памяти; пожалуй, от этого бремени страданий избавить могла только смерть. На женщине был вдовий наряд, принятый в ту пору, и эти одежды, чистые и опрятные, смотрелись ветхими от долгого ношения. Она сидела на кушетке, о которой уже говорилось, и никто бы не усомнился в том, что эта поза приносит ей облегчение в ее болезненном состоянии.
На сосновом столе посреди комнаты устроился цветущего вида светловолосый юноша лет девятнадцати или двадцати. Черты его были приятными глазу, телосложение – крепким, а движения – порывистыми; взгляд выражал отвагу и решимость. Он беззаботно болтал ногами и громко насвистывал песенку. Всякий сразу угадал бы в нем дерзкую, предприимчивую и бесшабашную натуру.
– Не уходи в море, Филип![3] Пообещай, что не уйдешь, мой ненаглядный сын! – взмолилась женщина, заламывая руки.
– Почему же нет, матушка? – отозвался Филип. – Чего ради мне оставаться тут? Чтобы голодать? Клянусь Небесами, мне это не с руки. Я должен позаботиться о себе и о тебе. И чем еще мне заняться? Мой дядя ван Бреннен предложил отплыть с ним и посулил неплохое жалованье. На борту я буду счастлив, а моих доходов хватит, чтобы обеспечить тебя.
– Филип… Послушай меня, Филип. Я умру, если ты уйдешь. На всем белом свете у меня не осталось никого, кроме тебя. Дитя мое, если любишь меня – а я знаю, Филип, что ты меня любишь, – не уходи. Уж коли тебе так нужно уйти, прошу, подумай хорошенько и не выбирай море.
Филип ответил не сразу: он продолжал насвистывать, покуда его мать плакала.
– Не в том ли дело, – сказал он в конце концов, – что мой отец утонул в море? Не потому ли ты так опечалена, матушка?
– Нет! Нет! – вскричала женщина сквозь рыдания. – Лишь Господу…
– О чем ты, матушка?
– О, ни о чем, ни о чем. Но пощади меня, Господи, будь милосерден! – Мать Филипа неуклюже соскользнула с кушетки на пол, встала на колени и принялась истово молиться.
Потом она столь же неловко села обратно, и ее лицо теперь выражало решимость.
Филип, все это время задумчиво молчавший, вновь обратился к матери:
– Послушай, матушка. Ты просишь меня остаться с тобой на берегу и голодать. Это суровый выбор. Вот что я скажу. Та комната напротив заперта, сколько я себя помню, а почему – ты никогда мне не рассказывала. Но однажды я подслушал, как ты говорила… Тогда у нас не было даже хлеба, на возвращение дяди рассчитывать не приходилось, и ты впала в почти беспросветное отчаяние, как с тобою порой случается…
– Что ты услышал от меня, Филип? – прервала его мать, и ее голос дрогнул от волнения.
– Ты говорила, матушка, что в той комнате лежат деньги и они спасли бы нас, а потом вдруг заголосила, стала бесноваться и выкрикнула, что скорее предпочтешь смерть. Итак, матушка, что таится в этой комнате и почему она заперта так давно? Либо открой мне эту тайну, либо я уйду в море.
На первых словах сына женщина словно одеревенела, замерла в неподвижности, будто превратившись в статую, но постепенно ее губы разошлись, глаза засверкали. Чудилось, что дар речи ее покинул; она прижала ладонь к правому боку, как бы подавляя боль, затем стиснула обе ладони, явно силясь справиться с нестерпимой мукой. А потом вдруг обмякла, уронила голову, и из уголка ее рта потекла струйка крови.
Филип соскочил со стола и, кинувшись к матери, не позволил ей упасть на пол. Он уложил мать на кушетку и встревоженно вгляделся в ее лицо.
– Матушка! Что с тобой, матушка? – воскликнул он, явно не находя себе места от беспокойства.
Некоторое время женщина не отвечала. Она перевернулась на бок, чтобы не задохнуться, если хлынет наружу содержимое треснувшего сосуда[4], и белоснежные доски пола окрасились алым от ее крови.
– Милая матушка, поговори со мною, если можешь! – вскричал в смятении Филип. – Как мне быть? Чем тебе помочь? Боже всемогущий, да что же это?!
– Смерть, дитя мое, смерть, – выдавила наконец бедная женщина и погрузилась в полузабытье.
Филип, вне себя от страха, выбежал из дому и стал звать на помощь соседей. Двое или трое откликнулись на его призыв; едва Филип увидел, что они приступили к заботам о его матери, как опрометью бросился к дому врача, жившего на расстоянии около мили. Этот минхеер Путс, алчный и битый жизнью коротышка, славился своими познаниями в медицине. Филип добежал до дома Путса и с порога потребовал, чтобы врач немедленно отправился с ним.
– Иду, иду, – проворчал Путс, который скверно говорил на местном наречии, – но скажите-ка, минхеер Вандердекен, кто мне заплатит?
– Кто заплатит? Да мой дядя, конечно же, когда вернется домой!
– Значит, ваш дядя, шкипер ван Бреннен? Между прочим, он задолжал мне четыре гульдена, давненько уже задолжал. А что, если его корабль затонул?
– Заплатит он вам ваши четыре гульдена, и за эти услуги тоже заплатит! – процедил Филип в ярости. – Идемте! Пока вы со мною препираетесь, моя мать умирает!
– Увы, господин Филип, я вспомнил, что не могу пойти с вами. Мне нужно навестить сына бургомистра в Тернезе, – сказал Путс.
– Послушайте, минхеер Путс! – вскричал багровый от гнева Филип. – Сами решайте, пойдете вы добровольно или я вас отволоку ко мне домой! Со мною ваши штучки не пройдут!
Путс заметно струхнул, ведь нрав Филипа Вандердекена был хорошо известен.
– Я загляну к вам, когда смогу, минхеер Филип.
– Вы идете со мной прямо сейчас, старый хапуга! – рявкнул Филип, схватил врача за шиворот и потащил наружу.
– Убивают! Помогите! – завопил, болтая ногами в воздухе, Путс, не в силах вырваться из хватки крепкого молодого человека.
Филип остановился, заметив, что лицо Путса почернело от удушья.
– Мне вас силком волочь или сами пойдете? Уж поверьте, я вас доставлю куда надо, живым или мертвым!
– Ладно, ладно, – пробурчал Путс, переводя дух. – Я пойду, но вот вы сегодня же окажетесь в тюрьме, а что до вашей матери, минхеер Филип, я бы не рассчитывал… нет, не рассчитывал…
– Знаете что, минхеер Путс? Господом Богом клянусь, коли вы со мною не пойдете, я вас задушу прямо тут. А если не позаботитесь, как должно, о моей матушке, я вас прибью. Понятно? Вы ведь знаете, я всегда держу слово, так что мой вам совет: ступайте со мной подобру-поздорову, и вам наверняка заплатят, причем немало, даже если мне придется продать последнюю одежду.
Пожалуй, эти слова Филипа подействовали сильнее, чем все угрозы. Путс, убогий коротышка, никак не мог мериться силой с молодым человеком. Дом его стоял в уединении, посему уповать на чью-либо помощь он мог разве что в сотне ярдов от жилища Вандердекенов. Потому минхеер Путс благоразумно решил подчиниться: во-первых, Филип обещал заплатить, а во-вторых, деваться все равно было некуда.
Словом, когда дела уладились таким образом, Филип и минхеер Путс со всей поспешностью двинулись к дому Вандердекенов. Матушка Филипа была еще жива, и заботливые соседки смачивали ей виски уксусом, чтобы облегчить страдания. Она находилась в сознании, однако язык ей не повиновался. Путс велел перенести ее наверх и положить на кровать, потом влил в горло страждущей какой-то целебный настой, после чего поманил за собой Филипа и сказал, что приготовит необходимое лекарство.
– Вот, минхеер Филип, – вернувшись к себе, он вручил молодому человеку флакон, – это ваша матушка должна выпить. Я же отправляюсь к бургомистру, а на обратном пути снова вас проведаю.
– Не вздумайте меня обмануть, – сурово произнес Филип.
– Нет, что вы, минхеер Филип! На вашего дядю ван Бреннена в том, что касается оплаты, я не рассчитываю, но вы-то пообещали, а ваше слово крепкое, это всем известно. Через час я навещу вашу матушку, а вам следует поторопиться.
Филип не стал медлить. Вернувшись домой, он дал матери лекарство, и кровотечение прекратилось, а спустя полчаса мать уже начала разговаривать, пускай шепотом. Коротышка-доктор пришел, как и договаривались, тщательно осмотрел больную, а затем спустился вниз, на кухню, где ждал сын вдовы Вандердекен.
– Минхеер Филип… – начал Путс. – Аллах свидетель, я сделал все, что было в моих силах, но должен признаться, что не питаю особых надежд на исцеление вашей матушки. Боюсь, она протянет еще денек-другой, но не дольше, и вряд ли поднимется с постели. Это не моя вина, минхеер, – прибавил он понуро.
– Понимаю. Такова воля Небес, – отозвался Филип с печалью в голосе.
– Вы заплатите мне, минхеер Вандердекен? – уточнил врач после недолгого молчания.
– Конечно, – прорычал Филип, и вид у него был такой, словно юношу вдруг вырвали из забытья.
Врач снова помолчал и спросил:
– Мне зайти завтра, минхеер Филип? Мои услуги стоят гульден в день. Сами понимаете, вам же лучше расплатиться поскорее.
– Приходите завтра, в любое время, и назначайте любую цену – вам заплатят, – проронил Филип, презрительно скривив губы.
– Что ж, как скажете. Когда ваша матушка преставится, этот дом и вся обстановка отойдут вам и вы сможете все продать. Да, я приду. У вас будет много денег, минхеер Филип. Я бы охотно снял ваш домик, если надумаете его сдавать.
Филип вскинул руку, словно намереваясь ударить коротышку, и врач отпрянул в угол.
– Ну да, сперва надо будет похоронить вашу матушку, – льстиво произнес Путс.
– Убирайтесь, вы, ничтожество! – воскликнул Филип, прижимая ладони к лицу, и опустился на залитую кровью кушетку.
Немногим позже Филип Вандердекен сидел подле кровати, на которой лежала его матушка. Ей стало заметно лучше, и соседки, у которых было довольно собственных дел, оставили мать наедине с сыном. Обессиленная кровотечением, несчастная женщина проспала много часов подряд, но даже во сне не выпускала руку Филипа, который тоскливо следил за прерывистым дыханием матери.
Вдова очнулась ото сна около часа ночи. К тому времени она обрела достаточно сил для того, чтобы возвысить голос, упавший до шепота, и обратилась к сыну:
– О, мой дорогой, мой нетерпеливый мальчик, неужели я обрекла тебя на долгое заточение?
– Я сам так решил, матушка. Не желаю тебя оставлять до тех пор, покуда ты не выздоровеешь.
– Увы, Филип, я знаю, что обречена. Я чувствую близость смерти, и поверь, сынок, когда бы не ты, я бы с радостью покинула этот мир. Ведь я умираю уже давно, Филип, и с давних пор молюсь о смерти.
– Почему же, матушка? – спросил Филип прямо. – Неужто я настолько тебя обидел?
– Вовсе нет, сынок, вовсе нет. Я благодарю Господа, что Он ниспослал мне тебя. Я часто видела, как ты смиряешь свой буйный норов, как обуздываешь даже праведный гнев, чтобы не ранить мои чувства. Я твердо знаю, что и голод не убедит тебя ослушаться материнских наставлений. Филип, ты, верно, считаешь меня глупой или думаешь, будто я обезумела, раз продолжаю упорствовать… Но я скажу это снова, без обиняков…
Вдова повернула голову, помолчала какое-то время, а затем, словно набравшись сил, заговорила вновь:
– Наверное, я и вправду порою лишалась разума… Разве не так, Филип? Одному Господу ведомо, что за тайну я храню в своем сердце, и эта тайна свела бы с ума кого угодно. Она изводит меня ночью и днем, она изнуряет мой дух, она затемняет мои мысли… Но теперь, хвала Небесам, бренная оболочка надо мною более не властна! Удар нанесен, Филип, я знаю это наверняка. Я бы рассказала тебе все, но не могу, ибо тогда и твой разум окажется в опасности.
– Матушка, – ровным голосом произнес Филип, – заклинаю, поведай мне эту убийственную тайну. Пусть за нею таятся псы преисподней или весь ангельский сонм – мне все равно. Небеса меня не покарают, а сатаны я не страшусь.
– Твой дух, Филип, крепок, а твой разум силен. Что ж, если кому и суждено перенять у меня это бремя, то это ты. К несчастью, сама я с ним не справилась, но, быть может, тебе ноша будет по плечу. Да, долг велит мне наконец-то открыться тебе.
Вдова умолкла, явно обдумывая то, что столь долго скрывала от сына. По ее впалым щекам струились слезы. Потом она как будто набралась решимости и принудила себя сказать:
– Филип, я поведаю тебе о твоем отце. Считается, что он утонул в море…
– Разве нет, матушка? – изумился Филип.
– Нет, сынок.
– Но ведь он давно мертв, матушка?
– Нет. Да… И нет… – Вдова закрыла глаза.
«Бредит», – подумалось Филипу, но юноша не унимался:
– Так что с моим отцом, матушка?
Вдова приподнялась, по ее телу волной пробежала дрожь, и она ответила:
– Филип, он осужден пожизненно!
Бедная женщина откинулась на подушку и накрыла голову одеялом, будто норовя спрятаться от собственных воспоминаний. Филип же был настолько потрясен услышанным, что не находил слов. Несколько минут царило молчание, а затем, не в силах долее терпеть эту муку, Филип прошептал:
– Матушка, открой же мне тайну, молю тебя!
– Я готова все тебе рассказать, Филип. – Голос вдовы сделался торжественным. – Слушай же меня, дитя мое. Твой отец был схож с тобою нравом. Да будет его горькая участь уроком тебе, мой милый мальчик! Он был смелым и дерзким, многие называли его отменным моряком. Родился он не здесь, а в Амстердаме, но оставаться там не мог, ибо хранил верность католической вере[5]. Тебе известно, Филип, что голландцы сделались еретиками и осуждают нашу веру. Минуло уже семнадцать лет или больше, как он отплыл в Индию на своем отличном корабле «Амстердамец» с ценным грузом на борту. Это было его третье плавание в Индию, Филип, и, если бы Господь попустил, оно должно было стать последним, ибо он купил этот отличный корабль на часть своих доходов и очередное плавание обещало сделать его богачом. О, сколь часто мы с ним говорили о том, чем он займется по возвращении! И эти наши общие надежды на будущее примиряли меня с его отсутствием, ведь я любила его всем сердцем, Филип. Он всегда был со мною добр и ласков, а когда уходил в море, я не переставала молиться о том, чтобы он вернулся. Никому не пожелаю того жребия, какой выпадает женам моряков! Они многие месяцы тоскуют в одиночестве, глядят на пламя свечи, слушают вой ветра за окном, страшась беды и воли случая, воображая крушение и свое вдовство. Твой отец, Филип, отсутствовал уже полгода, и оставался еще целый долгий и скорбный год до срока, когда он должен был вернуться. Как-то ночью ты, мой мальчик, крепко спал. Ты был моим единственным утешением, отрадой в моем одиночестве. Я смотрела, как ты спишь, как улыбаешься во сне и бормочешь мое имя… Я поцеловала тебя, сонного, а потом встала на колени и принялась молиться, просила Господа благословить тебя и твоего отца. Я и не подозревала тогда, что он проклят навеки и зло простерло над ним свои крылья.
Вдова перевела дух. Филип потрясенно внимал, не замечая, что рот его сам собой приоткрылся. Он не сводил глаз с матери и жадно впитывал ее слова.
– Я оставила тебя и спустилась вниз, в ту самую комнату, Филип, что с той жуткой ночи наглухо заперта. Я села к столу и стала читать. Задувал сильный ветер, а в такую погоду женам моряков не спится, уж поверь. Полночь миновала, лил дождь… Меня одолевал беспричинный страх, и я никак не могла успокоиться. Я встала, окунула палец в чашку со святой водой и перекрестилась. Свирепый порыв ветра сотряс весь дом, и мне сделалось страшнее прежнего. Душа моя терзалась жуткими, недобрыми предчувствиями. Тут вдруг внутренние ставни и окна разом распахнулись, свеча погасла, и я очутилась в полнейшей темноте. Я вскрикнула от испуга, но потом собрала все свое мужество и двинулась к окну, чтобы его закрыть. В тот миг, Филип, я увидела человека, медленно входящего в дом. Это был твой отец, сынок, твой отец!

– Боже милосердный! – выдавил Филип, и голос его был чуть громче шепота.
– Я не знала, что и думать… Он вошел в комнату. Тьма не отступала, однако я различала его фигуру и лицо отчетливо, как средь бела дня. Страх побуждал меня пятиться… А сердце звало обнять любимого мужа… Я замерла там, где стояла, растерянная и перепуганная. Стоило ему войти в комнату, как окна и ставни закрылись сами собой, а свеча снова загорелась. Тогда я решила, что вижу призрака, и лишилась чувств.
Очнувшись, я поняла, что лежу на кушетке, а чья-то нестерпимо холодная и мокрая рука сжимает мои пальцы. Это меня почему-то приободрило, и я выбросила из головы все те потусторонние знаки, что сопровождали появление твоего отца. Я вообразила, что он потерпел крушение, но все-таки выжил и сумел добраться до дома. Я открыла глаза, увидела своего ненаглядного мужа и кинулась в его объятия. Его одежда насквозь промокла под дождем. Мне показалось, будто я обнимаю льдину, но ничто, Филип, ничто не способно справиться с жаром женской любви. Он позволил себя обнять, но не приласкал меня в ответ. Он молчал, только смотрел на меня – тоскливо и задумчиво.
«Виллем! – позвала я. – Виллем! Виллем Вандердекен, поговори со своей милой Катериной!»
«Да будет так, – откликнулся он, – ибо мне отпущен малый срок».
«Нет-нет, не уходи от меня опять в свое море. Пускай ты лишился корабля, но сам-то цел! Разве ты не вернулся ко мне?»
«Нет, жена. Выслушай и не перебивай, у меня мало времени. Мой корабль невредим, Катерина, зато сам я попал в беду. Не говори ничего, просто слушай. Я не мертв, но и не жив. Отныне я обречен скитаться между этим миром и обителью духов. Вот как все было.
Девять долгих недель я пытался обмануть ветра и обойти треклятый мыс Доброй Надежды, но все было напрасно, и оставалось только клясть судьбу. Еще девять недель я боролся с встречными ветрами и течениями, но земля не показывалась, и тогда я пустился кощунствовать. О, сколь кощунственным, сколь богохульным было мое сквернословие! Но я не отступался. Моя команда, изнуренная голодом и тяготами, хотела вернуться в Столовую бухту, но я отказывался. Более того, я совершил убийство, пусть непреднамеренно, но я убил человека. Лоцман выступил против меня и подговорил матросов напасть на капитана. Одержимый яростью, я ударил его, когда он схватил меня за воротник. Он отшатнулся, а корабль в этот миг вдруг повело в сторону, и лоцман свалился за борт и утонул. Даже эта нелепая и страшная смерть меня не вразумила, я поклялся частицей Святого Креста, что заключена в ладанке на твоей шее, что превзойду в упорстве все на свете бури и моря, все молнии, сами Небеса и преисподнюю, пускай мне придется торить путь да самого светопреставления!
Словно в ответ на мою клятву, прогремел гром, а с небес пролился сернистый огонь. Буря налетела на корабль, разрывая паруса в клочья, водяные валы обрушились на палубу, а вокруг внезапно сгустился непроглядный мрак, что окутал нас саваном, и среди этого мрака вдруг вспыхнула огненная надпись: „До самого светопреставления!“
Послушай меня, Катерина, время мое на исходе. Еще есть крохотная надежда на избавление, именно поэтому мне позволили прийти сюда. Вот, возьми письмо. – Он положил на стол запечатанный пакет. – Прочти его, милая Катерина, и помоги мне, если сможешь. Прочти письмо и прощай – время вышло».
Окно и ставни вновь распахнулись, свеча вновь погасла, и смутный силуэт моего мужа как бы воспарил в наступившей темноте. Я вскочила, бросилась к нему с распростертыми руками, отчаянно закричала, а едва различимая фигура выплыла в окно, и мой воспаленный взор бессильно следил за тем, как она мчится прочь, гонимая порывами ветра. Наконец она превратилась в точку, а затем и вовсе исчезла. Окно захлопнулось, пламя свечи вспыхнуло, и я поняла, что осталась одна.
– Небо, смилуйся надо мною! О моя голова! Филип! Филип! – вскричала бедная женщина. – Не бросай меня! Молю, не бросай меня одну!
Выкрикивая все это, она ухитрилась подняться с постели, а затем упала без сил на подставленные руки сына. В таком положении бедняжка пребывала несколько минут. Обеспокоенный ее долгой неподвижностью, Филип бережно опустил тело матери на кровать. Ее голова запрокинулась, глаза закатились, и вдова Вандердекен покинула сей мир.
Глава 2
Филип Вандердекен, юноша, крепкий телом и духом, едва не лишился чувств, когда понял, что душа его матери отлетела в горние выси. Некоторое время он сидел возле кровати, вперив взор в неподвижное тело, и его разум блуждал где-то далеко. Постепенно он пришел в себя, встал, поправил подушку, закрыл матери глаза, а потом стиснул руки, по его щекам побежали скупые мужские слезы. Он запечатлел прощальный поцелуй на бледном лбу усопшей и задернул прикроватную занавеску.
– Бедная моя матушка! – произнес он скорбно, покончив с этим. – Вот, душа твоя все же обрела покой… Но сколь горькое наследство ты мне оставила!
Мысли Филипа обратились к материнскому рассказу, и он вновь и вновь перебирал в смятенном уме жуткие картины, какие рисовало ему воображение. Юноша изо всех сил сдавил ладонями виски и постарался успокоить мятущийся разум, дабы решить, что надлежит делать. Он чувствовал, что оплакивать утрату некогда. Да, матушка обрела покой, но какова участь отца?
Филип припомнил слова матери: «Еще есть крохотная надежда». Что же, отец оставил письмо на столе. Быть может, оно до сих пор там, в запертой комнате? Наверное, его никто не трогал, матушке не хватило смелости к нему прикоснуться. В этом письме таится какая-то надежда, однако оно лежит нераспечатанным более семнадцати лет!