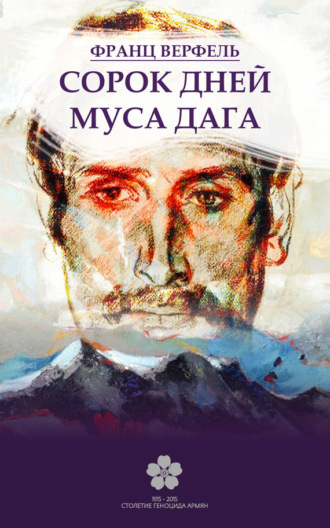
Франц Верфель
Сорок дней Муса-Дага
– Где же смерть не угрожает жизни?
Борцам на Муса-даге нужно было выиграть время. Обманный маневр давал им несколько лишних дней для постройки оборонительных сооружений.
Совет уполномоченных заседал у Тер-Айказуна, в доме при церкви. Лицо вардапета было сильно обезображено: с правого глаза и щеки еще не сошла опухоль, до середины лба тянулся лиловый кровоподтек. Кроме того, у него были выбиты два коренных зуба, и Тер-Айказун, по-видимому, очень страдал от боли.
Зато рваные раны Габриэла были почти незаметны под пластырями доктора Алтуни. Перенесенные побои – первые в его отстраненной и оберегаемой от внешнего мира жизни, – это тяжелейшее испытание еще больше сблизило его с другими, да и он после этого стал им ближе.
Совещание уполномоченных обсуждало тревожное положение с запасами продовольствия, исправить которое, к несчастью, уже нельзя было. В мирное время жители деревень после сбора урожая пополняли запасы зерна – покупали у турецких или арабских крестьян, так как сами хлебопашеством почти не занимались. В нынешнем же году, парализованные ожиданием грядущего бедствия, они упустили возможность закупить продовольствие на зиму. Теперь за упущение приходилось расплачиваться.
Муки, картофеля и кукурузы в деревнях было совсем мало. Для того чтобы растянуть это количество на более или менее долгий срок, требовалось расходовать эти продукты крайне экономно. Но так как армянин привык есть очень много хлеба и очень мало мяса, то перед руководством лагеря возникла серьезная проблема. Вдобавок в первые дни на Дамладжке нельзя было печь хлеб, оттого что еще не успели вырыть в земле тондыры. Поэтому пастор Арам Товмасян отдал распоряжение, чтобы в пятницу вечером ни на час не гасили огонь в тондырах и спекли как можно больше лаваша и лепешек, которые переселенцы возьмут с собой на Дамладжк.
К концу совещания Тер-Айказун объявил, что наутро в пятницу состоится торжественное богослужение. По окончании литургии со звонницы снимут оба колокола, и процессия верующих понесет их на кладбище, чтобы там предать земле. Затем народ совершит прощальное моление на могилах предков. Тер-Айказун добавил, что хотел бы доставить на Дамладжк несколько корзин с освященной могильной землей. Тогда те, кто умрет в бою или в лагере сопротивления, не будут одиноко лежать в бездушной пустыне, а упокоятся с горсткой от века священной земли в изголовье.
В пятницу утром заптии, действительно, все до единого сбежали в мусульманские поселения. Мюдир и муафин отправились верхом к себе в Антиохию.
Церковь в Йогонолуке была задолго до назначенного часа запружена народом – так не бывало со дня ее освящения. Притвор и большой четырехугольник, над которым высился купольный свод, оба клироса и даже ступени амвона были заполнены до отказа. По древнему обычаю церковь была без окон, и острые янтарные мечи солнечного света проникали, как сквозь бойницы, через прорезы в стенах, похожие на Всевидящее око73. Но скрестившиеся солнечные клинки не освещали храм, напротив, они затмили огни свечей и раскинули над человеческой толпой сеть. причудливых, трепетных теней. Сегодня на молебстве в Йогонолук пришли не только сотни верующих из маленьких селений, но и все священники и певчие, пожелавшие принять участие в этой последней литургии «на твердой земле».
Никогда еще хор не пел так полнозвучно-тихо духовный гимн, возвещавший у подножия алтаря облачальный обряд священника в ризнице:
Тайна глубокая, непостижимо ты безначальна!
Ты украшаешь горние царства, словно предвестие недоступного света,
Ты украшаешь великою славой и блеском
Воинство сил светоносных.
Никогда еще Тер-Айказун с таким смирением и трепетом не исповедовался перед народом в грехах. Под его золотой короной горело позорное пятно от удара дубинкой. И никогда еще таинство поцелуя мира, союз общины во Христе, не соединяло души более святыми узами. Прежде, когда дьякон после молитвы, кончавшейся словами «Приветствуйте друг друга святым поцелуем», подносил к губам регента хора, учителя Асаяна, кадильницу, а тот целовал следующего за ним певчего и объятие ширилось, охватывая не только хор, но и прихожан, – тогда это беглое прикосновение чаще всего было только проформой. Сегодня же все они, крепко обнявшись, по-настоящему целовали друг друга в щеки и губы. Многие плакали.
Когда же после причастия священники, участвовавшие в богослужении, стали по знаку Тер-Айказуна раздевать алтарь, вся община, охваченная внезапной безмерной скорбью, опустилась на колени. Горький плач, стоны и жалобы возносились ввысь, замирая под куполом, над рябью теней, над скрещенными архангельскими мечами солнца.
Каждый предмет престольной утвари поднимали вверх, показывали молящимся, прежде чем он исчезал в соломенной корзине: потир74, дискос75, дароносицу и большое напрестольное евангелие. Кадильницы, серебряные светильники и распятия ризничий прятал в особый сундук. Под конец на алтаре остался только белый кружевной покров.
Тер-Айказун в последний раз осенил себя крестом, на какое-то мгновение руки его, цветом своим напоминавшие желтые церковные свечи, замерли в нерешительности над белым покрывалом, потом вдруг рывком сорвали его с алтаря. Нагой открылась взорам каменная плита, которую когда-то выломали из серой известковой скалы на Муса-даге. В ту же самую минуту мастеровые папаши Товмасяна спустили из звонницы на полиспасте большой и малый колокола. Затем они с трудом подняли эту тяжкую медь – порознь каждую громаду – на погребальные носилки, с приставленными к ним носильщиками, по восемь на вынос каждого колокола.
Процессию открывали причетники, несшие высокий крест. За ними, раскачиваясь, следовали погребальные носилки с колоколами. Потом шли Тер-Айказун и священники. Бесконечно долго тянулась эта похоронная процессия до Йогонолукского кладбища. Казалось, она и впрямь провожает в могилу особенно почитаемых покойников. Стояла одуряющая жара. Лишь изредка Средиземное море, умиротворяя сирийское лето, посылало через хребет Муса-дага свое прохладное дыхание.
Кружившийся перед шествием песчаный смерч, точно призрачный танцор, открывающий танец, являл собой лишь жалкое подобие того великого столпа облачного, что указывал путь в пустыне сынам Израилевым.
Кладбище было расположено далеко, по дороге в Абибли, Резчиково село. Как большинство кладбищ на Востоке, оно раскинулось на пологом скате горы и не было огорожено. Эта особенность, да поваленные либо покосившиеся и ушедшие в землю надгробные плиты, на выветрившемся известняке которых были топорно вырезаны крест и буквы, придавали ему сходство с турецкими или еврейскими кладбищами в Малой Азии.
Когда процессия подошла к кладбищу, со склепов и могильных плит взметнулись серые, как летучие мыши, тени. Это были старухи в отрепье, которое не рассыпалось, верно, потому только, что слиплось от пыли и грязи. Старух всюду тянет в такие места. Они и на Западе известны, эти завсегдатаи обители смерти, эти неизменные свидетельницы и охранительницы тлена, для которых нищенство зачастую просто вторая профессия.
Здесь, в Йогонолуке, это была гнездившаяся среди могильных обломков, тесно спаянная профессией каста плакальщиц, женщин, обмывающих покойников, и повивальных бабок, которые, согласно некоему социальному закону, принятому в деревнях, осуждены были жить за гранью общества. К этим отверженным принадлежали и несколько нищих слепцов с лицами библейских пророков, а также те фантастически изувеченные калеки, которых создает только Восток. Здешнее население спасалось от собственного же человеческого шлака тем, что, за отсутствием других мер, изгоняло его в это священное и в то же время нечистое место. Вот почему никто не испугался, когда две помешанные с душераздирающими воплями вбежали на кладбищенский холм, прячась от пришельцев.
Итак, если погост с его окрестностями служил Йогонолуку богадельней и домом умалишенных, он имел еще и другое назначение – был местом ссылки здешних знахарей. Факел просвещения в руках Алтуни, Грикора, Шатахяна и их предшественников изгнал знахарство за пределы деревень, но не уничтожил его. Плакальщицы, возглавляемые Нуник, Вартук и Манушак, спасаясь от ненависти доктора Алтуни, отступили сюда, но не дальше. Здесь они ждали вызовов клиентуры; но практика их вовсе не сводилась только к обмыванию покойников и бдению у гроба: чаще всего они занимались лечением хронических больных и детей многодетных матерей, которые меньше верили науке доктора Алтуни, чем травяным настоям, заговорам и заздравным молитвам Нуник, Вартук, Манушак. Нельзя отрицать, что в этой старинной борьбе перевес не всегда бывал на стороне науки: суеверие имело перед нею неизмеримое преимущество, поскольку знахарство располагало огромным разнообразием снадобий и методов лечения. Отчасти способствовала этому неуспеху медицины и угловатость доктора Алтуни, который, исчерпав свои возможности как врача, не старался придумать какой-нибудь утешительный для пациента вздор. Не таков был характер у Нуник; она ни за что не признавалась, что ее познания исчерпаны, и никогда не стушевывалась перед смертью.
Умрет ли кто из ее деревенских пациентов, – стало быть, сам и виноват, потому что в минуту слабости вызвал Алтуни, и все старания Нуник пошли прахом.
Нуник была живой иллюстрацией своего магического искусства. Среди деревенских женщин ходила молва, будто при Старике, при Аветисе Багратяне-старшем, она была такая же семидесятилетняя, как и ныне. Поборники просвещения преследовали знахарок и заклинательниц, изгнав их из круга живых. Но это не мешало им, помимо своей официальной деятельности в качестве причитальщиц, покидать ночью обитель мертвых и отправляться на промысел во всех семи деревнях.
Сейчас, однако, они все собрались на кладбище, где, смешавшись со слепыми и увечными, надеялись получить свою долю подаяний.
Когда похоронная процессия с колоколами приблизилась к погосту, из ее рядов выбежала Сато и помчалась вперед. У нее давно уже завелись друзья среди кладбищенской братии. Жившие за гранью общества, они влекли к себе эту душу, близкую к безумию. С ними ей было так легко, в доме Багратянов так тяжело! Сколь ни льстило самолюбию подаренное «большой ханум» платьице, по правде сказать, оно душило Сато, как и башмаки, чулки и опрятная комнатка: так строгий ошейник душит дрессируемую собаку. С нищими, плакальщицами и юродивыми Сато могла изъясняться на некоем раскованном языке, употреблять слова, которых не существовало в природе. Ах, сбросить с себя, точно тесный башмак, язык взрослых, говорить босиком, какое это счастье! Да, Нуник, Вартук и Манушак умели так рассказывать о тайном, что Сато обдавало дрожью родимого ужаса, словно это тайное она принесла с собою в наш мир из своей пражизни. Она способна была часами смирно сидеть и слушать, в то время как нищие слепцы своими чуткими пальцами-щупальцами ощупывали ее худенькое детское тело. Не будь Искуи, Сато, быть может, не ушла бы со всеми на Дамладжк, зажила бы в приволье с обитателями погоста. Этим счастливцам закрыли доступ в тесный горный лагерь! Такое решение принял совет уполномоченных большинством голосов против одного: Габриэл считал, что нельзя исключать из общности народа ни единую его частицу, хотя как военачальник ясно сознавал, что каждый лишний едок сейчас ослабляет боевую силу. Но те, на кого распространялось это решение, по-видимому, не чувствовали себя из-за этого несчастными и не очень боялись турок. Они протягивали руку, выставляли напоказ свое увечье перед соотечественниками и так же тягуче, как всегда, вымаливали милостыню.
Небо было таким обжигающе ясным, что одно только представление о слетевшем на него пушистом облачке показалось бы вымыслом досужего сказочника. Эта беспощадная лазурь, должно быть, не знала дождя со времен потопа.
Народ теснился у вырытой могилы, прощаясь с колоколами Йогонолука. В мирные дни едва ли кто обращал внимание на привычный перезвон. Но теперь, казалось, это навсегда умолкла их жизнь. Когда колокол-мать и колокол-дочь исчезли в могильной яме, толпа затаила дыхание. Глухое гудение меди под падающими на нее комьями земли возвестило народу, что на отчизну возврата нет и не быть воскресению погребенных.
После краткой молитвы, произнесенной Тер-Айказуном, толпа молча разбрелась по обширному кладбищу; некоторые семьи навестили могилы родных.
Габриэл и Стефан тоже зашли в склеп Багратянов. Это было маленькое и низкое здание с купольным сводом, напоминавшее склепы, в которых обычно турки хоронят своих святых и сановников. Дедушка Аветис велел выстроить склеп для себя и жены. Родоначальник славного семейства Багратянов лежал, по древнему армянскому обычаю, без гроба, в одном саване, под каменными плитами, поставленными под углом друг к другу, будто молитвенно сложенные руки. Кроме него и бабушки, здесь покоился еще недавно усопший брат Аветис, верный земле Йогонолука.
«А больше никто здесь и не поместится», – подумал Габриэл; он был настроен отнюдь не торжественно, напротив, как ни странно, скорей иронически. А Стефан скучал и переминался с ноги на ногу, как человек, которому ох как далеко до смерти – целая вечность да еще уйма времени.
Тер-Айказун стоял с горсткой людей на верхнем крае ската холма, там, где последними клиньями кончались владения усопших.
Несколько человек вырыли большую четырехугольную яму, наподобие общей могилы. Вырытой землей они наполнили пять высоких корзин. Тер-Айказун обошел все пять корзин и каждую осенил крестным знамением. Перекрестив последнюю, он нагнулся над нею. Земля была не черная, а сухая, сыпучая. Тер-Айказун набрал из корзины полную пригоршню этой земли и поднес к лицу, точно крестьянин, проверяющий, богата ли она перегноем.
– Только бы ее достало, – сказал он себе.
Затем удивленно-рассеянным взглядом окинул кладбище, уже почти опустевшее. Жители деревень давно отправились домой. Время подошло к полудню. В более крупных селах, как Абибли и Битиас, состоялись такие же торжественные богослужения. Но для всеобщего переселения совет уполномоченных назначил время после захода солнца.
Габриэл с нежностью готовил переезд Жюльетты на Дамладжк. На дне пропасти, куда увлекла ее армянская катастрофа, думал он, Жюльетта, насколько позволят обстоятельства, должна как можно меньше чувствовать себя оторванной от своего мира. Правда, ее европейский мир в настоящее время втянут в бойню, по сравнению с которой все что-либо подобное кажется примитивным, случайным; ведь там все делается в условиях наивысшего комфорта, согласно последним достижениям научного прогресса, – не с бесхитростностью плотоядной бестии, но педантично, с математической точностью интеллектуальной бестии.
«Жили бы мы сейчас в Париже, – мог бы, например, сказать Багратян, – нам не пришлось бы заводить жилье на голой каменистой почве сирийской горы и был бы у нас ватерклозет и ванная, но при всем при том нам приходилось бы и днем и ночью спускаться в темный подвал, спасаясь от авиабомб. Стало быть, я и в Париже не уберег бы Стефана и Жюльетту от смертельной опасности».
Но Габриэл ничего этого не говорил, хотя бы потому, что вот уж несколько месяцев не читал европейских газет и ни о Париже, ни о войне ничего почти не знал. Накануне вечером он послал Авакяна и Кристофора со всеми слугами на Дамладжк с наказом обставить новое жилище Жюльетты, предусмотрев все мыслимые в тех условиях удобства.
На площадке Трех шатров предполагалось соорудить отдельную кухню, прачечную и прочее. Габриэл решил отдать в распоряжение Жюльетты все три шатра. Ей одной дано было право выбрать тот из них, какой она сочтет для себя подходящим. На Дамладжк с великим трудом втащили не только ковры, жаровни, диваны, столы и стулья, но и необыкновенное количество багажа светской дамы: чемоданы-шкафы, лакированные сумки, дорожные сундучки для посуды и столовых приборов, целый набор лекарств и косметических средств, грелки и термосы. Габриэлу хотелось, чтобы эти привычные предметы европейского обихода облегчали Жюльетте ее участь. Пусть она живет как принцесса, в поисках приключений путешествующая по неизведанным странам.
Но именно поэтому, думал Габриэл, он сам обязан перед народом вести строго воздержанный, суровый образ жизни. Он твердо решил, что не будет ни спать, ни столоваться на площадке Трех шатров.
Вернувшись с кладбища, жители Йогонолука в последний раз вошли в свои дома, которые уже не были их домами. В каждом ждали хозяина огромные, непосильно тяжелые тюки. В мучительной нерешительности слонялись люди по комнатам в ожидании вечера. На глаза попадалось то одно, то другое, – отброшенная ногою циновка, оставленный на месте подсвечник, а здесь – Господи Иисусе! кровать, милая кровать, ради которой копили деньги, усердно трудились годами, чтобы быть обладателями этой крепости брака и семьи. И вот эта кровать должна остаться здесь, на этом самом месте, и станет добычей турецкой и арабской деревенской черни!
Медленно тянулось время. И в эти бесконечно тянувшиеся часы вещи вновь и вновь перекладывались и перепаковывались, чтобы та или иная никчемная вещь уместилась в одном из узлов. Даже в самых ветхих хибарках происходило это душераздирающее прощание с рухлядью, преображаемой человеческими иллюзиями и любовью.
Под вечер Габриэл, как и все, бродил по комнатам своего дома. Они были нелюдимы и пусты. Прошло уже несколько часов, как Жюльетта с домочадцами и Гонзаго отправилась в путь, на Дамладжк. День был непереносимо знойный, Жюльетту тянуло пораньше очутиться на горе, в прохладе. Да и не хотелось в сутолоке оказаться среди деревенских переселенцев.
Габриэл, который прежде с чуть сентиментальным чувством грусти покидал даже гостиничный номер, куда его заносило мимоездом (ведь всюду, где бы ты ни был, оставляешь часть себя, как милого сердцу покойника!), сейчас был совершенно равнодушен и холоден. Жилище предков, где открывались ему впечатления детских лет, его пристанище последних поворотных месяцев теперь ничего ему не говорило. Он удивлялся своей душевной тупости, и все же это было так. Единственное, о чем он немного жалел, это собрание древностей, радовавшее его сердце коллекционера в первые, счастливые недели Йогонолука. Снова и снова подходил он то к Аполлону, то к Артемиде, то к прекрасному Митре, осторожно поглаживал головы богов. Затем он круто повернулся спиной к двери в селамлик и отрекся навек от родных пенат. Он не стал больше ни на что смотреть, подавил в себе чувства, разбуженные отчим домом, и вышел за ворота.
Между тем на дворе, перед левым крылом виллы происходила удивительная сцена. Здесь собралось то человеческое отребье, которому был закрыт доступ в горный лагерь. Сбившись в кучку, о чем-то взволнованно толковали плакальщицы, нищие, похожие на пророков, и несколько безнадзорных, убежавших от родителей недоумков. Разумеется, примкнула к ним и зейтунская сиротка Сато.
Главенствовала в этой маленькой группе личность, неотразимого влияния которой не остался чужд и Габриэл. То была струха Нуник, предводительница всех знахарок и ворожей. Поражал в темном лице этого Агасфера в образе женщины не только наполовину изъеденный волчанкой нос, но и выражение той страшной энергии, что поднимала Нуник на высшую ступень ее касты, возводила в сан неограниченной властительницы. Пусть даже молва, будто ей перевалило за сто, была пошлейшим надувательством, поддерживаемым ею самой, так сказать, для пользы дела, тем не менее ее неподвластный времени старческий облик служил как бы бесспорным свидетельством целебности ее лечения, равно как и благотворности жизни, исполненной лишений.
Нуник зажала между своими тощими ногами маленького черного ягненка, который, верно, забрел сюда случайно, и перерезала ему ножом глотку. По-видимому, резала она овечку со знанием дела – рука ее не дрогнула, и только губы, приоткрывшись, обнажили совершенно целый, молодой оскал под отвратительным, изъеденным волчанкой носом. От этого лицо ее стало похоже на блаженно ухмыляющуюся маску, и это так взбесило Габриэла, что он напустился на всю компанию:
– Что вы здесь делаете, подлые воры?
Один из «пророков» вышел вперед и с важностью пояснил:
– Это, эфенди, гадание на крови, и гадают про вас. Багратян готов был броситься с кулаками на этот сброд.
– У кого вы украли ягненка? Разве вы не знаете, что всякий, кто посягнет на народную собственность, будет расстрелян или повешен?
«Пророк» снисходительно и надменно пропустил мимо ушей оскорбительную угрозу.
– Лучше присмотрись, эфенди, куда потечет кровь, – к горе или к дому.
Габриэл увидел, как черная кровь ягненка, хлынувшая из надреза на шее, пульсируя стекала на совершенно ровную поверхность и мало-помалу собралась в густую лужу, которая ширилась, образуя круг, пока не вытекли последние капли. Затем кровяная лужа замерла, словно в нерешительности ожидая некоего таинственного знака. Но вот из окружности ее робко выступили три маленьких зубца, которые, однако, тотчас застыли на месте, будто их кто-то отозвал, пока вдруг одна нетерпеливая струйка не устремилась змейкой к дому.
Вся орава в диком возбуждении завопила:
– Goh enk!76 Кровь течет к дому!
Нуник низко склонилась над кровяной лужей, словно могла по рисунку и скорости течения крови с большой точностью сделать важный вывод. Когда же она подняла голову, Габриэл увидел, что ее обезображенное лицо, должно быть, некогда навек приняло это выражение ухмыляющейся маски, так возмутившее Габриэла. Но, странное дело, голос у ворожеи был низкий и мягкий, совсем не подходивший к ее внешности:
– Народ горы спасется, эфенди!
В ту же минуту Багратян вспомнил о двух монетах, подаренных ему Рифаатом Берекетом: Габриэл забыл их у себя дома.
«Я непременно должен взять их с собой, – подумал Габриэл, – жаль было бы, все-таки…»
Он вернулся на виллу, постоял с минуту, колеблясь, у двери – нельзя, если уже перешагнул порог, снова возвращаться домой перед отъездом, не к добру! – потом взбежал, перепрыгивая ступеньки, в свою спальню и вынул из шкатулки золотую и серебряную монеты. Он поднес серебряную к свету. На поверхности ее рельефно выступала характерно армянская голова Ашота Багратуни. Вкруг золотой монеты вилась греческая надпись, почти неразборчивая, так как слова следовали одно за другим, без промежутка:
«Непостижимому в нас и над нами».
Габриэл сунул обе монеты в карман. Затем вышел из сада через западную калитку и ушел не оглядываясь. Пройдя несколько шагов, он посмотрел на свои часы, которые наперекор всему своевольно показывали европейское время. Солнце уже стояло над Дамладжком. Габриэл Багратян отметил час и минуту начала новой жизни.
Вскоре после заката народ семи деревень снялся с места и целыми кланами и семьями, тяжело нагруженный, побрел разными дорогами, чаще всего близлежащими, на гору. Хоть жители этой долины не были бедны, только немногие из них имели верхового или вьючного осла. Часто две семьи пользовались одним, общим ослом. В базарные дни владельцы ослов забирали с собой в Суэдию или Антиохию и товар своих бедных земляков. Взаимная помощь в подобных делах была в обычае здесь с давних пор. Обитатели Муса-дага, жившие уединенно и обособленно у моря, на краю ислама, не нуждались в более дорогих средствах передвижения, потому что товар у них был легкий: коконы шелковичного червя, резные работы по дереву, мед. Они довольствовались немногими имевшимися в деревнях упряжками волов и вьючными мулами. В эту ночь ослы несли на себе лишь малую долю хозяйского имущества, ведь сто пятьдесят самых крепких вьючных животных с седлами и крючьями для переноски тяжестей были по-братски отданы бедной общине пастора Арутюна Нохудяна.
Габриэл присел отдохнуть на откосе конной тропы, что вела к Северному седлу. Перед ним проходили группами задыхающиеся, тяжело нагруженные переселенцы. Превозмогая налетавшую на него минутную дремоту, он продолжал принимать этот парад изгнанников.
Из-за светло-серой скалистой громады Амануса на северо-востоке взошла крепко сбитая, отливающая неестественным металлическим блеском луна. Она явственно приближалась, она не была плоским диском, вписанным в небосвод. За нею отчетливей открывалась черная даль мирового пространства. Да и Земля была сейчас для Габриэла не прежним привычным и неподвижным местом обитания, а маленьким корабликом в космосе, которым она и правда была. Этот светлый космос простирался не только за выпуклым телом луны, но проник в долину, наполнил прохладой все поры задремавшего Габриэла.
Луна уже перевалила полнеба, а группы тяжело дышащих сородичей все еще тянулись мимо Габриэла. Неизменно одна и та же картина:
во главе клана, угрюмо опираясь на палку, шествует со своей кладью отец семейства. Сердитый окрик – жалобный отзыв! Женщины шатаются под тяжестью ноши, сгибаются под нею почти до земли. Вдобавок им приходится следить за козами, чтобы те не разбежались. И все же то тут, то там из-под узлов и мешков нет-нет да и сверкнет веселый взгляд, зазвенит милый девичий смех.
Габриэл испуганно вскочил, очнувшись от дремы. Снизу, из деревень, донесся пронзительный детский плач. Вопило по меньшей мере сто ребят, словно они в эту самую секунду все сразу обнаружили пропажу родителей. Затем к этому реву присоединились визгливая брань и негодующие возгласы каких-то сварливых старух. Но гам подняли не покинутые родителями дети; а кошки, оставленные в Йогонолуке, Азире и Битиасе. У кошек ведь семь душ и у каждой души свой собственный голос. Поэтому, чтобы убить кошку, нужно семь раз ее убивать. (Сато давно усвоила эту премудрость от Нуник.) По правде же, азирские, битиасские и йогонолукские кошки хладнокровно отнеслись к отъезду хозяев, потому что всеми своими семью душами привязаны не к человеку, а к дому. Быть может, пронзительное мяуканье было вовсе ликующим хором по поводу того, что отныне нет больше препятствий их свободной любви.
Зато собаки горевали по-настоящему. Даже дикая собака сирийских деревень не бросает человека. Она не может вернуться к самой себе, переродиться вновь в лисицу, шакала, волка. Пусть даже с тех пор, как она одичала, сменилось несчетное число поколений, все равно она – отставная служанка цивилизации, и такой остается всегда. Тоскливо караулит она человека у его жилья, но не для того, чтобы выклянчить кость, а чтобы вновь попасть в рабство, быть принятой в услужение, на прежнюю, забытую ею работу. Дикие собаки мусадагских деревень знали все. Они уже открыли существование лагеря на Дамладжке. И знали, что, в отличие от деревенской улицы, сюда им доступ строго воспрещен. В смятении и отчаянии носились они вокруг запретной горы, хрустели, продираясь сквозь подлесок, шуршали, как змеи, в кустах мирта и земляничника. Ни одной из них инстинкт не подсказал спасительный выход – переселиться в ближние мусульманские селения и добывать себе кость в Шаликане или Айн-Джерабе.
Они были прочно привязаны к этому неверному народу, покинувшему их общее жилье. Душа у них изнемогала от жестокой муки, и все же они не смели взвыть, издать тот односложный лай, от которого давно ушел вперед язык домашней собаки с его богатым словарем. Весь безысходный ужас страждущей души сосредоточился в их глазах. Всюду видел перед собою в темноте Габриэл эти горящие зеленым огнем исступленные глаза собак, не смеющих переступить заколдованный круг.
Луна скрылась за хребтом Муса-дага. Легкий ветер принес с собой дыхание космоса.
«Теперь уже все наверху», – подумал Габриэл, перед которым больше часа прошла последняя группа переселенцев.
И все же, то ли от усталости, то ли от потребности в уединении, он никак не мог заставить себя покинуть свой ночной наблюдательный пост. Разве он знал, доведется ли ему еще хоть раз в жизни побыть наедине с собой? И разве он не считал всегда величайшим даром небес такое одиночество? Он побудет еще полчаса в этом неземном покое, а потом сразу же поспешит к северной позиции – контролировать и торопить с рытьем окопов. Он прислонился к стволу дуба и закурил. И тогда из мрака выступила фигура еще одного, самого запоздалого переселенца. Габриэл расслышал цокот копыт и шум осыпающихся камней. Затем он увидел фонарь, человека и неимоверно навьюченного осла. При каждом шаге у бедняги от непосильной ноши подламывались ноги. Однако и человек тащил на себе увесистый мешок, который он каждые две минуты, мучительно задыхаясь, сбрасывал на землю. Габриэл узнал аптекаря только тогда, когда мешок свалился к его ногам.
Лицо Грикора было неузнаваемо, бесстрастная маска мандарина напоминала сейчас личину дикарского божка. По лоснящимся щекам ручьями бежал пот, длинная борода дергалась, когда Грикор, задыхаясь, ловил ртом воздух. По-видимому, ему было очень худо, он корчился от боли. Габриэл решил вмешаться.
– Вы ведь могли дать мешок с лекарствами моим людям, вместо того чтобы волочить на себе всю аптеку.
Грикор не сразу справился с одышкой. Тем не менее не преминул ответить презрительным тоном:
– Мешок никакого отношения не имеет к аптеке. Ее я уже много часов тому назад отправил наверх.
Габриэл давно заметил, что и осел, и его хозяин навьючены только книгами. Непонятно почему, это его и раздражало и вызывало желание подшутить над Грикором.
– Простите мое невежество, господин аптекарь. Так что, тут весь ваш провиант?
Лицо Грикора стало спокойнее. Взгляд снова равнодушно покоился на собеседнике.
– Да, Багратян, это мой провиант. К сожалению, не весь…
Он тяжело закашлялся. Когда приступ прошел, он сел рядом с Габриэлом и стал вытирать огромным носовым платком пот с лица. Сумерки сгустились. Осел стоял на тропе, понурив голову и раскорячив многострадальные ноги. Прошло несколько минут. Габриэлу стало стыдно своей жестокой шутки. Но голос Грикора снова звучал высокомерно-назидательно:
– Габриэл Багратян! Вам, как парижскому ученому, были открыты совсем иные пути к познанию, чем мне, йогонолукскому аптекарю. И все же некоторые вещи остались вне круга ваших познаний, зато обогатили меня. Так, вы должны были бы знать следующее изречение благородного Григория Назианзина77, а также ответ на его слова язычника Тертуллиана…78
Неудивительно, что Габриэл не знал изречения Григория Назианзина, так как известно оно было одному лишь аптекарю Грикору Йогонолукскому. Он и поведал свою притчу свойственным ему непререкаемым тоном, невзирая на то что подменил отца церкви Тертуллиана неким язычником Тертуллианом.
– Однажды преподобный Григорий Назианзин пригласил к себе отобедать знатного язычника Тертуллиана. Не пугайтесь, Багратян, это столь же короткая, сколь и глубоко поучительная притча. Они заговорили о том, что урожай нынче хорош, да и пшеничный хлеб, который они преломили, был превосходен. На стол упал солнечный луч. Григорий Назианзин поднял свой ломоть хлеба и сказал Тертуллиану: «Любезный гость, сколь горячо должны мы возблагодарить бога за сотворенное им чудесное таинство, ибо знай: сей вкусный хлеб не что иное, как этот желтый солнечный луч, который в поле преобразился в пшеницу». Тертуллиан же встал и, сняв с полки том сочинений поэта Вергилия, сказал Григорию: «Любезный хозяин, если мы должны благодарить бога за дарованный им хлеб, то насколько же больше обязаны мы возносить ему хвалу за эту книгу. Ибо знай, книга сия есть преображенный луч иного солнца, которое сияет в вышине куда более недостижимой, нежели то светило, чьи лучи можно увидеть на столе».





