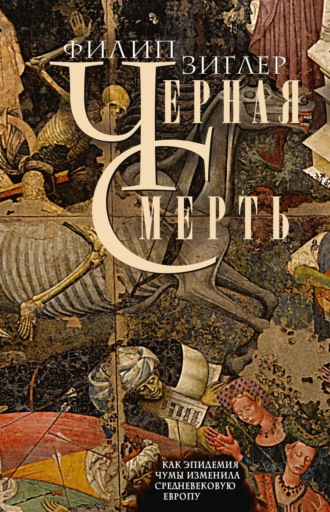
Филип Зиглер
Черная смерть. Как эпидемия чумы изменила средневековую Европу
Небеса не только обеспечивали знамения того, что должно было произойти, они были инструментом, с помощью которого воля Бога превращалась в грозную реальность. В XIV веке астрономия, несомненно, являлась самой передовой ветвью систематизированного научного знания. Для тех, кто изучал звезды, при абсолютной невозможности объяснить, что происходит вокруг, было совершенно естественно экстраполировать то, что они знали, и на основании движения планет создать некий свод правил, позволяющий интерпретировать это движение, чтобы предсказывать события на земле. «Средневековый космический прогноз, – писал Сингер[34], – невозможно понять без осознания того, что аналогия, доведенная до крайности и не подтвержденная опытами и наблюдениями, была важнейшим интеллектуальным оружием того времени».
В XIV веке престиж астрологии, этого таинственного соединения астрономических исследований и полумагического созерцания кристаллов, был близок к своей наивысшей точке. Арабские астрономы создали теорию, согласно которой движения планет и их расположение в пространстве относительно друг друга определяют будущее человечества.
Поскольку Черная смерть, очевидно, была явлением далеким от нормальности, чтобы объяснить ее, требовалось найти что-то ненормальное в поведении планет.
Время от времени предлагались различные теории, но классическим стало описание, изложенное медицинским факультетом Парижского университета в докладе, подготовленном в 1348 году по приказу короля Филиппа VI. 20 марта 1345 года в час дня произошло соединение Юпитера, Сатурна и Марса в доме Водолея. Соединение Сатурна и Юпитера, по уверениям астрологов, является причиной катастрофы и смерти, тогда как из-за соединения Марса и Юпитера чума распространилась в воздухе (Юпитер, будучи теплым и влажным, поднял ядовитые испарения с земли и воды, которые сухой и горячий Марс превратил в тлетворный огонь). Очевидно, соединение этих трех планет могло означать не что иное, как эпидемию всемирного масштаба.
Теория о том, что движение планет было той силой, которая привела в действие Черную смерть, никогда не оспаривалась открыто, если не считать Конрада Мегенбергского, утверждавшего, что ни одно соединение планет не длится больше двух лет, и, следовательно, поскольку эпидемия чумы продлилась дольше, для этого наверняка имелась другая причина. Кроме того, он указывал, что все движения небесных тел подчинены строгому порядку, в то время как чума явно действовала случайным образом. Однако у небольшого числа других пишущих можно заметить определенный скепсис или, выражаясь более точно, безразличие к отдаленным причинам, не поддающимся доказательству и находящимся за пределами способности человека повлиять на них. Джентиле да Фолиньо[35] упоминает планеты в общих чертах, а затем продолжает: «Нужно верить, что, чем бы ни были вызваны вышеуказанные случаи в целом, частной и непосредственной причиной является заразный материал, образующийся в сердце и легких». Работа врача, заключает он, не в том, чтобы беспокоиться о небесах, а в том, чтобы сконцентрироваться на симптомах больных и делать все возможное, чтобы вылечить их.
Такое замечательное здравомыслие было исключением. Перед лицом Черной смерти европейца, как правило, охватывало чувство неминуемой гибели. Если чума являлась делом рук Господа или следствием неотвратимого движения планет, как мог слабый человек противиться ей? Проповедник мог давать надежду, но только при условии, что сначала человек должен смыть свои грехи безмерным страданием. Доктор мог прописать лекарство, но без особого энтузиазма, как специалист по гражданской обороне, советующий тем, кому неотвратимо угрожает ядерное нападение, сесть на корточки и сцепить руки на шее. Черная смерть сошла на людей, которых теологическое и научное знание подготовило к тому, чтобы отреагировать на эпидемию апатией и покорностью фаталиста. Трудно было бы обеспечить чуме более перспективный материал для уничтожения.
Глава 3
Италия
Черная смерть пришла на Сицилию в начале октября 1347 года, за три месяца до того, как она достигла континента. Согласно францисканскому монаху Микелю ди Пьяцца, писавшему свою историю лет через десять после этого, болезнь привезли в Мессину двенадцать генуэзских галер. Откуда они пришли, неизвестно. Возможно, тоже из Крыма, хотя должны были покинуть его за несколько месяцев до тех галер, которые привезли Черную смерть из Каффы в Геную и Венецию. Неизвестно также, кто был переносчиком болезни: крысы и блохи или она уже распространилась среди членов команды. Описание хроникера – «болезнь, въевшаяся в самую их плоть» – предполагает последнее.
За несколько дней чума основательно захватила город. Горожане набросились на моряков, которые привезли им страшный груз, и выгнали их из порта, но сделали это слишком поздно, чтобы спастись самим. После ухода моряков чума расползлась по Средиземноморью, но от этого страдания жителей Мессины не стали легче. Каждый день умирали сотни жертв, и малейший контакт с больным казался гарантией быстрого заражения. Население охватила паника. Немногочисленные чиновники, которые могли бы предпринять хоть какие-то меры для снижения опасности, сами оказались в числе первых жертв. В поисках изоляции и безопасности жители Мессины бежали из своего обреченного города в поля и виноградники Южной Сицилии и только разносили чуму по сельской местности.
Когда первые жертвы добрались до соседнего города, Катаньи, с ними обошлись по-доброму и поместили в госпиталь. Но как только жители Катаньи осознали природу и масштаб катастрофы, то решили, что, принимая беженцев, обрекают себя на ту же участь. Был введен строгий контроль на въезде в город и принят указ, что любые жертвы чумы из тех, которые уже прибыли, а затем умерли, должны быть похоронены в ямах за пределами городских стен. «Жители Катаньи были такими безнравственными и трусливыми, – писал Микель ди Пьяцца, – что отказывались даже говорить с людьми из Мессины или иметь с ними какое-либо дело и при их приближении сразу убегали». То, что было безнравственным в глазах обреченных людей из Мессины, наверняка казалось элементарной предусмотрительностью подвергавшимся опасности горожанам Катаньи. Такое же поведение повторялось повсеместно в других местах Европы, но оно редко помогало тем, кто хотел спасти себя, отгородившись от соседей. Черная смерть уже пробила брешь в стенах Катаньи, и ничто не могло остановить ее вспышки среди горожан.
Тогда жители Мессины воззвали к архиепископу Катаньи, чтобы он позволил им взять мощи святой Агаты и отвезти их в Мессину. Патриарх не возражал, но горожане, не без основания полагая, что своя рубашка ближе к телу и что святой Агате следует остаться на своем посту в их собственном кафедральном соборе, стали протестовать. «Они выкрали ключи из реликвария и стали сурово выговаривать патриарху, что скорее умрут, чем допустят, чтобы мощи забрали в Мессину». Патриарх, который, по-видимому, был человеком исключительного мужества, согласился с решением толпы, но настоял, чтобы некоторую часть мощей опустили в воду, после чего он сам отвезет эту воду в Мессину.
В рассказе Микеля ди Пьяцца читаем:
«Вышеупомянутый патриарх ступил на землю Мессины, неся при себе эту святую воду… а в том городе появились демоны в облике собак, наносившие тяжелый вред телам горожан, так что людей охватил ужас и они не смели выходить из своих домов. И все же по общему соглашению и по желанию патриарха они решились совершить благочестивый обход города с пением литаний. Когда все население таким образом проходило по улицам, среди людей появился черный пес, державший в лапах обнаженный меч. Скрежеща зубами, он бросился на них, ломая все серебряные сосуды, и светильники, и подсвечники в алтарях, и разбрасывая туда-сюда… И люди из Мессины, испуганные этим чудовищным видением, все были охвачены страхом…»
Это описание представляет собой любопытную смесь трезвого свидетельства и сверхъестественной фантазии, характерную для многих подобных хроник. Насколько ему можно верить? Насколько ему верил сам Микель ди Пьяцца? Бешенство было эндемичным заболеванием на Сицилии, и, поскольку ни у кого не было времени или сил, чтобы заниматься бешеными собаками, неудивительно, что они в большом количестве могли бегать по улицам. В ситуации панического страха сицилийцев нельзя винить, что в повышенной активности бешеных животных они видели некое сверхъестественное влияние. Но правда ли хронист или какие-то другие надежные свидетели верили, что действительно видели черного пса с обнаженным мечом в лапах? Или это заявление не более чем символическое выражение веры хрониста в демоническую одержимость собаки? Скорее всего, сам Микель ди Пьяцца не знал ответа. Средневековый человек скользил по тонкому льду подтвержденных знаний, а под ним лежали неизведанные и пугающие глубины невежества и суеверий. Стоило льду треснуть, и вместе с ним терялись всякое понимание реальности и всякая способность к объективному логическому анализу.
Разочаровавшись в мощах святой Агаты, жители Мессины разулись и, организовав процессию, двинулись босиком к святому месту, находившемуся в шести милях от города, где было найдено изображение Пресвятой Девы, наделенное, по слухам, исключительной силой. Но их снова ждало разочарование, и в этом разочаровании Микель ди Пьяцца видел доказательство, что чума – это Божье возмездие его заблудшему народу.
«Эта вышеупомянутая Богоматерь, когда приблизилась к городу и увидела его, посчитала его таким отвратительным, так сильно запятнанным кровью и грехом, что повернулась к нему спиной, не только не желая войти внутрь, но гнушаясь даже самим видом его. По коей причине земля разверзлась, и лошадь, на которой везли изображение Богоматери, замерла, как вкопанная».
В конце концов животное уговорами и угрозами заставили войти в город, и Богоматерь поместили в церкви Санта Мария ла Нуова – самой большой церкви в городе. Но это никак не помогло несчастным мессинцам. «То, что привезли образ, ничего не дало; напротив, чума достигла такой силы, что один человек не мог даже помочь другому, и большая часть горожан ушла из города, и они рассеялись по другим местам».
После возвращения из Мессины доблестный патриарх пал жертвой болезни, с которой так мужественно сражался. Его похоронили в кафедральном соборе Катаньи. Своим поведением и своей смертью он стал примером для подражания, с которым, однако, могли сравняться лишь немногие из его коллег.
Чума быстро распространилась по Сицилии, с особой яростью опустошая города и деревни в западной части острова. Но в этих тесных границах она задержалась ненадолго. Как заметил профессор Ренуар[36], «Сицилия выполнила свою природную миссию центра средиземноморского мира». Оттуда Черная смерть, вероятно, распространилась через Тунис на Северную Африку и определенно на Корсику и Сардинию, на Балеарские острова, Альмерию, Валенсию и Барселону на Иберийском полуострове и на Южную Италию. Самое удивительное в том, насколько близко во время этой, как и всех других эпидемий, бубонной чумы она следовала основным торговым путям. В основном это, конечно, является знаком той роли, которую в распространении чумы играла крыса. Но независимо от того, кто был переносчиком Черной смерти – крыса, блоха или зараженный моряк, самым надежным и быстрым средством транспортировки являлся корабль. В то же время Черная смерть выделяется среди других эпидемий чумы особенно большим числом случаев легочной формы, и это означает, что удар, нанесенный ею внутри континента, был необычайно сильным. Но хотя она смогла добраться во внутренние районы, ее первой целью стали города на побережье. Она пришла из Крыма в Москву не по суше, а через Италию, Францию, Англию и ганзейские порты.
Тремя главными центрами распространения чумы в Южной Европе стали Сицилия, Генуя и Венеция. Похоже, в последние два порта она пришла более или менее одновременно где-то в январе 1348 года. А на несколько недель позже нападению подверглась Пиза, которая стала главной точкой ее проникновения в Центральную и Северную Италию. Оттуда она быстро двинулась вглубь, в Рим и Тоскану. Так она начала свой поход, который закончила не раньше, чем вся Европа была окутана смертью.
Для Италии годы, предшествовавшие эпидемии, были временем катастроф менее драматичных и нанесших куда меньший урон, чем те, которые захлестнули несчастных китайцев. Наивысшей точки бедствия достигли незадолго до прихода чумы. Землетрясения вызвали серьезные разрушения в Неаполе, Риме, Пизе, Болонье, Падуе и Венеции. Вино в бочках сделалось мутным – заявление, которое, как с надеждой заметил немецкий историк XIX века Хекер, «можно рассматривать как доказательство, что изменения, вызвавшие разложение атмосферы, действительно имели место». Начавшиеся с июля 1345 года дожди, которые шли почти непрерывно в течение шести месяцев, сделали сев во многих местах невозможным. Следующей весной ситуация практически не улучшилась. Урожай кукурузы составил менее четверти от обычного, и почти вся домашняя птица пошла под нож из-за нехватки кормов. Даже самые богатые государства и города с трудом могли восполнить эти потери за счет импорта. «В 1346 и 1347 годах ощущалась острая нехватка основных продуктов питания… до такой степени, что многие люди ели траву и сорняки, будто это пшеница». Около Орвието наводнения разрушили мосты, а ущерб, причиненный коммуникациям по всей Италии, еще больше усложнил попытки накормить голодающих.
Цены неизбежно росли. За шесть месяцев, к маю 1347 года, цена пшеницы удвоилась, и для бедных даже отруби стали слишком дороги. В апреле 1347 года 94 000 жителям Флоренции выдавалась ежедневная порция хлеба; власти приостановили взимание мелких долгов и распахнули ворота тюрем для всех, кроме самых опасных преступников. Считается, во Флоренции 4000 человек умерли либо от недоедания, либо от болезней, которые, если бы не плохое питание, определенно не были бы смертельными. И это притом, что из всех городов Италии Флоренция, с ее богатством, сильной и передовой системой управления и сравнительно высоким уровнем образования и гигиены, была лучше всего подготовлена справляться с проблемами голода и болезней.
Финансовые трудности во Флоренции и Сиене, которые усугубила – но не создала – проблема в сельском хозяйстве, ухудшили ситуацию еще больше. В 1343 году крупный финансовый дом Перуцци был объявлен банкротом, в 1345-м за ним последовали Аццайоли и Барди. К 1346 году только одни флорентийские банкирские дома потеряли 1,7 миллиона флоринов и практически каждый банк и купеческая компания испытывали трудности. Это была беспрецедентная экономическая катастрофа. Даже если бы зерно имелось в достатке, города Тосканы едва ли смогли бы найти деньги, чтобы купить его.
Последним и, возможно, самым опасным элементом этой мрачной картины был политический разброд, почти непременный спутник Италии XIV века. Как сказал профессор Каггесе[37], там не было «событий всемирной важности», только многочисленные «локальные драмы». Эти драмы превратили Италию в кровоточащий клубок яростных и, как казалось, бесконечных распрей. Гвельфы боролись с гибеллинами, Орсини – с Колонна, Генуя – с Венецией, Висконти со всеми, а немецкие мародеры охотились за тем, что осталось. Рим был деморализован после исчезновения папы, плененного в Авиньоне, и потрясен восстанием Риенцо. Флоренция только что пережила восстание Брандини.
Неаполь пребывал в смятении из-за похода Людовика Венгерского, явившегося мстить королеве Иоанне за смерть своего брата.
Для знати и вояк это было, по меньшей мере, развлечением с ореолом романтики и шансом захватить добычу. Для простых людей в этом не было ничего, кроме отчаянного страха и катастрофической неуверенности, что может принести будущее. То, что было спорным для Европы в целом, для Италии стало истинной правдой. Физически люди были не в состоянии противиться внезапной свирепой эпидемии, а психологически приготовились безропотно и смиренно ждать катастрофы. У них не осталось воли, чтобы бороться. Кто-то мог даже подумать, что они рады, что всем их проблемам пришел конец. Однако говорить о коллективной жажде смерти означало бы перейти в мир метафизики. Хотя если где-то и были люди, имевшие право отчаяться, то это были итальянские крестьяне середины XIV века.
«О, счастливые потомки, – писал Петрарка о Черной смерти во Флоренции, – которым не придется пережить такое ужасное бедствие и которые будут смотреть на наше свидетельство как на предание». С Флоренцией Черная смерть ассоциируется больше, чем с любым другим городом. Эта связь настолько сильна, что в рассказах современников и даже в более поздних историях ее иногда называли «Флорентийская чума». Отчасти это происходило потому, что в тот период Флоренция была одним из крупнейших городов Европы и определенно первым из них, в полную силу ощутившим на себе эпидемию, отчасти потому, что там чума бушевала с исключительной силой, гораздо сильнее, чем в Риме, Париже или Милане, и, как минимум, с такой же силой, как в Лондоне или Вене. Но больше всего Флоренция заслужила свою известность тем, в какой форме были описаны ее страдания. В своем введении к «Декамерону» Боккаччо написал то, что, несомненно и заслуженно, стало самым известным рассказом о Черной смерти и, вероятно, самым знаменитым рассказом очевидца о чуме, независимо от эпохи. В этой книге уже появлялись несколько предложений из этого рассказа, но никакой рассказ о Черной смерти не был полным, если не процитировать его более объемно.
Боккаччо писал, что во Флоренции «не помогали против нее ни мудрость, ни предусмотрительность человека, в силу которых город был очищен от нечистот людьми, нарочно для того назначенными, запрещено ввозить больных, издано множество наставлений о сохранении здоровья. Не помогали и умиленные моления, не однажды повторявшиеся, устроенные благочестивыми людьми, в процессиях или другим способом. Приблизительно к началу весны означенного года болезнь начала проявлять свое плачевное действие страшным и чудным образом. <…> Казалось, против этих болезней не помогали и не приносили пользы ни совет врача, ни сила какого бы то ни было лекарства: таково ли было свойство болезни, или невежество врачующих (которых, за вычетом ученых медиков, явилось множество, мужчин и женщин, не имевших никакого понятия о медицине) не открыло ее причин, а потому не находило подобающих средств… почти все умирали… большинство без лихорадочных или других явлений…
Такие происшествия и многие другие, подобные им и более ужасные, порождали разные страхи и фантазии в тех, которые, оставшись в живых, почти все стремились к одной, жестокой цели: избегать больных и удаляться от общения с ними и их вещами; так поступая, воображали сохранить себе здоровье. Некоторые полагали, что умеренная жизнь и воздержание от всех излишеств сильно помогают борьбе со злом; собравшись кружками, они жили, отделившись от других, укрываясь и запираясь в домах, где не было больных и им самим было удобнее; употребляя с большой умеренностью изысканнейшую пищу и лучшие вина, избегая всякого излишества, не дозволяя кому бы то ни было говорить с собой и не желая знать вестей извне – о смерти или больных, – они проводили время среди музыки и удовольствий, какие только могли себе доставить. Другие, увлеченные противоположным мнением, утверждали, что много пить и наслаждаться, бродить с песнями и шутками, удовлетворять, по возможности, всякому желанию, смеяться и издеваться над всем, что приключается, – вот вернейшее лекарство против недуга. И как говорили, так, по мере сил, приводили и в исполнение, днем и ночью странствуя из одной таверны в другую, выпивая без удержу и меры, чаще всего устраивая это в чужих домах, лишь бы прослышали, что там есть нечто им по вкусу и в удовольствие. Делать это было им легко, ибо все предоставили и себя, и свое имущество на произвол, точно им больше не жить; оттого большая часть домов стала общим достоянием, и посторонний человек, если вступал в них, пользовался ими так же, как пользовался бы хозяин. И эти люди, при их скотских стремлениях, всегда, по возможности, избегали больных. При таком удрученном и бедственном состоянии нашего города почтенный авторитет как божеских, так и человеческих законов почти упал и исчез, потому что их служители и исполнители, как и другие, либо умерли, либо хворали, либо у них осталось так мало служилого люда, что они не могли отправлять никакой обязанности; почему всякому позволено было делать все, что заблагорассудится.
Многие иные держались среднего пути между двумя, указанными выше: не ограничивая себя в пище, как первые, не выходя из границ в питье и других излишествах, как вторые, они пользовались всем этим в меру и согласно потребностям, не запирались, а гуляли, держа в руках кто цветы, кто пахучие травы, кто какое другое душистое вещество, которое часто обоняли, полагая полезным освежать мозг такими ароматами, – ибо воздух казался зараженным и зловонным от запаха трупов, больных и лекарств. Иные были более сурового, хотя, быть может, более верного мнения, говоря, что против зараз нет лучшего средства, как бегство перед ними. Руководясь этим убеждением, не заботясь ни о чем, кроме себя, множество мужчин и женщин покинули родной город, свои дома и жилья, родственников и имущества и направились за город, в чужие или свои поместья, как будто гнев Божий, каравший неправедных людей этой чумой, не взыщет их, где бы они ни были, а намеренно обрушится на оставшихся в стенах города, точно они полагали, что никому не остаться там в живых и настал его последний час. Не станем говорить о том, что один горожанин избегал другого, что сосед почти не заботился о соседе, родственники посещали друг друга редко, или никогда, или виделись издали: бедствие воспитало в сердцах мужчин и женщин такой ужас, что брат покидал брата, дядя племянника, сестра брата и нередко жена мужа; более того и невероятнее: отцы и матери избегали навещать своих детей и ходить за ними, как будто то были не их дети. По этой причине мужчинам и женщинам, которые заболевали, а их количества не исчислить, не оставалось другой помощи, кроме милосердия друзей (таковых было немного), или корыстолюбия слуг, привлеченных большим, не по мере жалованьем; да и тех становилось не много, и были то мужчины и женщины грубого нрава, не привычные к такого рода уходу, ничего другого не умевшие делать, как подавать больным, что требовалось, да присмотреть, когда они кончались; отбывая такую службу, они часто вместе с заработком теряли и жизнь. Из того, что больные бывали покинуты соседями, родными и друзьями, а слуг было мало, развилась привычка, дотоле неслыханная, что дамы красивые, родовитые, заболевая, не стеснялись услугами мужчины, каков бы он ни был, молодой или нет, без стыда обнажая перед ним всякую часть тела, как бы то сделали при женщине, лишь бы того потребовала болезнь, – что, быть может, стало впоследствии причиной меньшего целомудрия в тех из них, которые исцелялись от недуга. <…> Было в обычае (как то видим и теперь), что родственницы и соседки собирались в дому покойника и здесь плакали вместе с теми, которые были ему особенно близки; с другой стороны, у дома покойника сходились его родственники, соседи и многие другие горожане и духовенство, смотря по состоянию усопшего, и сверстники несли его тело на своих плечах, в погребальном шествии со свечами и пением, в церковь, избранную им еще при жизни. Когда сила чумы стала расти, все это было заброшено совсем или по большей части, а на место прежних явились новые порядки. Не только умирали без сходбища многих жен, но много было и таких, которые кончались без свидетелей, и лишь очень немногим доставались в удел умильные сетования и горькие слезы родных; вместо того, наоборот, в ходу были смех и шутки и общее веселье: обычай, отлично усвоенный, в видах здоровья, женщинами, отложившими большею частью свойственное им чувство сострадания. Мало было таких, тело которых провожали бы до церкви более десяти или двенадцати соседей; и то не почтенные, уважаемые граждане, а род могильщиков из простонародья, называвших себя „беккинами“ и получавших плату за свои услуги: они являлись при гробе и несли его торопливо и не в ту церковь, которую усопший выбрал до смерти, а чаще в ближайшую, несли при немногих свечах или и вовсе без них, за четырьмя или шестью клириками, которые, не беспокоя себя слишком долгой или торжественной службой, с помощью указанных беккинов клали тело в первую попавшуюся незанятую могилу. <…> Многие кончались днем или ночью на улице; иные, хотя и умирали в домах, давали о том знать соседям не иначе как запахом своих разлагавшихся тел.
И теми и другими умиравшими повсюду все было полно.
Соседи, движимые столько же боязнью заражения от трупов, сколько и состраданием к умершим, поступали большею частью на один лад: сами либо с помощью носильщиков, когда их можно было достать, вытаскивали из домов тела умерших и клали у дверей, где всякий, кто прошелся бы, особливо утром, увидел бы их без числа; затем распоряжались доставлением носилок, но были и такие, которые за недостатком в них клали тела на доски. Часто на одних и тех же носилках их было два или три, но случалось не однажды, а таких случаев можно бы насчитать множество, что на одних носилках лежали жена и муж, два или три брата либо отец и сын и т. д. Бывало также не раз, что за двумя священниками, шествовавшими с крестом перед покойником, увяжутся двое или трое носилок с их носильщиками следом за первыми, так что священникам, думавшим хоронить одного, приходилось хоронить шесть или восемь покойников, а иногда и более. При этом им не оказывали почета ни слезами, ни свечой, ни сопутствием, наоборот, дело дошло до того, что об умерших людях думали столько же, сколько теперь об околевшей козе. <…> Так как для большого количества тел, которые, как сказано, каждый день и почти каждый час свозились к каждой церкви, не хватало освященной для погребения земли, особливо если бы по старому обычаю всякому захотели отводить особое место, то на кладбищах при церквах, где все было переполнено, вырывали громадные ямы, куда сотнями клали приносимые трупы, нагромождая их рядами, как товар на корабле, и слегка засыпая землей, пока не доходили до краев могилы.
Не передавая далее во всех подробностях бедствия, приключившиеся в городе, скажу, что, если для него година была тяжелая, она ни в чем не пощадила и пригородной области. Если оставить в стороне замки (тот же город в уменьшенном виде), то в разбросанных поместьях и на полях жалкие и бедные крестьяне и их семьи умирали без помощи медика и ухода прислуги по дорогам, на пашне и в домах, днем и ночью безразлично, не как люди, а как животные. Вследствие этого и у них, как у горожан, нравы разнуздались, и они перестали заботиться о своем достоянии и делах; наоборот, будто каждый наступивший день они чаяли смерти, они старались не уготовлять себе будущие плоды от скота и земель и своих собственных трудов, а уничтожать всяким способом то, что уже было добыто. Оттого ослы, овцы и козы, свиньи и куры, даже преданнейшие человеку собаки, изгнанные из жилья, плутали без запрета по полям, на которых хлеб был заброшен, не только что не убран, но и не сжат. <…>
Но оставляя пригородную область и снова обращаясь к городу, можно ли сказать что-либо больше того, что по суровости неба, а быть может, и по людскому жестокосердию между мартом и июлем – частью от силы чумного недуга, частью потому, что вследствие страха, обуявшего здоровых, уход за больными был дурной и их нужды не удовлетворялись, – в стенах города Флоренции умерло, как полагают, около ста тысяч человек, тогда как до этой смертности, вероятно, и не предполагали, что в городе было столько жителей. Сколько больших дворцов, прекрасных домов и роскошных помещений, когда-то полных челяди, господ и дам, опустели до последнего служителя включительно! Сколько именитых родов, богатых наследий и славных состояний осталось без законного наследника! Сколько крепких мужчин, красивых женщин, прекрасных юношей, которых, не то что кто-либо другой, но Гален, Гиппократ и Эскулап признали бы вполне здоровыми, утром обедали с родными, товарищами и друзьями, а на следующий вечер ужинали со своими предками на том свете!»[38]
Боккаччо использовал это описание как преамбулу к своему «Декамерону», как суровый фон, на котором ему предстояло создать чудо света и живой фантазии. Будет весьма разумно подумать, не представил ли он картину Черной смерти в более мрачных тонах, чем на самом деле, с целью сделать этот контраст более драматичным. Он, безусловно, не беспокоился, чтобы показать более светлую сторону происходящего: бескорыстную самоотверженность некоторых монахинь и докторов, старания городских властей поддерживать определенный порядок и управляемость. Верно и то, что немногие города пострадали так, как Флоренция. Но в описании Боккаччо настолько много подробностей, которые можно найти у современных ему хронистов Франции и Германии, что в целом невозможно сомневаться в его правдивости.
Стремительное бегство из городов, брошенные владения, покинутые по всему свету дома, которые даже не потрудились запереть, безжалостное отношение к больным, оставленным встречать свой смертный час в одиночестве, отвратительные торопливые похороны в огромных общих ямах, урожай, пропадающий на полях, и скот, бродящий без присмотра по сельской местности, – подобные детали характерны для всех хронистов. В некоторых вопросах даже кажется, что Боккаччо недооценивает ужас происходящего. Так другие свидетельства уделяют больше внимания зловещей роли becchini[39] – озверевших монстров, чья жизнь висела на волоске; они врывались в дома живых и вытаскивали их на улицу, угрожая отправить на тот свет, если мужчины не выкупят свою безопасность кругленькой суммой, а женщины – своим целомудрием.
Следовательно, рассказ Боккаччо с его красочными подробностями следует считать точным и правдивым. Однако нельзя сказать того же о приведенной им статистике. По его оценке, в городе умерло около 100 000 человек, и это явное преувеличение. К 1345 году население Флоренции уже перевалило за свой пик, которого достигло пятьдесят лет тому назад, и начало снижаться. Количество хлебных карточек, выпущенных в апреле 1347 года, позволяет предположить, что население составляло более 90 000 человек, а по самым авторитетным современным оценкам, его численность находилась в диапазоне 85 000—95 000 с некоторым уклоном в большую сторону. Даже с учетом, что Флоренция была уникальна, совершенно невозможно, чтобы за шесть месяцев эпидемии умерло больше двух третей ее населения, и маловероятно, чтобы эта цифра была существенно больше половины. В городах со значительно меньшим числом жителей, но во многом сравнимых с Флоренцией, таких как Сан-Джиминьяно, Сиена и Орвието, анализ имеющихся данных дает процент умерших, равный 58 % в первом и 50 % (или чуть более) в двух других. Мы не сильно ошибемся, если предположим, что от Черной смерти умерло от 45 000 до 60 000 флорентинцев.


