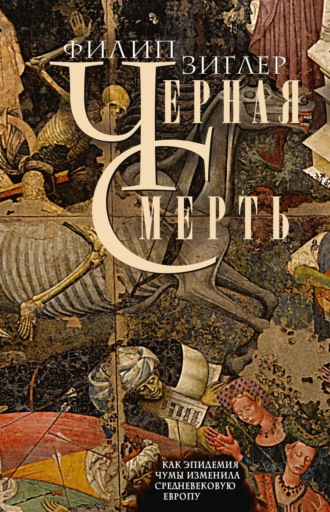
Филип Зиглер
Черная смерть. Как эпидемия чумы изменила средневековую Европу
Обладая огромным превосходством поколения, которое изобрело более эффективные способы массового уничтожения, чем те, которые природа применяла к нашим предкам, легко и заманчиво посмеяться над их неспособностью понять обрушившееся на них бедствие. Но, может, лучше удивиться мужеству и мудрости людей, подобных Ги де Шолиаку, которые, видя, что страшная необъяснимая болезнь обрекла их цивилизацию на гибель, тем не менее могли с научной объективностью наблюдать за ее развитием, строить рациональные заключения о ее характере и вероятных последствиях и делать все возможное, чтобы обуздать ее. Кроме того, нелишне вспомнить, что только в XIX веке мы узнали достаточно, чтобы определять источники и ход развития подобных эпидемий, и что даже сейчас необходимы быстрые и дорогостоящие меры, чтобы останавливать их до того, как они успеют причинить огромный вред. Искушенный и обладающий огромными знаниями доктор Крейтон[17] пришел к окончательному выводу, что источником Черной смерти являлись груды трупов, оставленных без погребения в ходе катастроф, которые одна за другой случались в Китае. Он назвал отравление трупным ядом причиной высокой смертности среди священников и монахов. Священники имели тенденцию жить вблизи деревенского кладбища, а между тем «в монастырских стенах были захоронены не только поколения монахов, но часто тела принцев, знати из окрестных мест и множества священников».
Теперь мы вежливо улыбаемся ошибкам доктора Крейтона, но было бы разумно спросить: не покажутся ли такими же смешными сегодняшние теории много позже? В целом, это маловероятно. Несомненно, будут сделаны новые открытия, прояснятся темные места, концепции дополнятся или уточнятся. Но техники научных исследований уже достаточно далеко продвинулись, чтобы достоверно определить основные элементы Черной смерти и авторитетно объяснить цикл ее протекания.
Уже многие годы общепринятым фактом является то, что Черная смерть в своей первоначальной форме была бубонной чумой. Бубонная чума эндемична для некоторых отдаленных территорий мира. Среди тех, которые можно назвать с разумной уверенностью, – Уганда, Западная Аравия, Курдистан, Северная Индия и пустыня Гоби. Время от времени она возникает там в виде небольших локальных эпидемий. Гораздо реже преодолевает границы этих районов и вырывается оттуда в виде одной из крупных пандемий. В отличие от гриппа бубонная чума в таких случаях двигается медленно, и проходит десять, а то и больше лет, прежде чем она пройдет по миру. Но когда она приходит, то приходит, чтобы остаться. За первым ударом с высокой смертностью следует длительный период, в течение которого она является эндемичной. В этот период эпизодически возникают эпидемии, которые постепенно затухают как по частоте, так и по силе. В конце концов, возможно, через несколько сот лет после первоначальной вспышки чума исчезнет.
Существуют письменные свидетельства о трех таких эпидемиях. Первая, начавшаяся в Аравии, достигла Египта в 542 году. Она поразила и, возможно даже, фатально ослабила Византийскую империю Юстиниана и через Европу пришла в Англию, где стала известна как Чума времен Кадваладера, и в Ирландию, которую опустошила в 664 году. Второй пандемией была Черная смерть. Одной из ее последующих вспышек явилась Великая лондонская чума 1665 года, после чего она, видимо, затухла в течение XVII века. Последней была пандемия, которая началась в 1892 году в провинции Юньнань и в 1896-м дошла до Бомбея. Считается, только в одной Индии она убила около 6 000 000 человек. В 1910 году она сделала краткую и, к счастью, безуспешную вылазку в Саффолк, поразив лишь горстку людей. Потом она дала о себе знать на Азорских островах и в некоторых частях Южной Америки. Но во многих частях света ей еще предстоит проявить себя.
Несмотря на то что на основании имеющихся уже свидетельств невозможно однозначно назвать источники средневековой пандемии, исследования русского археолога Хвольсона вблизи озера Иссык-Куль в районе Семиреченска в Центральной Азии показали, что в этих местах в 1338 и 1339 годах имел место необычайно высокий уровень смертности. Несторианские мемориальные камни приписывают эти смерти чуме. С учетом более позднего распространения этой болезни и того факта, что эта область расположена в сердце одной из зон, где бубонная чума является эндемичной, доктор Поллитцер[18] – вероятно, ведущий авторитет в этом вопросе – пришел к заключению, что почти наверняка это и есть колыбель Черной смерти. Оттуда она распространилась на восток в Китай, на юг в Индию и на запад, где примерно через восемь лет достигла Крыма.
В этой далекой твердыне с незапамятных времен сохранялись бациллы Pasteurella pestis[19], выживавшие в крови животных или в желудках блох. Но в приоритете оказались Xenopsylla cheopsis[20], обычно называемые X. cheopsis – насекомые, которые в качестве идеального для себя места обитания выбрали шерсть какого-нибудь грызуна. Можно только догадываться, какой грызун чаще всего встречался вблизи озера Иссык-Куль в 1338 году, но более поздние эпидемии указывают на тарбагана или маньчжурского сурка, симпатичного зверька, похожего на белку, на которого охотятся ради его шкурки, а также тушканчик и суслик, как и, безусловно, крыса, хотя последняя играла главную роль, только когда болезнь перемещалась с места на место.
Чтобы потревожить спокойное и по большей части безобидное существование Pasteurella pestis, должно было случиться нечто, заставившее грызунов покинуть свои дома.
Вместе с ними неизбежно пустились в путь и блохи, а внутри блох – груз смертельно опасных паразитов. Мы, скорее всего, никогда не узнаем, что именно стало причиной данной миграции грызунов. Сохранившиеся свидетельства позволяют предположить, что это были наводнения, но в других случаях стимулом являлась длительная засуха или просто чрезмерный рост популяции грызунов, из-за которого возникала нехватка доступного корма. При таких обстоятельствах имела место массовая миграция, и прежде всего в путь пускалась Rattus rattus – крепкая проворная черная крыса, по природе своей склонная к бродяжничеству.
Не отрицая важности крысы как переносчика чумы, профессор Джордж предположил, что ее роль, за исключением первых стадий эпидемии, не была существенной и что небольшое количество упоминаний о ней в рассказах современников о Черной смерти указывает, что заражение в основном определялось другими способами транспортировки. Он считал, что блоха Pulex irritans, нападающая прежде всего на человека, прекрасно могла переносить чуму от одного к другому без участия зараженной крысы. С медицинской точки зрения это сомнительно. Как дополнительный фактор исключать Pulex irritans нельзя, но ее способность выпивать достаточное количество бацилл чумы у одного человека, чтобы перенести смертельную дозу другому, считается весьма сомнительной. Офицер Макартур[21] писал, что в кровяных культурах, полученных из тел умерших от бубонной чумы, он обнаружил «так мало бацилл, что теоретически человек мог накормить 20 000 блох и даже в таком случае никого не заразить».
Определенно нет сомнений, что быстрому распространению бубонной чумы в огромной степени способствовало присутствие зараженных крыс. Вероятно, первоначально крысы были завезены на кораблях, возвращавших домой участников крестовых походов, и к середине XIV века они наводнили Европу. Их роль была малозаметной, и, поскольку у современников не было никакой определенной причины сообщать об их наличии, их отсутствие в хрониках не дает повода сомневаться в их существовании. Мертвые крысы, без сомнения, засоряли улицы и дома, но это едва ли казалось достойным внимания во времена, когда даже тела мертвых людей не считались чем-то особенным.
Но хотя крыса очень способствовала распространению бубонной чумы, профессор Джордж прав, возражая, что это не главное. Комиссия по изучению чумы, созданная в 1910 году, сообщала, что «перемещение зараженных крыс и блох с товарами, или, в случае блох, на теле человека необходимо учитывать». Но выражение «нет крыс на корабле – нет чумы», очевидно, не верно, и доктор Хёрст[22] это доказал. В идеальных условиях X. cheopsis может прожить без своего хозяина в течение месяца. Путешествуя с грузом зерна или в рулоне ткани, она могла с легкостью преодолевать сотни миль. Есть подтвержденный случай, когда блоха прожила в крысиной норе без еды шесть месяцев. Таким образом, отсутствие крыс вовсе не гарантия, что бубонная чума не сможет нанести нападение.
Известные на сегодняшний день симптомы бубонной чумы полностью совпадают с теми, которые описывали средневековые хронисты. «Распухшие и воспаленные лимфатические узлы», известные как бубоны, являются классическим признаком. Иногда они достигают размеров миндаля, иногда апельсина и обычно располагаются в паху, но могут также появляться под мышками, а иногда на шее. Столь же хорошо известными являются округлые пятна или синяки, вызванные подкожными кровоизлияниями, и поражение нервной системы: «В Провансе один человек забрался на крышу и стал бросать куски черепицы на улицу. Другой исполнил на крыше безумный гротескный танец…» Хотя современная медицина предполагает, что если в течение недели бубон лопается, жертва, скорее всего, выживет, немногие средневековые доктора могли предположить, что их пациент выдержит больше четырех-пяти дней страшной боли, сопровождавшей нарыв. Однако иные случаи, которые наблюдал Боккаччо или Симон де Ковино, можно было обнаружить в полдюжине очагов чумы.
Несмотря на то что бубонная чума была первой и самой заметной формой, которую приняла Черная смерть, вариант, известный как первичная легочная чума, оказался более смертоносным. Во время эпидемий XIX века, когда методы лечения на удивление мало превосходили те, которые применялись в Средние века, от 60 до 90 % тех, кто заразился бубонной чумой, могли ожидать, что умрут. Если случалась легочная чума, случаи выздоровления практически неизвестны. Чтобы убить бубонную чуму, как правило, нужно от четырех дней до недели. Во время маньчжурской эпидемии 1921 года срок жизни жертв легочной чумы составлял 1–8 дней. Бубонная чума является одной из наименее заразных форм заболевания во время эпидемии. Дыхание остается незатронутым, и пациент обычно умирает или выздоравливает раньше, чем в его крови успевает скопиться достаточно большое количество бацилл, чтобы она стала источником заразного материала для блохи. Легочная чума, пожалуй, самая заразная; она атакует легкие, так что начинается кровохарканье, и бациллы чумы распыляются в воздухе при каждом вздохе пациента.
Херст заметил, что, если бы не было известно, что они имеют общий источник и связаны между собой промежуточными формами, легочная чума и неосложненная бубонная чума могли бы показаться разными болезнями. Связь между этими двумя формами обнаруживалась в тех случаях, когда у жертв бубонной чумы развивалась еще и пневмония. Этот тандем, хотя и представлял чрезвычайную опасность для жертвы, обычно не был заразен. Тем не менее в определенных случаях он мог становиться таковым. Самый главный вопрос Черной смерти, как и любой другой эпидемии чумы, заключался в том, какие факторы этому способствуют, что провоцирует эпидемию легочного варианта болезни.
«Что отличало чуму XIV века от более поздних случаев, так это то, что во время своего достаточно медленного распространения по Европе она, по-видимому, плавно менялась со сменой времени года с легочной на бубонную». Едва ли можно винить средневекового доктора в том, что он считал этот процесс необъяснимым. Но даже если бы он его понял, то едва ли смог бы разобраться в нем до конца. Потому что по-прежнему оставались необъясненными те случаи, когда человек умирал в течение нескольких часов или, отправившись в постель в полном здравии, утром уже не просыпался.
По-видимому, не приходится сомневаться, что здесь работал третий вариант Черной смерти – септическая чума. Ее носителями, как и бубонной чумы, были насекомые. Разница в том, что основная тяжесть инфекции приходилась на кровь, которая в течение одного-двух часов уже кишела бациллами. Жертва умирала гораздо раньше, чем успевали сформироваться бубоны. Именно в распространении этой формы чумы могла активно участвовать человеческая блоха Pulex irritans. Кровь больного была так сильно насыщена бациллами, что блоха могла с легкостью заразиться сама и передать болезнь новой жертве без непременного участия крысы как свежего источника заразы. Септическая чума, должно быть, являлась самой редкой из трех вариантов болезни, составлявших Черную смерть, но она была определенно такой же смертельной, как ее легочная кузина, и предоставляла еще один способ, которым чума могла обосноваться на новой территории и стремительно распространяться среди ее обитателей.
Глава 2
Ситуация в Европе
В книге такого объема было бы чересчур амбициозным пытаться дать какой-либо серьезный анализ экономического и социального состояния Европы середины XIV века. Однако что-то сказать необходимо, поскольку обстоятельства, сложившиеся на континенте, и ментальное состояние его обитателей являются одним из наиболее важных факторов при рассмотрении воздействия на него Черной смерти. «Чума XIV века, – писал Мишон[23], – не отличалась от тех, которые ей предшествовали или следовали за ней. Она убила больше людей, не по своей природе, а из-за тех условий, в которых болели ее жертвы, и того рабского состояния, в котором она их застала». Ни один из тех, кто изучал сокрушительные удары, нанесенные Черной смертью богатым и бедным, молодым и старым, сильным и слабым, не мог принять то, что это была просто еще одна эпидемия, такая же, как и все прочие. Однако это не повод отвергать суждения Мишона как досужие разглагольствования.
На протяжении XI, XII и первой половины XIII века Европа переживала период сильного и почти непрерывного экономического роста. Позже некоторые историки задавались вопросом, действительно ли, по меньшей мере, в Англии «золотой век» высокого средневековья был таким впечатляюще благополучным, как это принято считать. Конечно, можно назвать секторы экономики, которые отставали от остальных, и определенные территории, преуспевавшие меньше других. Но в целом то, что профессор Набхольц описывает как «удивительное единообразие условий во всем регионе», подтверждает, что рост был всеобщим и ни одна из частей Европы не осталась в стороне.
В течение двух столетий, предшествовавших середине XIII века, лицо Европы значительно изменилось, и это изменение было к лучшему. Крестовые походы дали выход воинственным стремлениям ее обитателей, и это время было относительно спокойным. В условиях непривычной безопасности процветало крестьянство. Фруассар[24] с удовлетворением писал: «Le pays gras et plentureux de toutes choses… les maisons pleines de toutes richesses…»[25] Земля в долинах Рейна и Мозеля в конце XIII века стоила в 17 раз дороже, чем в начале X века, в то время как старая привычная арендная плата оставалась почти без изменения. Быстрыми темпами шла колонизация, иными словами – захват неиспользуемых земель на холмах, в низинных торфяниках и лесах. К 1300 году площади обрабатываемых земель в Центральной и Западной Европе достигли значений, с которыми они не могли даже сравниться в течение следующих 500 лет.
Главной движущей силой этой колонизации было, конечно, давление увеличившегося населения на существовавшие ресурсы. К середине XIII века Европа начала становиться ощутимо перенаселенной. Плотность населения в районе Пистойи, составлявшая 38 человек на квадратный километр, была высокой по стандартам любой сельской местности, но вовсе не считалась чем-то необычным для средневековой Тосканы. Население этой провинции, вероятно, доходило до 1–1,8 миллиона человек – значение, которого оно впоследствии снова достигло только в XIX веке. Быстрый рост населения начался с середины XI века. Производство продовольствия тоже росло, но этот рост даже не приближался к росту населения. Средневековые технологии в сельском хозяйстве, видимо, были недостаточно развитыми, потому и разрыв между спросом и предложением увеличивался. Тосканский крестьянин, уровень жизни которого никогда не превышал необходимый для выживания, теперь обнаружил, что близок к тому, чтобы опуститься еще ниже.
Тоскана была далеко не единственной. Во Франции «многие районы снабжали такое же большое или близкое к нему количество жителей, как в начале XX века». В регионе Уазан, к юго-востоку от Гренобля, в 1339 году проживало около 13 000 человек, а к 1911-му общая численность населения выросла всего до 13 805. В окрестностях Нёфбура население, составлявшее около 3000 человек в 1310 году, в конце 1954-го достигло 3347. В окрестностях Эллоу в Фенденде плотность населения в 1260 году была такой же, как в 1951-м. В некоторых местах, в частности в Артуа, во Фландрии, в Шампани и в областях Западной Германии решение проблемы роста населения искали в развитии промышленности. В целом в Западной Европе больше не было диковинной редкостью разрастание деревень и их превращение в поселки и города с количеством жителей 10 000—20 000 человек. Но поток, перетекавший в города, был лишь малой частью растущего населения сельской местности.
До тех пор, пока для растущего населения имелась неиспользуемая земля, которую можно было с легкостью взять и ввести в оборот, чтобы произвести больше продовольствия, неразрешимых проблем не существовало. На определенных территориях – Нижний Прованс, Каталония, Швеция и Шотландия – такая ситуация сохранялась даже в XIV веке. В Европе, если рассматривать ее целиком, даже в 1350 году имелось довольно большое количество недостаточно развитых малонаселенных территорий. Но в местах с большим количеством населения, откуда крестьяне не могли или не хотели уходить, конец XIII века стал периодом острого кризиса. Оставшиеся леса ревностно охранялись, горы не сулили потенциальному фермеру надежд на богатый урожай. Производительность падала по мере того, как эрозия почвы, нехватка удобрений, невозможность оставить землю под паром или производить ротацию культур на основе научных знаний лишали усталую землю плодородия.
Население стремительно росло, нужно было кормить все больше и больше ртов, и разрыв между доступным количеством продовольствия и спросом на него становился все шире.
Афоризм Тэна[26] о старом режиме «Народ похож на людей, идущих через пруд, где вода доходит им до ртов; если грунт на дне немного осядет или повысится уровень воды, они потеряют опору и утонут» можно применить и к средневековым крестьянам. При этом осадка грунта в Европе XIV века была скорее правилом, чем исключением. Самую главную роль в бедствиях, обрушившихся на Европу в течение 70–80 лет, предшествовавших эпидемии Черной смерти, сыграл климат. Сильное похолодание привело к резкому наступлению ледников, как полярных, так и альпийских. Из-за проливных дождей поднялся уровень Каспийского моря. Пострадало и практически прекратилось производство зерновых в Исландии и вина в Англии; в Дании и Провансе сократились площади выращивания пшеницы.
Но самыми тяжелыми последствиями стала целая серия катастрофических неурожаев. В Англии голодными были 1272, 1277, 1283, 1292 и 1311 годы. Между 1315 и 1319 годами бедствия нарастали. Почти каждая страна Европы полностью лишилась одного урожая, а часто двух или трех. Нехватка солнца препятствовала производству соли из-за испарения и, таким образом, еще больше усложняла хранение мяса. Даже если еды было достаточно, чтобы сделать запасы, возможности для этого отсутствовали. В Англии цена на пшеницу выросла больше чем вдвое. Каннибализм стал обычным делом. Как писал один хронист, бедняки ели собак, кошек, голубиный помет и даже собственных детей. В Ипре от голода умерло 10 % населения. Но это был не конец. 1332 год стал очередным катастрофическим годом для зерновых, а положение периода с 1345 по 1348 год, похоже, было несчастливым в любом веке.
Таким образом, до прихода Черной смерти большая часть Европы переживала упадок или, по меньшей мере, остановку развития. Колонизация прекратилась даже там, где имелись пустующие поля, доступные для освоения. «Drang nach Osten» выдохся на границах Латвии и Литвы. В торговле тканями во Фландрии и Брабанте наступил застой. Крупные ярмарки в Шампани, как показатель экономического здоровья большого процветающего региона, переживали заметный упадок. Цены на сельскохозяйственную продукцию падали, земледелие перестало быть легкой дорогой к благополучию, которой оно было двести лет перед этим. Иными словами, Европа переросла свои силы и теперь страдала от физического и ментального нездоровья, которое неизбежно следует за резким рывком прогресса.
Насколько этот упадок отразился на падении численности населения, можно только гадать. Голод такого масштаба, который пережила Европа, должен был как минимум остановить лихорадочный рост предыдущих двух веков. Возвращение из окраинных земель, начавшееся уже к 1320–1330 годам в верхнем Провансе, центральном массиве Франции, в Германии к западу от Вислы и в некоторых областях Англии, позволяет предположить, что в этих областях упадок должен был начаться задолго до прихода Черной смерти. И хотя есть очень мало или совсем никаких свидетельств о серьезной депопуляции, нет причин сомневаться, что голодных месяцев почти во всех густонаселенных местах Европы было достаточно много, чтобы исчерпать возможности снабжения продовольствием. Эта нехватка усугублялась смятением, вызванным войнами и гражданскими беспорядками, поразившими крупные области Франции, Испании и Италии. Непосредственное количество жертв среди населения могло быть не очень большим, но разорение полей, разрушение домов и нарушение течения сельской жизни серьезно снижало производство в то время, когда увеличение поставок продовольствия было необходимо, как никогда. Таким образом, в середине XIV века хроническая перенаселенность сделала невыносимым существование многих, если не большинства, европейцев. Весьма заманчиво сделать еще шаг вперед и увидеть в Черной смерти ответ природы на проблему перенаселенности, мальтузианское решение чрезмерной плодовитости предшествующих веков. Рассматривая книгу Жоржа Дюби[27], профессор Постан[28] отметил, что в этой книге его «особенно порадовали пассажи, где депрессия XIV века представлена как следствие, возможно, даже возмездие за непомерную экспансию предшествующей эпохи». С его точки зрения, Черная смерть – это возмездие, поджидавшее население, которое слишком долго и слишком быстро плодилось, не обеспечив себя ресурсами, необходимыми для подобного расточительства. Слихер Ван Бат[29] приписывал высокий процент смертей от Черной смерти во многом длительному недоеданию, которое стало следствием слишком быстрого роста населения. Если бы не было чумы, утверждал он, население, согласно законам природы, должно было бы уменьшиться какими-то другими способами.
Но, рассуждая таким образом, не следует заходить слишком далеко. Потому что общепризнанным в любом случае является тот факт, что средневековое сельское хозяйство было не способно обеспечить существовавшее на тот период население. Впрочем, некоторые авторитеты утверждают, что оно могло без особого труда накормить гораздо больше людей. Но если у природы не было необходимости уменьшать численность населения, то мальтузианские аргументы отпадают. И даже если согласиться с тем, что к середине XIV века население Европы превысило свою обеспеченность продовольствием, по-прежнему трудно объяснить, почему оно продолжило уменьшаться еще пятьдесят лет или даже больше. Контроль сработал, голодные месяцы остались позади, и даже самые фанатичные мальтузианцы едва ли могли бы настаивать, что процесс должен продолжаться.
Элизабет Карпентер с присущим ей блеском подытожила эти противоречия: «Была ли Черная смерть злом, ставшим необходимостью в ходе неизбежной эволюции, или это была трагическая случайность, вмешавшаяся в нормальный ход событий?» Но правильная постановка вопроса вовсе не гарантирует получение ответа. На самом деле в истории Средних веков иногда кажется, что чем точнее поставлен вопрос, тем вероятнее, что ответ не последует. Так и в данном случае определенно однозначного ответа нет и не будет. С уверенностью можно сказать лишь, что во многих частях Европы в XII и XIII веках население росло с необычной скоростью; что этот рост явился важным, хотя ни в коем случае не единственным фактором, который привел к массовому недоеданию; что недоедание стало дополнительной причиной высокой смертности во время эпидемии чумы и что в результате этой эпидемии население сократилось до более приемлемого количества. Это незатейливое заключение оставляет открытыми многие волнующие вопросы в отношении того, что было причиной, а что – следствием; что было слепым случаем, а что – неумолимым ходом природы. Для будущих поколений историков было бы спокойней знать, что эти проблемы существуют, а нас могло бы отрезвить, что, даже если бы мы смогли триумфально закрыть это досье, дав окончательный ответ, наши дети и внуки вскоре открыли бы его снова.
Каким бы ни был чей-либо тезис относительно неизбежности Черной смерти, невозможно отрицать, что в Европе чума столкнулась с населением, которое было чрезвычайно плохо подготовлено к тому, чтобы противостоять ей. Вовлеченный в войны, ослабленный плохим питанием, измученный борьбой за то, чтобы обеспечить себя за счет слишком малого количества неуклонно терявшей плодородие земли, средневековый крестьянин был готов сдаться еще до того удара, который на него обрушился. Но он представлял собой легкую добычу не только физически, но и был готов к катастрофе интеллектуально и эмоционально, готов был принять, если не сказать – приветствовать ее.
Несмотря на то что европейцы XIV века ясно сознавали, что почти ничего не понимают в болезни, которая их уничтожала, они как минимум были уверены, что знают главную причину своих страданий. Немногие тогдашние хронисты опускали тот факт, что чума была карой, ниспосланной Всевышним, возмездием за порочность тогдашнего поколения. Конрад де Мегенберг[30] в своей забавно еретической работе «Buch der Natur»[31] был практически единственным, кто отвергал теорию божественной кары на том основании, что ни одно действие, столь неразборчивое по своим последствиям, не могло быть задумано Господом.
Было бы странно, если бы его мнение нашло много сторонников. Даже в материалистические и до определенной степени умудренные 1960-е годы апокалипсический образ мира, обреченного на уничтожение из-за своей глупости и порочности, никуда не исчез. Возможно, в Средние века творения рук человеческих заменил молот чумы, но оба способа можно интерпретировать как проявление непостижимых Божьих деяний.
И конечно, это было куда очевидней для доверчивых суеверных жителей Европы XIV века, не способных найти никакого естественного объяснения этому внезапному ужасному истреблению, слепо верящих в пламя ада и прямое вмешательство Бога в земную жизнь, которое так хорошо показано в Ветхом завете, когда города и целые народы были уничтожены внезапными вспышками божественного гнева. Им казалось само собой разумеющимся, что теперь они стали жертвами этого гнева. Подобно жителям Содома и Гоморры, им предстояло умереть, расплачиваясь за свои грехи. «Расскажи, о Сицилия и многие другие острова в море, о Божьем суде! Признайся, о Генуя, что ты сделала, раз мы, живущие в Генуе и Венеции, обречены принять кару Господню!»
Европейцев обуяла уверенность в собственной вине. Они не знали, в чем именно заключалась эта вина, но выбор вариантов был достаточно широк. Разврат, алчность, упадок церкви, непочтительность рыцарского сословия, жадность королей, пьянство крестьян. Каждый порок мог быть проклят согласно предубеждению проповедника и назван последней каплей, переполнившей чашу Господнего терпения.
Английский хронист Найтон[32] писал:
«В те дни было много разговоров и возмущения среди людей, когда почти в каждое место, где проводился турнир, приезжал отряд женщин – словно они хотели присоединиться к состязанию, – одетых в самые роскошные мужские костюмы. Обычно на них были туники, окрашенные в несколько цветов, один цвет или рисунок на правой стороне, другой на левой, с капюшоном и завязками, похожими на веревку вокруг шеи, и поясами, богато украшенными золотом и серебром. Известно, что они даже носили такие ножи, которые по-простому называют „кинжалами”, в футлярах, висевших наискосок через плечо. Они приезжали на место состязаний на отборных боевых лошадях или других прекрасных конях. Там они тратили или скорее транжирили свое достояние и утомляли свои тела дурачествами и бессмысленной буффонадой… Но Бог для такого случая, как и для всех других, прислал чудодейственное лекарство…»
Найтон был своего рода консерватор. Хотя многие другие могли проклинать тогдашнюю моду, лишь некоторые назвали бы Черную смерть «чудодейственным лекарством», поскольку верили, что Бог слишком умерен в своем возмездии, чтобы убивать большинство, желая наказать немногих за их экстравагантность. Но убеждение Найтона в аморальности той эпохи было широко распространенным. «Эта чума была из-за одного только греха», – просто и грустно заключил Ленгленд[33]. Никто из тех, кто верил, что чума – это наказание Господне, не считал, что оно не соответствует преступлению. Воля Господа должна быть исполнена, его месть должна найти исход, а человек должен покорно принять это. Сомневаться в Его справедливости было бы очередным и еще более страшным грехом, за которым последовало бы очередное наказание свыше.
Оглядываясь назад, жертвы Черной смерти видели множество предзнаменований, которые должны были предупредить их о намерениях Бога. Симон де Ковино отмечал густые туманы и тучи, падающие звезды и порывы горячего ветра с юга. Над папским дворцом в Авиньоне стоял столб огня, а в небе над Парижем видели огненные шары. В Венеции от сильного дрожания земли без прикосновения рук человека зазвонили колокола собора Святого Марка. Все, что казалось хоть немного необычным, в ретроспективе объявлялось глашатаем чумы: выбросившийся на берег кит, особенно хороший урожай зерна или лесных орехов. Из хлеба, только что вынутого из печи, капала кровь. Иллюстрация того, как могла создаваться легенда, появилась во время более поздней эпидемии, когда на одеждах людей стали находить загадочные пятна крови. Последующие проверки показали, что пятна были вызваны экскрементами бабочек.


