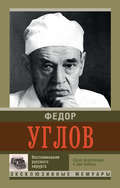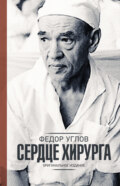Федор Углов
Большая книга хирурга
А ведь часто бывает, что боязнь боли, однажды испытанной человеком при лечении, останавливает его в другой раз своевременно обратиться к врачу. «Как вы запустили свою болезнь, – нередко приходилось говорить мне, – почему не пришли раньше?» – и слышал в ответ: «Врач тогда сделал мне так больно, что я решил: лучше умру, чем снова сюда, в больницу…»
Больной всегда чувствует, понимает: вот без этой боли невозможно было обойтись, а это – от плохих, неумелых или недобрых рук врача… «Теперь терпите – будет больно!» – говорит врач больному, тем самым расписываясь в своем неумении работать. Ведь сейчас в нашем распоряжении богатейший комплекс различных обезболивающих средств.
«Подумаешь, потерпеть не можете – нежности какие!» – заявляет другой. Этот даже не стесняется своего неумения, он нападает на больного, ничуть не озабоченный своей слабой профессиональной подготовкой.
«Повышенная чувствительность», «истеричность» – так иногда врачи определяют состояние своих пациентов, которые не могут терпеть боли. Спрашивается: а почему они должны ее терпеть? Только потому, что врач не захотел потратить несколько минут на обезболивание? И когда мы говорим: «добрые, нежные руки» или, наоборот, «грубые руки» – мы понимаем, что дело тут вовсе не в самих руках – руки выполняют волю сердца! Грубые руки у врача – это прежде всего грубое, не знающее сострадания сердце.
Ко мне как-то пришла больная со слезами на глазах и сказала, что нет сил терпеть грубость лечащего врача. Проводя ей бронхографию, он кричал на нее, ругался, не выбирая выражений, заставлял как можно больше высунуть язык, а у нее это никак не получалось, и он схватил ее за язык своими жесткими сильными пальцами так, что поранил корень языка о зубы.
Я посмотрел – на нижней поверхности языка у женщины действительно зияла большая рана. Отпустив больную, вызвал врача и заявил ему, что работать с ним не смогу, пусть подает заявление об уходе… И всегда, когда становился свидетелем жестокого или равнодушного отношения к больным со стороны своих учеников или подчиненных, я был беспощаден к ним. И раздумывая над тем, почему же среди врачей (в частности, хирургов) встречаются люди с грубыми руками и холодным сердцем, я выделил три причины:
1. Врач может быть беззлобным по натуре, даже добрым в каких-то житейских ситуациях, но у него самого отменное здоровье, он никогда ничем серьезно не болел и попросту не знает, что такое боль. Но это не значит, что врачу обязательно нужно пострадать самому, чтобы понимать боль других. Тысячи гуманных врачей никогда не испытывали на себе печальной участи своих пациентов, однако бережно, с пониманием обращаются с больными.
2. Врач может быть хирургом с такими неподготовленными для профессии руками, про которые в народе говорят: «Руки как крюки!» Не умея делать все хорошо и легко, он мало заботится о состоянии больного во время операции. Хоть как-нибудь получилось бы – о безболезненности и думать не приходится! Такие врачи напрасно пошли в хирургию, им следует как можно скорее менять специальность.
3. Врачом оказался просто черствый и грубый по натуре человек, которому чуждо любое страдание, кроме собственного. Такой патологический тип попадает и во врачебную среду, а ему в ней не место!
Впрочем, на страницах книги еще будут затронуты подобные вопросы с примерами из практики, а пока вернемся к событиям студенческих лет…
Операция на черепе, как я уже говорил, не дала никаких осложнений, не сказалась на слухе, я быстро поправлялся. И вдруг снова поднялась температура! Сначала думали, что это от какого-нибудь непредвиденного осложнения в ране: раскрывали ее, ковырялись в ней, причиняя мне сильную боль. Однако ничего подозрительного на месте операции не находили. А повышенная температура стойко держалась. Вызвали инфекциониста, и он признал: брюшной тиф!
Везти меня опять в тифозные бараки – слабого, не оправившегося от нескольких операций, нуждающегося в перевязках, – значило обречь на верную гибель. И тогда студенты на носилках по требованию Веры перенесли меня к ней в комнату, которую она только что получила для себя и ребенка.
С Верой Михайловной, а тогда, конечно, Верочкой, мы учились на одном курсе, в одной группе, и я в первый же свой университетский год потянулся к этой развитой, начитанной, умной девушке. Была она из интеллигентной семьи: отец – нотариус, мать – учительница, умела быть внимательной к людям, отзывчивой, прилежно относилась к любому делу, особенно к студенческим занятиям. С ней было интересно говорить о прочитанных книгах, о жизни – отличала ее удивительная способность находить красивое, прекрасное в будничном и, казалось бы, примелькавшемся.
К третьему курсу мы так привыкли друг к другу, что юношеские взаимоотношения постепенно переросли чуть ли не в семейные. Однако в молодости часто кажется: то, что есть у тебя сейчас, – это еще не главное, не настоящее, всему главному, настоящему быть впереди. Я хотел себя посвятить хирургии и никак не мог тогда совместить высокие мечты о будущем с суровой прозой семейной жизни, с ее первыми скучными и мелкими проявлениями… Женитьба представлялась чем-то обременительным, способным помешать в большой работе, которая в ту пору уже виделась мне подвижнической… Поэтому летом, уезжая на Лену, я поделился с Верой своими сомнениями, и она согласилась со мной – мы расстаемся без обид и упреков.
А поздней осенью, когда я вернулся с Лены, между мною, старшим братом и сестрой произошел такой разговор:
– У нас в семье никто никогда не поступал бесчестно, и мы, Федя, от тебя такого не ожидали, – сказал брат.
– Не понимаю. Говори напрямую!
– Почему ты оставил Веру?
– Вот что! Это уж мое личное дело…
– Нет, уже не личное. Если юноша оставляет девушку, когда она ждет ребенка от него, – это бесчестно…
– Вера? Ребенка? – в страшном смущении переспрашивал я, не понимая, почему Вера сама ничего не сказала мне об этом.
– Из-за гордости, надо думать, – пояснила сестра.
А брат сказал:
– Ты поставил Веру в ложное положение, и мы требуем, чтобы ты зарегистрировал брак. А после этого уже сами решайте: жить вам вместе или разойтись.
– Согласен с вами, – ответил я.
И хотя в то время гражданский брак был вполне признан в обществе, девушки считали, что они свободны в своих поступках, вольны жить как им хочется, не заботясь о загсовских бумажках. Я понимал живучую силу предрассудков, знал, что много упреков, обид и даже оскорблений может выпасть на долю той, которая осмелится родить незаконного ребенка… Я поспешил к Вере, переговорил с ней, и мы сходили в загс. А потом снова разошлись, каждый в свою квартиру. В дни зимних каникул Вера уехала к своей старшей сестре в Улан-Удэ, откуда вернулась уже с девочкой. Тут же узнала, в каком тяжелом положении я нахожусь, и со всей своей самоотверженностью бросилась ко мне на помощь. Имея грудного ребенка на руках, стала выхаживать и лечить меня.
Больным я пролежал около полугода, только к лету стал понемногу ходить.
И эти месяцы, согретые вниманием, заботой Веры, снова сблизили нас. Уже не могло быть никакой речи о жизни под разными крышами. Да и голосок дочурки, ее присутствие рядом, сознание, что этот маленький человек требует ласки, пробуждали неведомые дотоле отцовские чувства… Опять, забегая вперед, должен сказать, что, несмотря на наши частые разногласия, вызванные различием взглядов на некоторые вопросы, Вера Михайловна всегда вела себя благородно. Все мои братья и сестры любили ее за доброту и приветливость, и даже после того, как спустя годы мы разошлись, они продолжают относиться к ней как к очень близкому человеку. По окончании университета, работая, постоянно совершенствуя свои знания, Вера Михайловна стала опытным, высококвалифицированным врачом, кандидатом наук…
А тогда из-за моей болезни мы безнадежно отстали в учебе, предстояло остаться на второй год на четвертом курсе. Мое здоровье было сильно подорвано. Последствия тифа выразились в виде глубоких изменений мышцы сердца, в отсутствии свободной соляной кислоты в желудке. Непереносимыми стали физические перенагрузки, нужно было соблюдать строгую диету. А у нас – две скромные студенческие стипендии и маленький ребенок в семье, да еще при продовольственных затруднениях той поры!
Врачи, которые лечили меня, удивлялись: как смог перенести я такие тяжелые болезни и множество всевозможных осложнений после них. «Железный организм», – говорили они. И это было правдой. Я действительно рос крепким, здоровым, привычным к любому труду, с детства любил снарядную гимнастику: у нас дома всегда был турник, висели кольца, стояли во дворе пудовые гири. Мы с братьями рано начинали и чуть ли не позже всех заканчивали купальный сезон в нашей холодной реке, зимой по утрам выбегали из дома на улицу обтираться снегом, увлекались французской борьбой. Благотворно влиял на здоровье правильный режим питания: мама научила нас вставать из-за обеденного стола немножечко голодными. Придерживаясь этого правила всю жизнь, я с юности и до нынешних лет сохраняю нормальный вес и нахожусь, как говорится, в спортивной форме.
Единственно, что могло отрицательно сказываться на организме, – это отсутствие передышек в работе. В школьные и студенческие каникулы, в первые десять лет после окончания вуза я обязательно в отпускное время ради заработка устраивался на какую-нибудь временную работу: требовались деньги на срочные, безотлагательные покупки, росли семейные расходы… Только позднее я понял, что труд без отдыха губителен для здоровья, один раз в неделю и три-четыре недели в году интенсивного отдыха – это необходимость, пренебрегать которой рискованно.
– Что будем делать? – спрашивала меня Вера. – Ты как тень, слабый, а впереди суровая зима. Может, переведемся в Саратовский университет: климат на Волге мягче, и родственники мои там… Как, Федя?
Саратов нам понравился: просторный зеленый город, манящая к себе красавица Волга и очень современные университетские клиники, которые в Иркутске мы не могли даже представить себе.
Саратовский университет в то время считался одним из крупнейших. Авторитет его медицинского факультета поддерживался известными на всю страну именами, среди которых были Спасокукоцкий, Миротворцев, Разумовский, Какушкин, Николаев. Правда, Спасокукоцкого мы с Верой уже не застали, а Разумовский по преклонности лет отошел от активной хирургической деятельности, но в клинику ходил аккуратно как консультант. И прекрасными были лекции по хирургии профессора Миротворцева! Любили мы практические занятия в его клинике, всегда хорошо организованные, поучительные, неожиданные по своей новизне и смелости, – велись они блестящими хирургами: Самсоновым, Захаровым, Шиловцевым, Угловым…
Со своим однофамильцем П. Т. Угловым мне пришлось познакомиться… на операционном столе. Во время его дежурства меня привезли в клинику с абсцессом – последствием брюшного тифа. Вскрывая его под местным наркозом, он спросил: «Как ваша фамилия?» – «Углов», – ответил я. «Шутите», – усмехнулся он. «Да нет, – говорю, – на самом деле Углов. Ваш студент, к тому ж перевелся из Иркутска…» И тут же, во время операции, стали выяснять: не родственники ли? Оказалось, нет…
Запомнились занятия под руководством Н. В. Захарова. Отличный педагог, он поражал нас своей глубокой эрудицией, обширностью разносторонних познаний, а проводимые им операции, с точки зрения врачебного искусства, были образцовыми. Много хороших отцовских качеств переняла его дочь, тоже ставшая впоследствии видным хирургом, получившая профессорское звание, Г. Н. Захарова.
Клиника была передовой во всех отношениях, и, главное, в ее стенах работал дружный коллектив творческих, ищущих новое врачей. Здесь, например, они одними из первых стали применять переливание крови.
Однажды на лекции профессор, демонстрируя нам тяжелую обескровленную больную, объяснил, что при этом случае требуется операция, но при столь низком гемоглобине проводить ее рискованно: нужно перелить кровь. После его вопроса, кто из студентов согласится стать донором, я вышел вперед и предложил себя. Проверили мою кровь на группу и на совместимость – как раз то, что надо…
В клинике это была одна из первых попыток перелить кровь, и брали ее у меня не иглой, а с помощью канюли, для чего вену пересекали и затем перевязывали. Так я лишился правой локтевой вены, навсегда остался у меня на руке след – воспоминание о больной, жизнь которой спасла моя кровь. И свою теперь единственную вену на левой руке я очень берегу, чтобы не оказаться без вены в случае экстренной необходимости сделать какое-то вливание мне самому.
Тогда же проходили у нас занятия по психиатрии. Преподаватель читал лекцию по гипнозу, сопровождая ее показом больных. Люди, которых он нам демонстрировал, после первых же его слов впадали в глубокий гипнотический сон. «Это явление, – пояснял преподаватель, – называется «сомнамбулизмус моментанус тоталис». Кто возьмется повторить мой эксперимент?» У большинства студентов ничего не получилось, мне же, точно воспроизводящему слова и движения преподавателя, удавалось усыплять больных так же быстро, как делал он сам. «Это оттого, наверно, что у нашего Феди темные глаза!» – крикнул кто-то из товарищей. «Посмотрите на меня, – преподаватель засмеялся, – у меня-то глаза голубые! Воля гипнотизера, переданная с соответствующей интонацией и с нужной решительностью, – вот что здесь основное…»
Позже я не раз пробовал гипнотизировать, и каждый раз больные у меня засыпали хорошо. Эта способность к гипнозу весьма пригодилась в будущей врачебной практике.
Учился я отлично, преподаватели ставили меня в пример другим, прочили мне твердое место в клинике, о котором мечтали многие выпускники, однако я всей душой стремился к работе где-нибудь на окраине, помня о том, что старший брат и сестра поступили таким же образом. Поеду туда, думал я, откуда до городских клиник далеко, где больные страдают без квалифицированной медицинской помощи, там я нужнее. Вера соглашалась со мной: только так! И в своем молодом порыве ехать в какое-нибудь Богом забытое место и в глуши быть полезным страждущим сам для себя находил поддержку, раздумывая над судьбой отца.
Оканчивая медицинский факультет, я переживал, что безнадежно опоздал и уже ничем не помогу отцу. Он умер в год нашего переезда в Саратов, безвременно, пятидесяти восьми лет, и мне представлялось, как ждал он меня, мечтая, что я вот-вот получу диплом врача, приеду, вылечу его… Суровую школу жизни прошел он, и никакие лишения не могли убить его врожденной жизнерадостности, не заставили его пойти против совести. Нас, своих детей, он учил быть справедливыми и непримиримыми в борьбе со злом.
Он был из крепкой породы рабочих людей, и характер у него был истинно русский. В основе такого характера – любовь к народу, которая одних заставляет идти в ссылку, других, к примеру, всю жизнь бессменно дежурить в операционной. Да мало ли на свете дел, занимаясь которыми можешь стать по-настоящему необходимым людям, в самоотверженном служении народу откроешь для себя душевную радость, найдешь смысл всей своей жизни!
Я счастлив, что в год столетия со дня рождения российского мастерового Григория Гавриловича Углова родился его внук – Григорий Углов, в первых самостоятельных проявлениях характера которого уже замечается сходство с дедом. Кем он станет, гадать преждевременно, однако я очень хотел бы, чтобы были у него, как когда-то у деда, золотые руки. Жизнь продолжается в поколениях, и они несут в себе и развивают лучшее из того, что оставляют им отцы и деды.
И тогда, в завершающий год учения в университете, я думал, что где-то сейчас находятся тяжелые больные – ждут, ждут… К отцу я опоздал, здесь уже ничего не поделаешь, но скольким людям я смогу помочь! Ревностно без устали готовил себя для самостоятельной работы, аккуратно посещал каждую лекцию, какой бы скучной и необязательной ни казалась она, и не упускал ни одного случая первым выйти к столу в тот момент, когда вызывали студента для производства той или иной медицинской манипуляции.
Именно в те дни я хорошо освоил внутривенные вливания больным, а уже работая врачом на участке, овладел этой процедурой в совершенстве. Позднее, будучи в клинике Н. Н. Петрова, я удивлял его безошибочным попаданием иглы в вену. Умение точно и незамедлительно справляться с этой манипуляцией – первостепенная необходимость для врача. Ведь часто от того, попали ли в вену и как быстро, может зависеть жизнь тяжелого больного. И важно, конечно, убрать неприятные для пациента болевые ощущения. Поэтому в случаях, когда требуется толстая игла – например, для взятия значительного количества крови или введения большого объема лекарства, – пункцию вены следует проводить под местной анестезией. Совсем не трудно при помощи раствора новокаина получить небольшой кожный желвачок, через который игла пройдет безболезненно.
Разумеется, успешно овладевают даже простейшими манипуляциями, такими как эта, не сразу и лишь при сочувственном отношении к больному. Оно у меня, как я уже говорил раньше, было всегда, его диктовало мое желание скорее приступить к медицинской практике… И, сдав государственные экзамены, получив звание врача-лечебника, я с невольным трепетом взял в руки квадратик шероховатой бумаги с указанием места моей будущей работы. Там значилось: «К 1 июля 1929 года прибыть в село Кисловку Николаевского района Камышинского округа Нижневолжского края в качестве заведующего врачебным участком».
Глава 5
Первые шаги
Село Кисловка оказалось крупным, жителей в нем было больше пяти тысяч, в основном выходцы с Украины. Говорили здесь на удивительном языке: малороссийские слова перемежались с мягко произносимыми русскими. Красили село сады, солнечно стояли в огородах желтые подсолнухи, и по вечерам весело звучали гармони парней, девушки пели задушевные украинские песни…
В день приезда в сельсовете мне указали дом, где была отведена для меня комната. Хозяева встретили радушно, тут же усадили за стол. А утром, когда я шел на участок, мужчины приветствовали меня поклонами, молча разглядывали, каков из себя присланный доктор. Из-за плетней наблюдали женщины. Я старался идти степенно, как и подобало мне по чину, успокаивая себя тем, что скоро многих буду звать по имени-отчеству, что везде хороших людей больше, чем плохих: приживусь, стану своим для кисловцев.
На участке, несмотря на ранний час, меня уже ждали. Крепко пожал руку фельдшер Павел Петрович, много лет до этого исполнявший обязанности заведующего. Он представил мне «персонал»: акушерку Веру Георгиевну и санитарку Нюру. Последняя тут же поспешила объяснить мне, что, по ее мнению, все болезни бывают от злости.
– Давайте тогда в работе не будем злиться друг на дружку, – шутливо сказал я, – чтобы самим не заболеть!
Мы посмеялись, и я понял: тут ко мне будут относиться доброжелательно. А это уже много значит!
Больница была на десять коек, имелось и родильное отделение, в нем ежедневно лежали одна-две роженицы. Поликлиника, в которой предстояло вести амбулаторный прием, состояла из четырех комнат: кабинета врача, зала для ожиданий, аптеки и процедурной. И мы сразу же распределили обязанности. Вера Георгиевна должна была регистрировать больных, а затем в процедурном кабинете проводить нуждающимся назначения врача. Ей в помощницы выделялась Нюра, которая за три года хорошо освоилась с перевязками, компрессами, ставила банки, следила за чистотой и порядком. А Павел Петрович должен был готовить в аптеке и отпускать лекарства по моим рецептам. В нужные, затруднительные моменты я всегда мог пригласить его помочь мне…
В первый же день, услышав о приезде «ученого» врача, на прием пришло столько больных, сколько я никогда больше на участке не видел. Небольшими группками ожидали они своей очереди на улице, на ветерке и каждого выходящего от меня встречали вопросом: «Ну как он – помог?»
Болезни были самые разнообразные, и я чувствовал себя в положении утопающего, брошенного в глубокий омут. Приходилось барахтаться! Тщательно расспросив пациента, я просил его выйти и подождать за дверью, сам же начинал лихорадочно листать привезенные с собой учебники и справочники, проверяя по ним точность своего диагноза, отыскивая, как правильно пишется обнаруженная болезнь по-латыни, какие и в каких дозах нужно назначить лекарства…
Впрочем, неуверенность прошла быстро. Прилежание и интерес к делу помогли обрести веру в свои силы.
Когда одолевали сомнения, так ли я определил болезнь, звал Павла Петровича. Моя откровенность, уважение к его опыту нравились старому фельдшеру, много дельного подсказывал он, и впоследствии я никогда не пренебрегал его советами, мы научились с полуслова понимать один другого. Когда рядом образованный опытный фельдшер – это сильно облегчает работу врача, особенно начинающего. Фельдшер может научить тому, что прошло мимо тебя в студенческие годы. В дальнейшей хирургической деятельности, например, меня часто выручали практические приемы, усвоенные от Павла Петровича или Алеши Шелаковского (Алексея Александровича!), тоже бывшего фельдшера. Часто лишь благодаря этим приемам, знанию фельдшерских секретов я не выбывал на несколько дней из строя, когда, казалось бы, иначе и быть не могло, они давали мне возможность не прекращать занятий, делать операции.
Однажды, забивая гвоздь в стену, я промахнулся и со всего маху ударил молотком по тыльной стороне кисти, от острой боли искры из глаз посыпались! Находившийся рядом Алеша Шелаковский ощупал руку, сказал, что перелома кости, слава богу, нет, только сильный ушиб. Я с грустью подумал, что завтра руку разнесет и недели две работать не смогу… «Не дадим тебе от дела отлынивать», – засмеялся Алеша, принес банку с йодной настойкой и густо смазал ею всю мою руку – от кончиков пальцев и выше локтя… Проснувшись утром, я с удивлением обнаружил: ни боли, ни отека нет! И этот фельдшерский метод надежно помогал позже, я на себе убедился в его эффективности.
Когда у меня появляется какой-нибудь инфильтрат, гнойничок или фурункул, я, вспоминая добрым словом Павла Петровича, следую его давнему рецепту: прикладываю к больному месту ватку, смоченную чистым спиртом, и держу ее так минут сорок – шестьдесят, вечером и на следующий день повторяю эту процедуру. Процесс, как правило, приостанавливается, быстро купируется. Нельзя только на спиртовую вату накладывать вощанку или клеенку: это уже будет спиртовой компресс – возможен ожог.
Столь же успешно пресекаю в самом начале развитие панариция или флегмоны на руках, опять же используя совет из копилки фельдшерского опыта. Опускаю больную руку в такую горячую воду, как только можно терпеть, и по мере остывания воды добавляю в нее кипяток – в течение часа. После на больное место нужно наложить спиртовую высыхающую повязку на час-полтора, время от времени продолжая смачивать вату спиртом.
Конечно, любой практический совет необходимо всегда пропускать через призму собственных медицинских знаний. Как и врачи неодинаковы в своей профессиональной подготовленности, так и среди среднего медицинского персонала встречаются чудаки, чьи наставления нередко нельзя слушать без улыбки, и благо, если такие советы безвредны… Думая о достойном во всех отношениях Павле Петровиче, не могу не вспомнить другого фельдшера той поры – из соседнего села Солодушино, что находилось от Кисловки в шести километрах. Сюда на должность заведующей амбулаторным участком получила назначение Вера Михайловна. В помощниках у нее состоял бывший ротный фельдшер, пожилой человек с унтер-офицерскими замашками и зычным командным голосом. Когда больные собирались, он приказывал тем, у кого болит голова, отойти вправо, а остальным – влево. Первым давал аспирин, другим, всем без исключения, – касторку.
Поэтому в дни, когда Вера Михайловна почему-либо не могла вести прием больных, я вечером приходил в Солодушино и подменял ее. Легко шагалось берегом Волги, далеко к горизонту убегали желто-зеленые поля, предвечерняя сиреневая дымка ложилась на них, от речной воды веяло прохладой, было ощущение покоя, прикосновения к вечной земной красоте, обступавшей меня… И все же какое-то неясное томление закрадывалось в сердце, тревожило, и на смену тому, что было здесь, приходили видения отчего края: более могучая и своенравная, чем Волга, наша Лена, ее дикие, подминаемые величественной тайгой берега, а видимые глазом далекие заснеженные горы, неоглядный простор и родной сибирский говор на улицах и улочках нашего Киренска… Крепко жило это во мне!
В тот первый в моей практике амбулаторный прием в кабинете у меня побывало более шестидесяти человек – мужчины, женщины, дети, – и у каждого своя боль, свои страхи, свои надежды… Я был измучен до крайности, хотелось немедленно, тут же помочь каждому, всем, но как – этого доктор Углов еще толком не представлял, путался, устанавливая диагноз, боялся ошибиться – столько похожих симптомов у совершенно разных болезней! Рябило в глазах от судорожно переворачиваемых страниц справочников… Как на грех, после обеда Павла Петровича увезли в ближайшую деревеньку к лежачему больному, неизвестно было, когда он вернется…
– Доктор, мальчишка кровью исходит!
– Давайте его сюда.
Какая глубокая, зияющая рана! Занимает больше половины лба. Оказывается, верблюжонок копытом ударил. Надо срочно швы накладывать. Сумею ли? И ведь чего только ни пробовал на занятиях в университетской клинике, чему ни учился, а вот такое не приходилось делать, инструмент для наложения скобок никогда в руках не держал… Сам упустил или упустили нам показать? И что сейчас гадать, нужно делать.
– Нюра, готовьте инструмент!
– Сейчас, Федор Григорьевич. А ты, мальчик, не реви. Доктор поможет, выправит, крепше прежнего лоб будет!..
Операционного стола мы не имели: мальчика уложили на кушетку, и я попросил родителей держать его за ручки и ножки. Собственные руки дрожали, никак не мог захватить края раны пинцетом… Возился долго, с большим трудом, но все же справился – рана была обработана, кровотечение остановилось. Родители и родственники мальчика одобрительно переглядывались, а Нюра тайком, по-свойски, подмигнула мне: все хорошо, а ты боялся! Она догадывалась, как переживал я… Не обошлось в этот день и без курьеза.
В кабинет вошла молодая украинка и, озираясь на дверь, шепотом сказала: «Доктор, у меня низ болит…» – «Что ж, – отвечаю храбро, – раздевайтесь, ложитесь на кушетку, посмотрим, где там у вас внизу болит…» Она страшно смутилась, покраснела и показала пальцем на свой нос: «У меня, доктор, болит нис…» Тут-то я понял: нос!
Но так – суматошно, в растерянности – прошел именно первый день, а в последующие я быстро освоился с работой: не было нужды поминутно заглядывать в книги – ведь все в голове, нужно лишь сосредоточиться, вспомнить, я же это знаю!.. Стал быстрее и лучше понимать больных, как бы путано и нескладно они ни рассказывали о своих болезнях. Здесь, в Кисловке, сам себе говорил спасибо за то, что был прилежным и активным на факультетских занятиях, посещал все лекции, тщательно готовился к экзаменам! Приобретенные за годы учения знания оказались поистине бесценными. Однажды ко мне на квартиру – в комнату, где я только что сел за обед, – вбежал в испуге местный крестьянин со словами: «Помогите, жена умирает!» На его лошади быстро помчались на нужную улицу. В избе на полу в глубоком беспамятстве лежала женщина лет тридцати. Внезапная потеря сознания, тяжелое и прерывистое дыхание у больной заставили меня подумать об эмболии легочной артерии, тем более что ее муж объяснил: «Была хорошая, а тут грохнулась и лежит…»
По моему указанию женщину положили на телегу и осторожно повезли в больницу. Обеспокоенный, я сел рядом с нею и стал прощупывать пульс. Что это?! Состояние больной кажется опасным, а пульс – редкий, спокойный, хорошего наполнения. Может, это всего-навсего истерический припадок? Стал расспрашивать мужа о начале приступа, о том, что предшествовало ему, и он неохотно признался, что часом раньше больная поругалась со свекровью, была меж ними яростная перепалка, «как две гуски щипались…». Еще сказал, что жена после таких встрясок, случалось, падала, но быстро вставала, не как сейчас…
Мое предположение об истерическом заболевании вроде бы подкрепилось, однако я опасался: не ошибиться бы! Но пульс у женщины, когда приехали в больницу, по-прежнему оставался спокойным и редким. Тогда я решился применить гипноз. Положил руку на ее лицо, пальцами прикрыл веки, стал произносить обычные для гипноза фразы: «Ваши веки припечатаны… вы засыпаете… так… сон ровный, без памяти, без сновидения… так… вы спите хорошо, но слышите меня и выполняете мои приказы… чувствуете себя хорошо… У вас ничего не болит… вы дышите ровно, спокойно… так, хорошо…» Больная продолжала дышать прерывисто и глубоко, но я не отступал: «Вот вы уже дышите совсем ровно… еще ровнее дышите, еще спокойнее… так… все хорошо!»
К моей радости, после повторных внушений дыхание женщины действительно выровнялось, и я, продолжая сеанс, уже не сомневался в его хорошем результате.
«Вы спите спокойно, дышите ровно, у вас ничего не болит… Правда, у вас ничего не болит?.. Вот и хорошо, что у вас ничего не болит, вы поправились и чувствуете себя здоровой… Сейчас вы проснетесь совсем здоровой… Я сосчитаю до трех, и вы проснетесь. Раз… два… три!» Больная открыла глаза, увидела меня, ничего не могла понять в страхе и удивлении: куда это попала?!
– Вы кто, дядька? Это чего еще такое?
Я успокоил ее, объяснил, вывел на крыльцо больницы, теперь уже к удивлению мужа и прибежавшей сюда расстроенной свекрови. Никак не ждали они, что все так легко и благополучно кончится. Свекровь бросилась целовать невестку, они сели на телегу и помчались к дому. Я смотрел им вслед и улыбался.
А спустя какое-то время муж этой женщины снова подогнал своего резвого коня к больничному зданию, вошел ко мне с петухом под мышкой, очень красивым, золотистой расцветки. Я наотрез отказался принять от него «гостинец», он упрашивал, и дело кончилось тем, что крестьянин выпустил петуха на больничном дворе, а сам уехал. И этот красавец с огромными шпорами и факельно светящимся гребнем долго жил при больнице, постепенно превратившись в мелкого попрошайку – клянчил у посетителей хлебные крошки и все, что у тех могло быть. Больничного петуха знало все село.
Кроме Кисловки, я обслуживал село Раздолье, в восьми километрах ниже по Волге. Ездил туда, проводил осмотры, приемы, выступал на собраниях с беседами на медицинские темы и по текущему моменту. Работал увлеченно, без устали, и вдруг грянул гром! Произошло несчастье, стоившее мне ужасных переживаний.