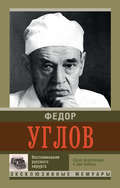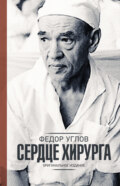Федор Углов
Большая книга хирурга
Нет нужды говорить о преимуществах нашей социальной системы – они бесспорны; речь о частном, о том, чего у нас еще, к сожалению, не хватает. Редки в сельской местности водонапорные башни, а они при нашем жестком климате особенно нужны. Без них не может быть на селе обилия воды, теплых туалетов, одним словом, того, что мы зовем высокой культурой быта.
В Ленинграде я побывал в нескольких клиниках и понял: не так далеко шагнула хирургия по сравнению с тем, что я делал у себя в Киренске. А при моих попытках посмотреть или хотя бы узнать, как проводят операции при пептической язве (мне не давало покоя воспоминание о Степе Оконешникове), вовсе ничего поучительного для себя не получил. Лишь подтвердилось: такие операции исключительно редки, сопровождаются частыми осложнениями, смертность при них высокая.
…В Иркутске из теплого вагона выскочил на пятидесятиградусный мороз. Купил себе огромный овчинный тулуп и с ним уже не знал беды: не побоялся до Качуга ехать в кузове попутной машины, поверх груза. Лишь ветер свистел да поземка била в глаза! А от Качуга предстоял большой и утомительный, в восемьсот верст, санный путь. Порой мы ехали ночью, останавливаясь на отдых в крестьянских избах, в юртах у эвенков, на промежуточных станциях. Желанным при таких остановках был фыркающий самовар, хотелось посидеть у пылающего огня. Но не успеешь понежиться в тепле, снова в путь возница зовет. И опять зимняя дорога, скрипят завертки оглобель, покачиваются розвальни, как в лодке плывешь… Неторопливо бежит заиндевевшая лошадка, не из-за надобности, а от скуки покрикивает на нее крестьянин, нет конца и края сибирскому простору! На вознице собачья доха, которая теплее моего тулупа, и не валенки, как на мне, а оленьи унты, мягкие, способные выдержать любой мороз. Он невозмутим. А я, ощущая, как начинают покалывать ледяные иголки ступни ног и стужа незаметно пробирается под тулуп, соскакиваю с розвальней, бегу вслед за ними по накатанной дороге, а с огромных сосен тихо падает на меня колючий снег. «Не отстань, волки задерут!» – оглядываясь, смеется возница, и я, согревшись, снова бросаюсь в сани. Мечтай, дремли, думай…
Не отпускала мысль, что пора заканчивать работу в Киренске и возвращаться в Ленинград, именно туда! Надо пополнять знания, совершенствоваться в профессии, учиться. В Ленинграде убедился, что лучшая школа хирургии – в клинике Н. Н. Петрова. Попасть бы к нему!.. С какой ненасытной жадностью, как никогда, осваивал бы под руководством известного профессора тонкости хирургического искусства!
Думал так и уже знал, что придет срок – уеду, и было жаль порывать с Киренском, с больницей, в которую вложено много сил. Будет ли она столь же дорога, как мне, другому, кто займет мое место? Вот и сейчас я спешу туда, меня ждут: уже телеграфировали в Иркутск, спрашивали, скоро ли вернусь. Многие больные с нетерпением ждут операции. Странное дело… ждут операции… ждут, чтобы лечь под нож… Как же надо страдать, чтобы ждать этого! Бедные люди… И среди них – Степа Оконешников. Тянуть больше нельзя. А риск огромный.
Восемьсот километров санного пути заняли десять дней.
Наутро пришел в больницу, будто не отлучался. Снова операции, амбулаторный прием, обходы, телефонные звонки с вызовами. Больных, ждущих операции, оказалось больше, чем я думал. В Иркутск ехать не хотят, говорят, там ничем не лучше, а дорога дальняя и дорогая. Помню, на первых порах еще ездили туда. Теперь перестали – значит, доверяют нашей больнице, ее авторитет поднялся.
В эту же пору, по-прежнему много оперируя, я получил для себя серьезный урок. Сколько их было в практике, и утешает лишь то, что все они в конечном итоге шли на пользу, оберегали от ошибок в дальнейшем!
В апреле в экстренном порядке я оперировал одного молодого, крепкого сложения рабочего по поводу острого аппендицита. Операция прошла без осложнений, и больной настолько хорошо себя чувствовал, что на другой день, увидев, что санитарка оставила посреди комнаты большую тяжелую лестницу-стремянку, соскочил, недолго думая, с кровати и вынес эту лестницу в коридор. Медсестра, заметив, что больной, только вчера прооперированный, несет лестницу, чуть дара речи не лишилась. Я сделал строгое внушение больному и, посмотрев, убедился: швы держат хорошо. А на восьмой день уже снял их. Обычно после этого выписка назначается на второй или на третий день, но тут больной так настойчиво просился домой, что я согласился его отпустить. Рана зажила гладким рубцом, беспокойства не вызывала.
Больной, как только я вышел из палаты, громко закричал: «Эх, а меня Федор Григорьевич выписал, выписал!» – и на радостях пошел плясать вприсядку… Тут же с ужасом почувствовал, что брюшная стенка у него лопнула и оттуда полезли внутренности. Он схватился рукой за рану и стал звать меня. Прибежав, я увидел, что из-под марлевой наклейки, поддерживаемой трясущимися пальцами больного, вываливаются петли кишок… Весельчака уложили на каталку и повезли в операционную, где я обмыл петли, обработал рану, иссек ее края и наложил новые швы. Сняли мы их ему с большим опасением лишь на десятый день. На этот раз все обошлось благополучно.
Этот случай, чуть не окончившийся гибелью человека, меня, однако, не насторожил. Я не задумался над истинной причиной расхождения швов, приписав все глупому поведению больного. Но через несколько дней произошло другое событие, которое уже заставило все понять…
Этот больной был с язвой желудка, и операция тоже прошла как нельзя лучше, на десятый день я уже снял швы. На месте раны остался не внушающий подозрения гладкий рубец.
Утром, при обходе, больной, лежа на кровати, спокойным голосом сказал мне: «Федор Григорьевич, наклейка что-то кровью пропиталась…» Я подошел и увидел большое кровянистое пятно, а сорвав наклейку, почувствовал дрожь в собственном теле: во всю длину разреза зияла рана шириной четыре-пять сантиметров, совершенно ясно проглядывалась печень, желудок, петли кишок… И сама рана была без нагноения и даже без воспаления, но с синюшными, слегка отечными краями.
Вот тут-то и осенила догадка. Авитаминоз! Цинга! Как я раньше-то не догадался, ведь сейчас на Крайнем Севере весна! Самое время авитаминозных заболеваний. Повезло, что этот человек был спокойный, после снятия швов не ходил, иначе выпадение внутренностей у него было б сильнее, чем у предыдущего больного, у того, что с аппендицитом, этот тоже был на волоске от гибели! Костлявая уже в затылок ему дышала… Немедленно взяли на операцию, и новые швы со всеми предосторожностями были сняты у него только на пятнадцатый день. Все это время, чтобы рана зажила гладко и надежно, пичкали больного витаминами.
Впредь, когда дело приближалось к весне, мы не забывали о возможности авитаминоза у больного, – это спасало от повторения описанных выше случаев. Меня они научили на всю жизнь. Как несколько раньше, навсегда усвоен другой урок: никогда не ограничиваться осмотром только места болезни! Обязательно осмотреть всего больного! Этот урок был оплачен самой высокой ценой.
Меня пригласили в городскую больницу на консультацию: у больного «острый живот» [ «острый живот» – заболевание, дающее картину остро-наступившей катастрофы в брюшной полости], состояние тяжелое, а хирурга нет. Картина «острого живота» при осмотре действительно была налицо, типичная, можно сказать, и я решил, что это заворот кишечника, а может быть, перитонит неизвестной этиологии. Как затмение нашло в тот момент: не стал обследовать сердце и легкие и, ничуть не сомневаясь в диагнозе, решил немедленно оперировать. А когда вскрыл брюшную полость, увидел: перитонита нет. Его симулировало вздутие кишечника, имевшее причину, находящуюся вне брюшной полости. Срочно зашили рану, стали принимать меры, чтобы как-то поднять потерянные больным во время операции силы, но… ничего уже не помогало – он умер. Вскрытие же показало: была тяжелая левосторонняя пневмония с геморрагическим плевритом. Процесс в легком и плевре через диафрагму передавался на брюшину, создавая видимость грозного воспаления в ней. Прослушай я грудную клетку больного, было бы все по-другому. Конечно, этот человек, учитывая его пожилой возраст, крайнюю ослабленность организма, умер бы, возможно, и от пневмонии. Но операция ускорила печальный исход.
Долгое время не находил я себе места. Как мог забыть, что вся картина «острого живота» часто вызывается изменениями в легких, плевре, даже – в сердце?! Об этом говорится в учебниках, предупреждали нас и на лекциях… Поистине: сам не обожжешься – не будешь знать, что такое боль! Это лишний раз подчеркивает, какая громадная ответственность лежит на хирурге: люди доверяют ему самое ценное, что есть у них, – свою жизнь. Даже в спешных усилиях, направленных на спасение больного, мы не должны быть торопливыми. Ошибки при операции ведут к непоправимым последствиям.
Порой хирург, чтобы спасти жизнь больного, советует ему ампутировать конечность. Можно представить, каких мук стоит человеку согласиться, чтобы у него отняли руку, ногу, а то и обе руки, обе ноги… Не всегда больной соглашается и – гибнет. Или соглашается после тягостных для него многодневных раздумий, доведя болезнь до критической точки, – и тут тоже печальный исход. Но бывает, что больной, наотрез отказавшись от операции, все же остается в живых. Это можно объяснить тем, что врач, боясь опоздать с операцией, предлагает человеку пойти на ампутацию, когда не все шансы на спасение конечности исчерпаны. Грань между «рано» и «поздно» почти незаметна, и так легко погубить больного, что хирург спешит отнять часть, чтобы не потерять все!
Человек, сохранивший, таким образом, ногу или руку, оставшийся в живых, всюду рассказывает о том, что врач ошибся и он, отказавшись от операции, только благодаря этому цел и невредим. И многие больные, слышавшие от кого-то, что так бывало, упорствуют, когда хирург настаивает на ампутации. Они не знают того, что о своей «победе» над врачом говорит один из ста упорствовавших, а те девяносто девять, что умерли, не послушавшись хирурга, – молчат, они не могут предупредить, что необходимо следовать совету специалиста-медика…
Когда я приехал из Иркутска, мама, едва дав мне с дороги переодеться и попить чаю, начала, как всегда, издалека:
– Ты, Феденька, знаешь учителя С., что живет на набережной?
– Конечно.
– Дочка у него…
– Дочку не помню. Скажи прямо: в чем дело?
Мама рассказала, что у восемнадцатилетней дочери учителя хотят ампутировать ногу, она лежит не в нашей больнице, а в городской. Ее отец ждет не дождется, когда я появлюсь в Киренске, надеется на мою хирургическую опытность.
Не успели мы закончить разговор, как в дверь постучали, и вошел учитель С., до крайности расстроенный, с ввалившимися от горя глазами. От него я узнал, что произошло с его дочерью…
Нина только что окончила среднюю школу. Перед тем как ехать в Иркутск, сдавать экзамены в университет, родители послали ее на месяц в деревню. Пусть отдохнет, попьет вдоволь молока, наберется силенок!
В деревне Нину обрадовало, что тут много парней и девчат, приехавших на лето к родителям и родственникам. Сколотилась веселая, дружная компания: ходили в лес по ягоды, помогали копнить сено, устраивали вечеринки с играми, песнями, танцами. Навестил ее отец и тоже остался доволен: когда-то теперь будет у дочки беззаботная жизнь!
Отец уехал, а на следующий день, перед вечером, во время игры в горелки, Нина, убегая от ведущего, споткнулась, упала, сильно, до крови, содрав кожу на коленной чашечке. Ее подняли, стряхнули пыль с платья, посмеялись, как это у нее так получилось, и она со всеми вместе посмеялась. Хотела было сбегать домой, смазать рану йодом, смыть теплой водой грязь, но тут начались танцы – и она осталась. Нога ныла, но все же когда Нину приглашали танцевать, она не отказывалась. А потом вдруг в распухшем колене появилась такая боль, что пришлось просить подруг, чтобы проводили до дома… Ночью не знала, как удобнее положить ногу, нестерпимо болевшую, почти не сомкнула глаз. Наутро пришли товарищи и подруги, и Нина, чтобы не подумали, что она неженка, раскисла из-за пустяков, превозмогая усиливающуюся боль в коленном суставе, сходила с ними на реку, искупалась там, целых полдня провела на ногах, а вернувшись в дом – со слезами на глазах, ничком бросилась на кровать…
Проснулась она с температурой 39° и с такими болями в распухшей ноге, что у нее не было сил без стона терпеть их. Причем если до сих пор боли ощущались главным образом при ходьбе, то теперь не отпускали и при покое. Малейшее движение ногой – и приходилось сдерживать невольный крик… Родные стали уговаривать Нину срочно поехать в город. Но ей, с одной стороны, не хотелось так рано, до срока, покидать деревню и новых товарищей: отпустят ли ее снова сюда из Киренска – не известно. А во‐вторых, при одной мысли о предстоящей тряской дороге ей становилось плохо. Можно ведь попарить ногу в горячей воде, отлежаться, с кем не бывает!
Но на другой день Нина уже металась в жару, часто теряла сознание. Вконец перепуганные родственники уложили девушку на носилки, донесли до реки, а там носилки установили на большой лодке, вверх по течению ее потянула лошадь. Сорок километров проделали за двенадцать часов, и стоит ли объяснять, как мучительны они оказались для Нины…
В Киренской городской больнице Нину осмотрел молодой, только что присланный сюда после окончания университета врач. И хотя был он неопытен, никогда не видел подобных заболеваний, все же сумел разобраться, что за болезнь у девушки… В рану на ноге у Нины попала инфекция, и развилось гнойное воспаление коленного сустава. Наполненный гноем, он не только причинял тяжкие страдания больной, но стал еще причиной и источником общего заражения крови. В подобных случаях легче предупредить болезнь. Отнесись Нина к своей ранке более серьезно: тщательно промой ее, смажь йодом и положи спиртовую или просто стерильную салфетку (например, проглаженную горячим утюгом) и дай покой ноге – все бы обошлось благополучно. Бороться же с воспалением в суставе трудно даже в условиях лучших клиник, где способны сразу же оказать специализированную и высококвалифицированную помощь. Что уж тут говорить о небольшой больнице, где обязанности хирурга были доверены вчерашнему выпускнику вуза! Но парень, повторяю, оказался смышленым, все сделал как надо: проколол коленный сустав тонкой иглой и после откачивания гноя промыл антисептическим раствором. Нине стало легче, боли поулеглись, но высокая температура держалась.
Несколько дней откачивали гной, промывая затем коленный сустав, однако это уже не давало прежнего эффекта. Следовало бы наложить гипсовую повязку от лопаток до кончиков пальцев ноги, чтобы создать ей полный покой, но врач не умел этого делать, да, кажется, и не понимал, что такое необходимо. У девушки все чаще температура поднималась до 41°, а потом резко падала до 35°. Эти резкие перепады температуры сопровождались проливным потом. Врач рискнул сделать два разреза, чтобы выпустить гной, но при разлитом гнойном процессе в суставе они пользы не принесли.
Когда я после разговора с отцом Нины немедленно пошел в больницу, молодой врач, встретив меня, сказал с растерянным лицом:
– Тут, коллега, случай для профессора, а я что могу? В жизни всего лишь два аппендикса вырезал…
Нина лежала на кровати в полузабытьи: она только что перенесла сильнейший озноб и сейчас была вся в испарине. На красивом лице дрожал нездоровый румянец, свойственный септическому процессу, а руки цвета белого мрамора были неподвижно вытянуты вдоль тела. Левая нога, закутанная в повязку, через которую проступало большое желто-красное пятно, покоилась на деревянной шине. Я взял руку Нины, проверил пульс. Девушка на секунду приподняла веки, взглянула на меня воспаленными глазами и тут же снова обессиленно закрыла их. Пульс был частый и малый, язык – сухой, дыхание учащенное. Рана, которую я осторожно раскрыл, тоже была сухая. Сомнений не оставалось: тяжелый сепсис – общее заражение крови!
Стало невыносимо жаль эту красивую, не успевшую познать радостей жизни девушку. Единственное, что могло дать некоторую надежду на спасение, – немедленная высокая ампутация, отсечение ноги выше коленного сустава. Об этом я и сказал родителям Нины, когда вышел из палаты. Матери стало плохо, пришлось приводить ее в чувство. Подавленно, со слезами на глазах стоял отец. Я опять, как можно мягче, старался разъяснить им безнадежность положения: ни при каких обстоятельствах ногу сохранить не удастся. А если все же сделать попытку сохранить ногу, нужно будет идти на иссечение всего коленного сустава. После этого девушке придется лежать в гипсе много месяцев, но нога все равно станет короче, не будет сгибаться. Самое же главное – операция тяжелая, сложная. Нине, до предела измученной, ослабленной септическим процессом, она не под силу, не перенесет ее. Даже ампутация очень опасна. Но она еще дает какие-то шансы на спасение жизни, а пройдет немного времени – этих шансов тоже не будет…
Кстати замечу, как тяжела, при всей ее неизбежности, обязанность врача: говорить близким суровую, подчас крайне жестокую правду! Долго и терпеливо разговаривал я с родителями Нины. Отец стал уже соглашаться со мной, но мать, рыдая, твердила: «Нет, нет!..» Настаивала на попытке сохранить ногу, пусть даже укороченную. И все втроем мы решили, что нужно прямо, ничего не скрывая, рассказать Нине. Пошли к ней в палату. Нина выслушала мои разъяснения удивительно спокойно, но сразу же заявила, что отнимать ногу не позволит – лучше умереть. Как мы ее ни убеждали, и мать в конце концов присоединилась к нам, девушка стояла на своем. Отец глухо сказал мне: «Что же, Федор Григорьевич, придется испытать судьбу. Тут такое дело, что против желания дочери не пойдешь, не простит она нам…» – и, тоже зарыдав, выбежал в коридор. Я понял, что выхода не остается, предстоит резекция сустава, хотя и видел всю опасность и даже безнадежность этой большой и травматичной операции. Нужно будет спилить все суставные концы костей, а делать это придется в гнойной ране. Для стока гноя необходимо произвести дополнительные разрезы сзади – со вставлением дренажей, и закончить операцию наложением огромной гипсовой повязки «от пятки до лопатки».
Как я и предполагал, операцию Нина еле перенесла. Чтобы вывести ее из глубокого послеоперационного шока, потребовалось повторное переливание больших доз крови. И, что самое обидное, усилия хирурга и страдания Нины на операционном столе оказались напрасными: общее септическое состояние продолжалось, все было по-старому – сухие раны ни имели ни малейшей тенденции к заживлению, высокая температура сменялась критическим падением… Чего только мы не предпринимали, какие антисептические вещества ни вводили, как ни старались поднять силы больной почти ежедневными переливаниями крови, Нина таяла на глазах.
Через две недели родители сами стали уговаривать меня произвести ампутацию, и чтобы я не спрашивал мнения Нины, они берут всю ответственность на себя… Я вынужден был им сказать, что слишком поздно: все резервы истощены, общее заражение крови ампутацией уже не остановить. Какое-то время до этого у нас была надежда – теперь она потеряна навсегда. Родители продолжали настаивать, и мне пришлось согласиться.
Ампутацию ноги Нина, конечно, перенесла еще тяжелее, чем первую операцию: на операционном столе у нее резко упало кровяное давление, которое нам удалось выровнять с неимоверным трудом. Долго не просыпалась она от наркоза. Когда же очнулась, слабым голосом позвала мать, долго держала ее руку в своей. Затем впервые за много дней попросила есть, но, съев две-три чайные ложки творога со сметаной, почувствовала такую усталость, что снова впала в забытье. У нас вспыхнула надежда на перелом… Однако к вечеру у Нины начался сильнейший многочасовой озноб с высокой температурой, пульс частил, доходя до ста пятидесяти – ста шестидесяти ударов в минуту, и сердечные, которые мы вводили, не действовали. Лишь к утру температура снизилась, но это сопровождалось резким падением кровяного давления. Его сумели поднять переливанием крови, но давление вскоре снова упало, и с каждым разом все сложнее было его восстанавливать. В сознание Нина не приходила. Очнулась лишь на третьи сутки, обвела всех нас, стоявших возле кровати, ясными глазами и снова позвала мать. Тихо сказала ей:
– Мама, мне совсем хорошо. И ничего не болит.
Я взял ее руку: пульс не прощупывался. Немедленно велел ввести сердечные, а сам попытался прослушать ее сердце: еле-еле ощущалось очень слабое биение такой частоты, что невозможно было сосчитать… Нет, ничего уже не могло помочь. Дыхание становилось все более поверхностным – реже, реже… Нина умерла.
Ее смерть поразила меня, уже тогда немало повидавшего за свою врачебную практику, какой-то своей особенно дикой несправедливостью. Она была так несовместима с этим милым, нежным существом, рожденным, казалось бы, для одних только радостей, для долгой жизни. И отчего все? Вначале глупая случайность, легкомысленное отношение к ране («И так заживет!..»), затем категорический отказ от ампутации, когда еще можно было на что-то надеяться. И вот трагический итог. Несколько дней ходил я под гнетущим впечатлением этой смерти – мне не хотелось никого лечить, ни на кого не хотелось смотреть…
Вообще-то поражение коленного сустава гнойным процессом по сей день составляет одну из самых трудных глав в хирургии. Тот из врачей, кому в военное время или в мирных условиях приходилось иметь дело с гнойным воспалением сустава, знает, какая непосильная задача – излечить такого больного хирургическими методами. И не менее ответственная, иногда со многими неизвестными задача – лечение туберкулезного гонита [гонит – воспаление коленного сустава], особенно в стадии обострения процесса. А мне в Киренске – задолго до описанного выше печального происшествия с Ниной С. – пришлось заняться такой больной. Тут я, оказывая хирургическую помощь, исправлял одно из многих преступных деяний Кемферта. Впрочем, расскажу подробнее…
Приблизительно за полгода до моего приезда в Киренск к Кемферту с просьбой выправить ногу обратилась женщина лет тридцати шести по фамилии Аникина. У нее был неподвижный коленный сустав, согнутый под углом. Из-за этого при ходьбе ей приходилось сильно наклоняться, припадая на уродливую ногу. Никаких болей в этой ноге она не чувствовала, все жалобы были лишь на то, что «…не гнется, проклятая, идешь будто пляшешь иль поклоны на сторону отвешиваешь!». Кемферт, не понимая сущности происходящего в коленном суставе процесса, решил распрямить ногу насильственно. Дал Аникиной наркоз, стал давить на ногу и в какой-то миг, поднатужившись… распрямил ее! Произошел разрыв сустава, а поскольку он уже был разрушен туберкулезом, голень при разгибании сдвинулась по отношению к бедру, и на смену прежнему пришло искривление ноги уже вбок. Дремавшая в суставе туберкулезная инфекция вызвала тяжелое обострение туберкулезного процесса с повышенной температурой и нестерпимыми болями.
Аникина после дичайшей «операции» Кемферта не могла ни есть, ни спать и, тяжко страдая, проклинала своего «доктора». Она с трудом переносила прикосновение простыни, прикрывающей больную ногу, а когда ее перекладывали на кровати, от ужасной боли теряла сознание и, по ее словам, однажды пыталась даже наложить на себя руки: не видела никакого просвета впереди. Известие, что в Киренск едет новый хирург, да еще к тому же здешнего роду-племени, из семьи Угловых, вселило в нее маленькую надежду. И когда я принял больницу, мне первым делом показали эту больную. Как молила она избавить ее от страданий, на которые уже не осталось никаких сил!
Отлично сознавая, что назначать такую сложную операцию, которой никогда не только не делал, но и не видел, как ее делают, более чем рискованно, я все же должен был пойти на это. По обыкновению, призвал в помощники книги: необходимо было уяснить диагностику и методику операций при туберкулезном гоните. Большинство специалистов в то время высказывались за то, что подобным больным лучше делать резекцию сустава без вскрытия его (по Волковичу), чтобы не разносить туберкулезной инфекции в ране. Я так и поступил. Уложил отрезки костей в очень небольшом сгибании, зашил рану кетгутом и заковал ногу в глухой гипс. И на другой день больная заявила, что боли, терзающие ее, исчезли… Через несколько месяцев, после снятия гипса, мы убедились в хорошем стоянии костей, в их прочном сращении. Теперь у Аникиной было лишь незначительное укорочение ноги, которое исправлялось с помощью ортопедической обуви.
Аникина радовалась как ребенок, улыбка разгладила ее ранние морщины на лице, и не менее Аникиной радовался я сам!
Разумеется, подобные операции были нечастыми. Основное, что держало тогда в напряжении, – это желудочные болезни. Язва, а иногда и рак желудка, при которых все чаще приходилось делать высокие резекции, подготовили меня к тотальной резекции желудка. Надо сказать, это технически сложное дело, требующее соответствующего инструментария, освещения и, что важно, опытных помощников. И, конечно, собственного умения в сочетании с самообладанием, железной выдержкой.
Не изгладилась из памяти самая первая тотальная резекция желудка. Получилась она вынужденной и стоила мне огромной нервной встряски. Вот как было дело.
Проводя резекцию при высокой язве малой кривизны желудка, я старался пересечь желудок выше язвы, и когда на оставшуюся культю стал накладывать швы, ужас сковал меня! Оказывается, я накладываю швы на пищевод, это его я пересек. Отсечен весь желудок с двенадцатиперстной кишкой, и лишь культя небольшого участка дна желудка связана с селезенкой… Не оставалось времени для угрызений совести и раздумий: нужно было спасать чуть не погубленного мною больного. Хорошо еще, что хоть с опозданием, но заметил свою ошибку!
Пришлось удалить весь желудок и соединить пищевод с тонкой кишкой. Больной, пролежав нужное время у нас в больнице, был выписан в удовлетворительном состоянии. А я после этого поучительного для себя случая уже осознанно произвел две или три тотальные резекции желудка при раке его кардиального отдела.
Вот почему, думая о Степе Оконешникове, я полагал: многому уже научился. Пора, брат, пора! И дал знать Степе: пусть приезжает ложиться в больницу.
Когда Степу Оконешникова определили в палату, ко мне заглянула Иннокентьевна. Лицо у нее было тревожным и суровым.
– Надеешься, Федя?
– Не скрою: опасно…
– Ой, Федя, у матерей знаешь как? Иль до конца жизни можем молить Бога за спасителя, иль проклинать станем до гробовой доски…
– Я ведь в таком случае совсем могу не брать Степу на операцию.
– Нет, Федя, – твердо сказала Иннокентьевна, – ты бери, но помни!
Грешно было б обижаться на нее за такую прямоту: страдалец Степа – единственный сын, вся ее вдовья жизнь в нем.
И я начал готовить Степу к операции.
Первым делом заставил его бросить курить, строго пообещав: замечу с папироской – операции не будет. Назначил строгую диету, нужные лекарства. В первую же неделю – на удивление себе – Степа прибавил в весе. Вскоре ткани у него приобрели нормальную упругость, укрепилась нервная система, наладился сон… И хоть я уже не мог считать себя новичком в желудочной хирургии, в разные, самые запутанные ситуации попадал и выходил из них с честью, – не ожидал, что операция у Оконешникова заставит меня пережить страшные минуты, принесет ощущение своего бессилия и я на миг подумаю: стоило ли добровольно ставить себя в такое рискованное положение?
Началось с того, что долгое время мне не удавалось попасть в свободную брюшную полость. Пептическая язва пенетрировала, проникла в толстую кишку, образовав желудочно-тонкотолстокишечный свищ. Значит, пища из желудка поступала в верхний отдел тонкой, а затем оттуда в средний отрезок толстой кишки и был выключен из пищеварения значительный отрезок кишечника. Кроме того, язва проникла в переднюю брюшную стенку, образовав единый узел, в котором прочными спайками соединены желудок, петли тонкого кишечника, толстая кишка, сальник и брюшная стенка. А весь этот комплекс, в свою очередь, интимно припаян к печени, желчному пузырю, поджелудочной железе. Попробуй-ка все это разъединить так, чтобы не вскрыть просвета кишки или не поранить крупного сосуда! А без такого разъединения невозможно было понять, куда что проникает, – рентгеновского кабинета мы не имели…
Установив диагноз, я приступил к ликвидации патологических соединений. Отделил толстую кишку и, освежив край раны, ушил отверстие в ней трехэтажным швом. После тщательной дезинфекции начал резекцию желудка вместе с анастомозом… Если наличие спаек при обычной резекции затягивает операцию на час-полтора, то мощные сращения, когда к тому же нужно удалять и часть желудка, и часть тонкой кишки, удлиняют операцию на несколько часов.
Тут я не замечал времени. Некогда было хоть на минутку распрямить затекшую спину, дать отдых пальцам… Довольно много в последнее время оперируя на желудке, я стал проводить несложную резекцию его за два – два с четвертью часа и надеялся, что операция у Степы не займет больше четырех часов. На самом же деле с того момента, как я наклонился, делая кожный разрез, а потом выпрямился, наложив последний шов, прошло шесть с половиной часов. Они показались мне единым, не зафиксированным в сознании прочерком во времени – я их попросту не заметил. Лишь не отпускало сердце щемящее предчувствие возможной беды, и я всеми силами старался ее предотвратить…
Резекция требует перевязки и пересечения сосудов, идущих к удаленной части. Но все они в рубцах, припаяны к желудку, тонкой кишке. При разделении спаек легко поранить печеночную артерию, и тогда – омертвение печени, гибель больного. А отделение желудка от брыжейки толстой кишки грозит возможным ранением брыжеечной артерии, что сразу же вызовет некроз толстой кишки – и тот же печальный исход. Отделение желудка от поджелудочной железы способно привести к кровотечению из нее, которое трудно бывает остановить, или к повреждению вещества железы. При этом в послеоперационном периоде сок поджелудочной железы может истечь в свободную брюшную полость, и стенки желудка или кишки будут разъедены им… Словом, чуть на миллиметр-другой ошибись, и вряд ли успеешь снять больного с операционного стола. А ошибиться легче легкого: сильные спайки деформировали, изменили, нарушили и запутали топографию брюшной полости.
Ни на секунду не мог я ослабить внимание и, когда закончил операцию, был до предела выжат, смят: твердые ноги сразу стали ватными, а руки, наоборот, налились свинцом, каждое движение отдавалось болью в теле. Оставив Веру Михайловну и операционную сестру продолжать переливание крови и противошоковой жидкости, я вышел в предоперационную и прислонился к подоконнику. Мартовское солнце весело заглядывало в окно, прыгали по снегу отогревшиеся под его лучами воробьи; конюх Прохор во дворе чистил скребницей Малышку; с нашей санитаркой заигрывал красноармеец-отпускник в длинной кавалерийской шинели – пытался обнять, а она со смехом отталкивала его; прачка развешивала на веревке тяжелое мокрое белье, что-то кричала конюху, а тот сердито отвечал ей… Никому не было дела до меня! А мне-то казалось, что в эти напряженные шесть часов внимание всех должно было быть обращено на небольшое операционное поле, на котором с неизмеримыми, огромнейшими усилиями мы боролись за жизнь человека. И этот человек, главное, будет жить, скоро тоже выйдет на улицу, вот сюда, во двор, – и хватит солнца, снега, веселья, улыбок и человеческих слов и на его долю! Я вздохнул, улыбнулся и пошел в палату, куда уже должны были перевезти Степу Оконешникова.