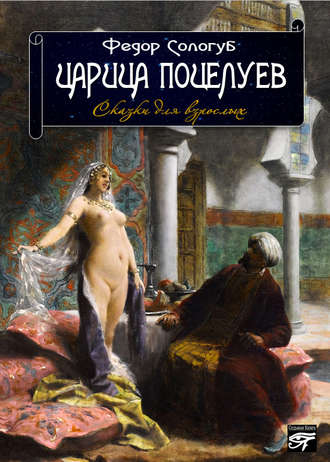
Федор Сологуб
Царица поцелуев. Сказки для взрослых
Пожрал друга своего царь Метейя, обратившийся в зверя. Вельможи и старейшины радовались и славили царя Метейю. Говорили они, упоенные злобною радостью:
– Дивное чудо сотворили великие боги в знак милости к нашей стране. Возлюбленному царю нашему Метейе дали они грозный облик зверя, чтобы его страшные когти и могучие челюсти сокрушали кости его врагов, как хрупкий, хрустящий тростник.
И водили зверя по улицам на страх трепещущим врагам. Блистающею диадемою увенчана была голова зверя, алмазное ожерелье висело на его шее, яркие яхонты и блистающие изумруды сверкали в рыжей звериной шерсти. Благоуханными цветами нагие девы осыпали путь зверя, – и облит был жаркою кровью его страшный след. Народ повергался ниц перед высоким зверем, и зверь выбирал себе добычу среди покорно склоненных и нежные пожирал тела юношей и дев.
Темен конец повествования. Дева с горящим углем в груди (может быть, следует читать «дева с пламенным сердцем») умертвит зверя, – так обещали ночные гадания в тайном лесу. Но был ли умерщвлен зверь? Освободились ли из-под ужасной власти свирепого зверя трепетавшие перед ним люди? Неведомою осталась судьба страны, где воцарился зверь, и самое имя страны поглощено забвением.
Мудрые девы
В украшенном цветами и светлыми тканями покое Девы ждали Жениха. Их было десять, они были юны и прекрасны, и были среди них Мудрые девы, и были Неразумные.
Вечер отгорел и погас, как погасает в небе каждый вечер. Дыхание темно-синего холода простерлось над землей, и далекие, вечные звезды начали свой медленный хоровод. Девы приготовили все, что надо было для брачного пира, и сели за стол. Одно место среди них было пусто, – то было место для Жениха, которого ждали, но которого еще не было здесь.
Десять светильников горели перед Девами. На белой скатерти стола стояли сосуды с вином и хлебы.
Тихие голоса беседующих Дев. Черная ночь молчала в саду за окнами украшенного брачного чертога, – а издали доносились откуда-то веселые песни, смех, музыка, шумные восклицания. Там, недалеко от дома, где ждали Девы Жениха, веселились и пировали Девушки, юные Женщины и праздные Молодые люди, – и всем им не было никакого дела ни до Жениха, приходящего во тьме и тайне, ни до невесты, таинственно зажигающей высокий свой светоч. Они, беспечные, плясали, и пели, и смеялись, и славили сладостные очарования буйной жизни. В их песнях говорилось о том, что жизнь дается каждому только один раз, что юность пролетает быстро и что надо торопиться вкусить ее восторги и услады, пока еще кровь горит избытком стремительных сил. Тихо беседовали Девы:
– Теперь уже скоро придет Жених.
– Да, мы скоро дождемся его.
– Как они там шумят!
– Как безумны их песни!
– Как грубо звучит в ночной тишине их хохот!
– Жениху будет неприятен этот шум.
– Жених добрый, – он не осудит.
– Он уже скоро придет.
– Не он ли это вошел в сад?
– Не он ли стоит у порога?
– Не он ли заглянул к нам в окно?
– Не пойти ли нам к нему навстречу?
– Нет, в саду пусто и тихо.
– У дверей нет никого.
– Только черная ночь смотрит к нам в окна.
Длилась ночь. Ждали Девы.
Беседовали тихо. Все громче и веселей становились голоса пирующих.
Жених не приходил.
– Его все еще нет, – говорили опечаленные Девы. – Он придет в полночь, – говорили они, утешая себя.
– Будем ждать.
– Как долго!
– Как скучно!
– Не надо роптать на Жениха.
– Он придет.
– Надо ждать, – он утешит нас.
– Как долго ждать! Уже и полночь прошла.
Стали роптать Неразумные девы. Они говорили:
– Мы здесь сидим и ждем, а он забыл о нас.
– Может быть, и не придет.
– Может быть, он пирует с другими.
– Зачем же мы ждем его, глупые?
– Как весело там!
– Не смешно ли, что мы сидим здесь, за накрытым столом, а сами не пьем и не едим, и не радуемся и ждем Жениха, который не приходит, хотя уже прошли назначенные сроки!
– Не пойти ли нам туда, где так весело?
– Подождите, – говорили Мудрые девы. – Жених придет.
– Он стукнет в дверь, станет на пороге, посмотрит на нас благостными очами, – и тогда начнется у нас веселье, более светлое и радостное, чем то, которому вы завидуете.
Но уже не захотели Неразумные девы ждать дальше. Они говорили:
– Мы пойдем туда, где весело. Идите и вы с нами. Если Жених не пришел вовремя, то он может сходить за нами и туда, где мы будем. Можно оставить ему на столе записку.
И взяли Неразумные девы свои светильники и ушли, – шесть Неразумных дев.
Остались четыре Мудрые девы. Они сели близко одна к другой и тихо беседовали о Женихе и о тайне, и ждали.
Но Жених не пришел. Тишина и печаль томились и вздыхали в украшенном брачном покое, где Мудрые девы проливали тихие слезы, сидя за столом, перед догорающими светильниками, перед нетронутым вином и неначатым хлебом. Дремотные смежались порой очи, и грезился Мудрым девам Жених, стоящий на пороге. Радостные вставали они со своих мест и простирали руки – но не было Жениха с ними, и никто не стоял на пороге.
Догорели светильники, побелели окна, птичьими щебетаниями засмеялся утренний сад, – и поняли Мудрые девы, что Жених не придет. Они склонились над столом и плакали долго. Чем ярче пылала заря, тем бледнее становились их щеки.
Тогда сказала мудрейшая из Дев:
– Сестры, сестры! Вот уйдем мы домой и потом станем вспоминать эту ночь. И что же мы вспомним? Мы ждали долго, – и Жених не пришел. Но сестры и Неразумные девы, если бы они были с нами в эту ночь, не то ли же самое сохранили бы воспоминание? На что же нам мудрость наша? Неужели мудрость наша над морем случайного бывания не может восславить светлого мира, созданного дерзающей волей нашей? Жениха нет ныне с нами, – потому ли, что он не приходил к нам, потому ли, что, побыв с нами довольно, он ушел от нас?
Радостны стали Мудрые девы и перестали плакать. Они налили вино в свои чаши, и разломили хлеб, и ели, и пили, и веселились.
– Жених ушел от нас рано.
– Краткое время побыл с нами Жених, – но сердца наши утешены и кратким его пребыванием с нами.
– Жених ушел, но он – наш возлюбленный Жених.
– Он любит нас.
– Он оставил нам золотые венцы на головах наших.
Окончив свою радостную трапезу, встали Мудрые девы из-за стола. На пороге брачного чертога остановились они все четыре, обнимая одна другую, и простерли с прощальным приветом свои руки вслед уходящему Жениху. Глаза их были полны слез, и лица их были бледны, и губы их улыбались печально.
В это время окончился шумный пир, и шесть Неразумных дев возвращались домой. Остановясь у порога, где стояли Мудрые девы, Неразумные смеялись, дразнили Мудрых и спрашивали:
– Дождались Жениха?
– Весел был ваш пир с Женихом?
– Что же вы одни и Жениха не видно с вами?
Мудрые девы ответили им кротко:
– Жених ушел.
– Мы его провожали.
– Вот уже белый хитон его мелькнул в последний раз из-за деревьев и не виден больше.
– В ту сторону, где восходит солнце, ушел Жених.
Не верили им Неразумные девы, громко смеялись и говорили:
– Вам стыдно сознаться, что Жених не пришел к вам.
– Чем вы докажете, что он был с вами?
– Покажите нам его подарки. Мудрые девы отвечали:
– Он подарил нам золотые венцы.
– Он сам надел их на наши головы.
– Разве вы не видите золото наших венцов над нашими головами?
Неразумные девы, – пять из них, – смеялись и говорили:
– Никаких нет венцов на ваших головах.
– Вы сами себя уличаете вашей выдумкой.
– Должно быть, во сне видели вы, как приходил к вам Жених.
– Напрасно вы проскучали всю долгую ночь, – идти бы вам лучше было за нами.
И ушли от порога пять Неразумных дев, издеваясь над Мудрыми девами и всячески понося их. Одна же из них осталась у порога. Она упала к ногам Мудрых дев, покрытым холодной утренней росой, и целовала ноги Мудрых дев, и плакала горько, и говорила:
– Счастливые, счастливые Мудрые девы! Как завиден ваш высокий удел! С вами пировал Жених, которого не увидели мои очи и очи моих безумных подруг.
На ваши мудрые головы он своими руками надел золотые венцы, светло сияющие, как четыре великие солнца. На ваших руках – святыня его прикосновений, на ваших губах – благоухание его поцелуев. О я, Неразумная! О я, несчастная! Умереть бы мне у ваших ног, лобзая ступени, по которым к вам восходил Жених.
Мудрые девы подняли свою прозревшую в этот ранний час сестру и целовали ее, и утешали нежно. Они говорили ей:
– Милая сестра, ты увидела на головах наших венцы, которых не могли увидеть Неразумные девы.
– Мудростью и ведением тайны наделил тебя Жених.
– Венец, который был на голове Жениха, он оставил нам для той, которая придет от неразумия к мудрости.
Коснулись Мудрые девы нежными пальцами ее головы и сняли с нее поблекшие цветы буйного веселья. Говорили:
– Вот мы надели на тебя, милая сестра, золотой венец.
– Как ярко сверкает твой венец в лучах восходящего солнца.
– Возлюбленный Жених, подаривший тебе этот блистающий венец, и сам придет к тебе, когда настанет время.
Одна за другой, по высокой лестнице брачного чертога и по дорогам сада, ступая на те места, которых касались ноги Жениха, шли пять Мудрых дев, увенчанные золотыми венцами, сияющими, как великие светила. С глазами, полными слез, и с сердцами, объятыми пламенем печали и восторга, шли они возвестить миру мудрость и тайну.
Сказка гробовщиковой дочери
Нет ничего странного в том, что молодой чиновник Леонтий Васильевич Ельницкий влюбился в молодую мещанскую девушку Зою Ильину. Она же была девица образованная и благовоспитанная, кончила гимназию, знала английский язык, читала книги, и давала уроки. И, кроме того, была очаровательна. По крайней мере, для Ельницкого.
Он охотно посещал ее, и скоро привык к тому, что вначале тягостно действовало на его нервы. Скоро он даже утешился соображением, что как никак, а все же Гавриил Кириллович Ильин, Зоин отец, был первым в этом городе мастером своего дела.
Гавриил Кириллович говорил:
– Дело мое не какое-нибудь эфемерное. Это вам не поэзия с географией. Без моего товара и один человек не обойдется. И притом же дело мое совершенно – чистое. Гроб не пахнет, и воздух от него в квартире крепкий и здоровый.
Зоя часто сидела в складочной комнате, где хранились заготовленные на всякий случай гробы. Одетая пестро и нарядно, – у отца много оставалось атласа, парчи и глазета, – и даже со вкусом, Зоя часто звала туда и своего друга.
– Пойдемте в складочную, Леонтий Васильевич, – говорила она, – там тепло и сухо, и там хочется говорить сказки. Там каждая доска пахнет вымыслом.
Они шли в складочную. Там Зоя рассказывала Леонтию Васильевичу вычитанные из книг истории и сказки, очень сильно изменяя, и дополняя их своими вымыслами. Ельницкий сначала неловко поеживался, и хмуро посматривал крутом, а потом принимался развивать перед Зоею свои взгляды.
Порою Зоин отец приходил сюда, за делом или просто так послушать их разговоры. Если за делом, Зоя и Ельницкий уходили в другие комнаты. Если просто так, они продолжали разговаривать, а он слушал, поглаживая седые длинные усы и весело сверкав синими, как у дочери, все еще молодыми глазами. Кто всмотрится внимательно в эти глаза, тому понятно станет, что они многое видели, и многое привыкли замечать.
Старик и сам сказал однажды Ельницкому, когда они сидели все трое в складочной:
– Я все вижу, я все знаю. Конечно, мелкотою мне, до моей популярности, заниматься не приходится, но что касается почтенных жителей нашего порода, я знаю срок каждому и размер. Как только умер, у меня все готово. Конечно, для видимости прикинешь мерочку, но только, скажу с интимною откровенностью, мог бы и не беспокоить покойника. Только поставить прибор по желанию родственников.
Леонтий Васильевич недоверчиво усмехался, а старик продолжал:
– Видите, здесь сложены гробы разных размеров; длина, ширина, все к кому-нибудь пригнано. Глаз у меня наметанный, а мерка у меня живая.
Зоя слегка покраснела и улыбалась, а Леонтий Васильевич спросил:
– Какая мерка?
Старик объяснил охотно:
– Зою мою вожу в церковь, на гулянье, в театр. Станет рядом с кем надо, а уж мне и видно, какая разница в росте, в ширине. На один сантиметр не ошибусь. Конечно, людей в городе много, есть и совпадения в размерах, и на иную домовину у меня по несколько кандидатов. Списочки веду.
Леонтий Васильевич вспомнил, как на днях Зоя подошла и стала рядом с ним, и старик смотрел на них внимательно. Холодок пробежал по его спине. Он укоризненно посмотрел на Зою. Она отвернулась, и легким движением гибкой руки показала на один из гробов.
– Вот мой размер, – сказала она равнодушно.
– А вам не жутко? – спросить Ельницкий.
– Я ведь здесь выросла, – спокойно ответила она.
Когда Ельницкий уходил в тот вечерь домой, ему казалось, что он никогда не перешагнет порога складочной. Но на другой же день Зоя опять повела его туда, и он послушно пошел за нею. Невеселыми глазами он окинул ряд гробов, и спросил, стараясь говорить шутливо:
– Который же тут по моему размеру?
И с досадою услышал, как дрогнул его голос.
Зоя спокойно улыбнулась, и сказала:
– Срок настанет еще не скоро.
Сказала так уверенно, как будто бы знала. И звук ее слов внес удивительное успокоение в душу молодого человека. А Зоя ласково погладила края своего, гроба, и сказала:
– И в этот ляжет кто-нибудь другой, не я. Мне почти жаль, – я к нему привыкла, и запомнила узор его досок.
Все отчетливее с каждым днем понимал Ельницкий, что любит Зою. Он был уверен, что и она любит его. Их встречи были часты и радостны, их разговоры – доверчивы и ясны. Они иногда говорили друг другу ты, почти не замечая этого. Но о любви своей еще молчали. Что-то удерживало Ельницкого. А Зоя спокойно ждала, терпеливая и уверенная, точно и в самом деле знающая все сроки.
Однажды Ельницкий спросил ее:
– Зоя, ты – мечтательница. Но в этой мрачной обстановке можно ли мечтать о любви?
Зоя посмотрела на него внимательно и нежно, и голос ее был сладок и звонок, когда она говорила:
– На могилах цветут розы, над пробами возникает любовь. Мать земля сырая любить нас и тогда, когда мы цветем, и тогда, когда мы отцветаем. Она радуется и славит Бога каждый раз, когда рождается человек.
В середине декабря однажды Ельницкий пришел к Зое вечером. Горели лампы, было тихо. Он прошел в складочную. Зои было не видно. Он проходил мимо гробов, чтобы сесть у печки, погреться, подождать, – в передней ему оказали, что Зоя дома. Взор его дотоле невнимательный, вдруг остановился на одном гробу, стоявшем на скамейке: там он увидел Зою, вздрогнул и остановился.
Девушка спала, лежа прямо на досках; ее голова покоилась на сложенных руках; губы нежно улыбались, и дыхание было безмятежно-ровное.
Ельницкий тихо позвал:
– Зоя!
Девушка открыла глаза.
– А, это – ты, – оказала она, приподнимаясь. – Сегодня я очень устала. А если очень устанешь, то всего слаще отдыхать на голых досках.
– Выходи, – сказал он хмуро.
Взял ее за плечи, и потянул к себе. Она легко и ловко спрыгнула на пол.
– Я чуть не упала, – сказала она. – Ты так сильно меня потянул. Или вы все такие жестокие?
– Жестокие? Почему? – с удавлением спросил Ельницкий.
– У людей все так, – говорила Зоя, – во всем проявляется жестокость, только по-разному, посильнее, послабее. Удар кинжалом в сердце или в глаз, укус, поцелуй, – разные звенья одной цепи. Ты читал сегодня о том, что они сделали с сестрою милосердия?
– Что? Нет, я не читал, – сказал Ельницкий.
Зоя взяла развернутый лист газеты «Речь». Показала ему.
– Читай, вот здесь.
Он прочел. Крикнул, внезапно охваченный гневом:
– Какие мерзавцы!
Зоя говорила:
– Ты только представь себе весь ужас ее муки! В холодную ночь стоит нагая, привязанная к дереву. На нее светят фонарями, десяток молодых, сильных парней, хохочут и бросают в нее ножи. Потеха длится долго, кровь течет по телу, нож торчит в ее глазу, – подумай, представь себе это! Теперь скажи мне, – может быть, это – неправда, или непроверенный, преувеличенный слух? Тогда как смеет газета печатать об этом? Или это – правда? Тогда отчего весь мир не содрогнется, не восстанет, не уничтожит злое племя?
– Так нельзя рассуждать, Зоя, – возразил Ельницкий, – это – злодеи, преступники, которые могут быть в каждой стране.
Зоя покачала головою.
– Если это может быть в каждой стране, если так надругаться над сестрою может француз и англичанин, так ведь это – такой ужас, от которого можно с ума сойти или проклясть все человечество. Я знаю, люди прочтут это так же, как они читают о всяком преступлении. Кое-кто немножко поволнуется. Но всем все равно. Пока нас не тронули, нам все равно. Мы все – жестокие звери.
Ельницкий почувствовал, что мысли его разбегаются, так много можно было бы спорить против этих нелепых и несправедливых слов, но ему не хотелось почему-то говорить.
Зоя посмотрела на него, и засмеялась невесело.
– Вижу, ты не согласен со мною. Вот, слушай, я расскажу тебе сказку из этой книги. Читал эту книжку?
Ельницкий взял с не крашенного березового столика у печки книгу в белой обложке с зелено-золотым рисунком, и прочел ее титул: «Тути – Намэ. Сказки попугая. Москва. Кн-во К. Ф. Некрасова».
– Не читал.
Зоя, переиначивая, как всегда, прочитанную, сказку, говорила неторопливым и ровным голосом:
– Один добрый и богатый купец в Багдаде, по имени Халис, роздал все свое имущество дервишам, бедным и сиротам. У него не было детей, куда беречь деньги! Но, видишь ли, когда делаешь что-нибудь, то легко увлечься чрезмерно. Он все роздал, понимаешь, буквально все, так что у него остался только дом с голыми стенами, и нечего есть, и не на что купить пищи. И он подумал: ну что ж, дом продам, деньги раздам, сам как-нибудь проживу, – одна голова не бедна, а и бедна, так одна. И уже он условился с другим купцом, что тот завтра принесет деньги, а Халис передаст ему дом. Тот купец был жадный, он видел, что Халис торопится кончить это дело, он и воспользовался случаем неправо обогатиться, я предложил Халису гораздо меньше денег, чем сколько стоил дом. Ну, Халис торговаться не стал. Но вот он ночью увидел во сне человека, одетого в блистающие одежды. Очень испугался, думает, – пришел за моею душою. А потом успокоился, подумал опять, – ну, что ж, на земле я ничего не оставляю. Но светозарный муж узнал его мысли и сказал ему: «Не хочет Бог твоей смерти и твоей нищеты. Ты останешься в этом доме, и у тебя будет жена, и она родит тебе сыновей и дочерей. Слушай, – завтра я приду к тебе, принявши облик брамина. Ты ударь меня палкою по голове, и я рассыплюсь золотом». Так он говорил, и Халис запомнил все его слова. Но ты подумай, друг мой – надо нанести удар, чтобы обрести свое сокровище. Какой верный образ нашей злобы и жестокости!
Зоя замолчала. Потом сказала тихо:
– Не стоит, пожалуй, досказывать сказку. Ты сам догадаешься, что все так и случилось. Добрый был награжден, жадный наказан.
Но, увлекаясь рассказом, продолжала:
– Спросишь, как был наказан жадный? А вот как. На утро пришел купец с деньгами, – поторопился придти пораньше, чтобы кто-нибудь другой не дал больше. А следом за ним вошел в дом Халиса брамин. Он был одет в желтый шелк, лицо у него было сморщенное и желтое, из-под желтой парчовой шапки видны были редкие пряди золотистых волос, и руки его были желты, в весь он был словно сбит из золота. И сказал он Халису: «Халис, прогони этого купца, он дает тебе мало денег». Халис сказал: «Мы условились с этим человеком, и я должен принять его деньги и отдать ему дом». Но брамин стал между Халисом и жадным купцом, и мешал им приступить к расчету. Тогда Халис вспомнил свой сон, схватил палку, и закричал: «Уйди отсюда, или я тебя поколочу». Ведь он был человек добрый, и рука его не поднималась ударить человека без предупреждения. Но брамин не уходил, и настаивал на своем. Тогда Халис ударил брамина по голове. Брамин заблестел, голова его зазвенела, он осел, в вдруг рассыпался громадною кучею золотых монет. Халис отсчитал девяносто девять монет, отдал их жадному купцу, и сказал: «Теперь ты и сам видишь, что я должен поступить так, как мне приказывало это золото, пришедшее ко мне в образе брамина. Возьми эти деньги, и никому не говори о том, что ты здесь видел». Купец сказал: «Хорошо, я откажусь от нашей сделки за эти девяносто девять монет, но в придачу дай мне твою палку». Халис согласился. Он знал, что не в палке сила. А жадный купец вздумал, что в этой палке заключена чудесная сила, и что стоит ударить ею любого брамина, и тот рассыплется золотом. Пошел жадный купец домой, и послал своих слуг ко всем браминам того города, которые он знал, звать их на пир в тот же вечер. Брамины пришли, и купец дал им много вина. Когда они упились, он затеял с ними ссору, схватил Халисову палку, и принялся бить их по головам. Крови пролилось не мало, а золота не было ни одной монеты. Брамины подняли страшный крик, сбежалось много народу, купца взяли под стражу, и утром привели к судье. Судья спросил: «За что ты бил браминов? «Купец отвечая: «Халис научил меня этому». И рассказал, что видел у Халиса. Послали за Халисом, и судья сказала: «Слушай, что показывает на тебя этот человек». Халис выслушав рассказ купца, и сказал судье: «Господин, спроси у соседей моих, кто видел брамина, вошедших в мой дом, и спроси у браминов, не исчез ли кто-нибудь из них, кого ищут и не находят». И никто не видел брамина, вошедшего в дом Халиса, и не было среди браминов никого пропавшего, кого искали и не находили. И велели судья бить купца палками, все золото его взяли и роздали обиженным браминам.
Зоя замолчала. Ельницкий сказал:
– Каждый день, Зоя, ты рассказываешь мне сказки. А самая лучшая сказка, знаешь, какая?
– Знаю, – сказала Зоя, – та, которую мы делаем из своей жизни.
– Зоя, – спросил он, – ты любишь меня?
– Не знаю, – сказала Зоя, – ведь ты еще не ударил меня ни разу ни по голове, ни по сердцу, чтобы я стала твоим сокровищем, золотом твоей жизни.
Она смеялась, и смотрела на него дерзким, вызывающим взглядом.
– Как же я могу тебя ударить? – спросил он смущенно.
– Никакого клада не возьмешь просто, – отвечала Зоя.
Она стояла перед Ельницким, дразня его все тою же дерзкою усмешкою и настойчивым взором потемневших, злых глаз.
– Как же можно бить тебя? – спросил Ельницкий. – Ты слабее меня.
Он чувствовал, что голова его кружится и сердце замирает. Злое наваждение овладевало им. Зоя засмеялась. Неприятно резок был ее смех.
– О! – воскликнула она, – я вовсе не такая беззащитная. Видишь, нож на столе лежит. Он острый, и конец его тонок. Он легко войдет в твое сердце, если ты оплошаешь.
Она побледнела, губы ее задрожали, и рука потянулась к ножу.
– Злая ведьма! – закричал Ельницкий.
Точно движимый чужою волею, он ударил Зою по щеке. Удар был неожиданно силен и звонок, и под своею рукою почувствовал Ельницкий зной вдруг вспыхнувшей нежной девичьей щеки. Зоя покачнулась, метнулась в сторону. Ельницкий ужаснулся тому, что случилось.
«Что я сделал? Я ударил любимую девушку! Какой позор!» – коротко подумал он.
Зоя вдруг пронзительно, закричала, схватила нож, и бросилась на Ельницкого. Лицо ее было искажено бешеною злобою, синие глаза казались слитыми в малые круги нестерпимо острыми молниями. С ужасом и восторгом глянул на нее Ельницкий, – никогда не была так прекрасна Зоя, как в эту гневную минуту. Он схватил одною рукою кисть ее правой руки, в которой сверкал нож, – едва успел схватить и отвести вниз, – конец ножа уже разрезал его одежду, и остро царапнул кожу на груди, – другая его рука тяжело легла на ее плечо и шею. Она бешено рвалась в его руках, налегая всем телом на его. грудь. Вдруг он почувствовал боль в левой ноге, вскрикнул и упал, увлекая за собою Зою. Он ушибся головою о край скамьи, и, теряя сознание, услышал над собою отчаянный Зоин вопль.
Когда он очнулся, он лежал в гостиной на диване. Зоя стояла перед ним на коленях, плакала и целовала его руки. Старик смотрел насмешливо, и говорил:
– Пустяки, две легонькие царапины. До свадьбы заживет.
Ельницкий вспомнил, что именно этими словами в детстве утешала его старая няня. Он засмеялся.
– Зоя, – сказал он, – ты – мое сокровище. Когда же ты доскажешь мне твою сказку?
– Зоя – сказочница, – отвечал за нее старик, – своим детям она наскажет сказок.
– Своему сыну Зоя расскажет, – тихо говорил Ельницкий, – как его отец пошел на войну. Видишь, Зоя, я догадался, – жаль, немного поздно, – как тебя надо ударить, – по сердцу, – уйти от тебя, уйти, чтобы наносить удары и побеждать.
– Ты ко мне, вернешься, – со странною уверенностью сказала Зоя.
– Не знаю, Зоя, – отвечал он, – да и не все ли равно!
Старый гробовщик покачивал головою, и говорил:
– Еще не скоро, дети, настанет ваш срок уйти в тесные дома.






