 Полная версия
Полная версияПолная версия:
Федор Михайлович Достоевский Детям (сборник)
- + Увеличить шрифт
- - Уменьшить шрифт

Федор Достоевский
Детям (сборник)
Белые ночи[1]
Сентиментальный роман
(Из воспоминаний мечтателя)
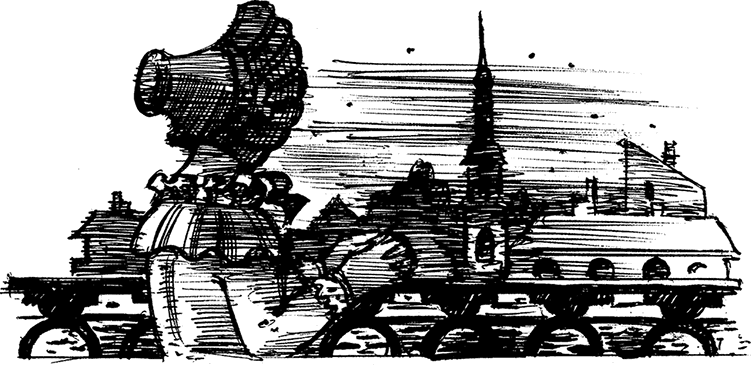
Ночь первая
Была чудная ночь, такая ночь, которая разве только и может быть тогда, когда мы молоды, любезный читатель. Небо было такое звездное, такое светлое небо, что, взглянув на него, невольно нужно было спросить себя: неужели же могут жить под таким небом разные сердитые и капризные люди? Это тоже молодой вопрос, любезный читатель, очень молодой, но пошли его вам Господь чаще на душу!.. Говоря о капризных и разных сердитых господах, я не мог не припомнить и своего благонравного поведения во весь этот день. С самого утра меня стала мучить какая-то удивительная тоска. Мне вдруг показалось, что меня, одинокого, все покидают и что все от меня отступаются. Оно, конечно, всякий вправе спросить: кто ж эти все? потому что вот уже восемь лет, как я живу в Петербурге и почти ни одного знакомства не умел завести. Но к чему мне знакомства? Мне и без того знаком весь Петербург; вот почему мне и показалось, что меня все покидают, когда весь Петербург поднялся и вдруг уехал на дачу. Мне страшно стало оставаться одному, и целых три дня я бродил по городу в глубокой тоске, решительно не понимая, что со мной делается. Пойду ли на Невский, пойду ли в сад, брожу ли по набережной – ни одного лица из тех, кого привык встречать в том же месте в известный час, целый год. Они, конечно, не знают меня, да я-то их знаю. Я коротко их знаю; я почти изучил их физиономии – и любуюсь на них, когда они веселы, и хандрю, когда они затуманятся. Я почти свел дружбу с одним старичком, которого встречаю каждый Божий день, в известный час, на Фонтанке. Физиономия такая важная, задумчивая; все шепчет под нос и махает левой рукой, а в правой у него длинная сучковатая трость с золотым набалдашником. Даже он заметил меня и принимает во мне душевное участие. Случись, что я не буду в известный час на том же месте Фонтанки, я уверен, что на него нападет хандра. Вот отчего мы иногда чуть не кланяемся друг с другом, особенно когда оба в хорошем расположении духа. Намедни, когда мы не видались целые два дня и на третий день встретились, мы уже было и схватились за шляпы, да благо опомнились во-время, опустили руки и с участием прошли друг подле друга. Мне тоже и дома знакомы. Когда я иду, каждый как будто забегает вперед меня на улицу, глядит на меня во все окна и чуть не говорит: «Здравствуйте; как ваше здоровье? и я, слава Богу, здоров, а ко мне в мае месяце прибавят этаж». Или: «Как ваше здоровье? а меня завтра в починку». Или: «Я чуть не сгорел и притом испугался» и т. д. Из них у меня есть любимцы, есть короткие приятели; один из них намерен лечиться это лето у архитектора. Нарочно буду заходить каждый день, чтоб не залечили как-нибудь, сохрани его Господи!.. Но никогда не забуду истории с одним прехорошеньким светло-розовым домиком. Это был такой миленький каменный домик, так приветливо смотрел на меня, так горделиво смотрел на своих неуклюжих соседей, что мое сердце радовалось, когда мне случалось проходить мимо. Вдруг на прошлой неделе я прохожу по улице, и как посмотрел на приятеля – слышу жалобный крик: «А меня красят в желтую краску!» Злодеи! варвары! они не пощадили ничего: ни колонн, ни карнизов, и мой приятель пожелтел, как канарейка. У меня чуть не разлилась желчь по этому случаю, и я еще до сих пор не в силах был повидаться с изуродованным моим бедняком, которого раскрасили под цвет небесной империи[3].
Итак, вы понимаете, читатель, каким образом я знаком со всем Петербургом.
Я уже сказал, что меня целые три дня мучило беспокойство, покамест я догадался о причине его. И на улице мне было худо (того нет, этого нет, куда делся такой-то?) – да и дома я был сам не свой. Два вечера добивался я: чего недостает мне в моем углу? отчего так неловко было в нем оставаться? – и с недоумением осматривал я свои зеленые, закоптелые стены, потолок, завешанный паутиной, которую с большим успехом разводила Матрена, пересматривал всю свою мебель, осматривал каждый стул, думая, не тут ли беда? (потому что коль у меня хоть один стул стоит не так, как вчера стоял, так я сам не свой) смотрел на окно, и все понапрасну… нисколько не было легче! Я даже вздумал было призвать Матрену и тут же сделал ей отеческий выговор за паутину и вообще за неряшество; но она только посмотрела на меня в удивлении и пошла прочь, не ответив ни слова, так что паутина еще до сих пор благополучно висит на месте. Наконец, я только сегодня поутру догадался, в чем дело. Э! да ведь они от меня удирают на дачу! Простите за тривиальное словцо, но мне было не до высокого слога… потому что ведь все, что только ни было в Петербурге, или переехало, или переезжало на дачу; потому что каждый почтенный господин солидной наружности, нанимавший извозчика, на глаза мои тотчас же обращался в почтенного отца семейства, который после обыденных должностных занятий отправляется налегке в недра своей фамилии, на дачу; потому что у каждого прохожего был теперь уже совершенно особый вид, который чуть-чуть не говорил всякому встречному: «Мы, господа, здесь только так, мимоходом, а вот через два часа мы уедем на дачу». Отворялось ли окно, по которому барабанили сначала тоненькие, белые, как сахар, пальчики, и высовывалась головка хорошенькой девушки, подзывавшей разносчика с горшками цветов, – мне тотчас же, тут же представлялось, что эти цветы только так покупаются, то есть вовсе не для того, чтоб наслаждаться весной и цветами в душной городской квартире, а что вот очень скоро все переедут на дачу и цветы с собою увезут. Мало того, я уже сделал такие успехи в своем новом, особенном роде открытий, что уже мог безошибочно, по одному виду, обозначить, на какой кто даче живет. Обитатели Каменного и Аптекарского островов или Петергофской дороги отличались изученным изяществом приемов, щегольскими летними костюмами и прекрасными экипажами, в которых они приехали в город. Жители Парголова и там, где подальше, с первого взгляда «внушали» своим благоразумием и солидностью; посетитель Крестовского острова отличался невозмутимо-веселым видом. Удавалось ли мне встретить длинную процессию ломовых извозчиков, лениво шедших с возжами в руках подле возов, нагруженных целыми горами всякой мебели, столов, стульев, диванов турецких и нетурецких и прочим домашним скарбом, на котором, сверх всего этого, зачастую восседала, на самой вершине воза, тщедушная кухарка, берегущая барское добро как зеницу ока; смотрел ли я на тяжело нагруженные домашнею утварью лодки, скользившие по Неве иль Фонтанке, до Черной речки или островов, – воза и лодки удесятерялись, усотерялись в глазах моих; казалось, все поднялось и поехало, все переселялось целыми караванами на дачу; казалось, весь Петербург грозил обратиться в пустыню, так что, наконец, мне стало стыдно, обидно и грустно; мне решительно некуда и незачем было ехать на дачу. Я готов был уйти с каждым возом, уехать с каждым господином почтенной наружности, нанимавшим извозчика; но ни один, решительно никто не пригласил меня; словно забыли меня, словно я для них был и в самом деле чужой!
Я ходил много и долго, так что уже совсем успел, по своему обыкновению, забыть, где я, как вдруг очутился у заставы. Вмиг мне стало весело, и я шагнул за шлагбаум, пошел между засеянных полей и лугов, не слышал усталости, но чувствовал только всем составом своим, что какое-то бремя спадает с души моей. Все проезжие смотрели на меня так приветливо, что решительно чуть не кланялись; все были так рады чему-то, все до одного курили сигары. И я был рад, как еще никогда со мной не случалось. Точно я вдруг очутился в Италии – так сильно поразила природа меня, полубольного горожанина, чуть не задохнувшегося в городских стенах.
Есть что-то неизъяснимо трогательное в нашей петербургской природе, когда она, с наступлением весны, вдруг выкажет всю мощь свою, все дарованные ей небом силы, опушится, разрядится, упестрится цветами… Как-то невольно напоминает она мне ту девушку, чахлую и хворую, на которую вы смотрите иногда с сожалением, иногда с какою-то сострадательною любовью, иногда же просто не замечаете ее, но которая вдруг, на один миг, как-то нечаянно сделается неизъяснимо, чудно прекрасною, а вы, пораженный, упоенный, невольно спрашиваете себя: какая сила заставила блистать таким огнем эти грустные, задумчивые глаза? что вызвало кровь на эти бледные, похудевшие щеки? что облило страстью эти нежные черты лица? отчего так вздымается эта грудь? что так внезапно вызвало силу, жизнь и красоту на лицо бедной девушки, заставило его заблистать такой улыбкой, оживиться таким сверкающим, искрометным смехом? Вы смотрите кругом, вы кого-то ищете, вы догадываетесь… Но миг проходит, и, может быть, назавтра же вы встретите опять тот же задумчивый и рассеянный взгляд, как и прежде, то же бледное лицо, ту же покорность и робость в движениях и даже раскаяние, даже следы какой-то мертвящей тоски и досады за минутное увлечение… И жаль вам, что так скоро, так безвозвратно завяла мгновенная красота, что так обманчиво и напрасно блеснула она перед вами – жаль оттого, что даже полюбить ее вам не было времени…
А все-таки моя ночь была лучше дня! Вот как это было.
Я пришел назад в город очень поздно, и уже пробило десять часов, когда я стал подходить к квартире. Дорога моя шла по набережной канала, на которой в этот час не встретишь живой души. Правда, я живу в отдаленнейшей части города. Я шел и пел, потому что, когда я счастлив, я непременно мурлыкаю что-нибудь про себя, как и всякий счастливый человек, у которого нет ни друзей, ни добрых знакомых и которому в радостную минуту не с кем разделить свою радость. Вдруг со мной случилось самое неожиданное приключение.
В сторонке, прислонившись к перилам канала, стояла женщина; облокотившись на решетку, она, по-видимому, очень внимательно смотрела на мутную воду канала. Она была одета в премиленькой желтой шляпке и в кокетливой черной мантильке. «Это девушка, и непременно брюнетка», – подумал я. Она, кажется, не слыхала шагов моих, даже не шевельнулась, когда я прошел мимо, затаив дыхание и с сильно забившимся сердцем. «Странно! – подумал я, – верно, она о чем-нибудь очень задумалась», и вдруг я остановился как вкопанный. Мне послышалось глухое рыдание. Да! я не обманулся: девушка плакала, и через минуту еще и еще всхлипывание. Боже мой! У меня сердце сжалось. И как я ни робок с женщинами, но ведь это была такая минута!.. Я воротился, нагнул к ней и непременно бы произнес: «Сударыня!» – если б только не знал, что это восклицание уже тысячу раз произносилось во всех русских великосветских романах. Это одно и остановило меня. Но покамест я приискивал слово, девушка очнулась, оглянулась, спохватилась, потупилась и скользнула мимо меня по набережной. Я тотчас же пошел вслед за ней, но она догадалась, оставила набережную, перешла через улицу и пошла по тротуару. Я не посмел перейти через улицу. Сердце мое трепетало, как у пойманной птички. Вдруг один случай пришел ко мне на помощь.
По той стороне тротуара, недалеко от моей незнакомки, вдруг появился господин во фраке, солидных лет, но нельзя сказать, чтоб солидной походки. Он шел, пошатываясь и осторожно опираясь об стенку. Девушка же шла, словно стрелка, торопливо и робко, как вообще ходят все девушки, которые не хотят, чтоб кто-нибудь вызвался провожать их ночью домой, и, конечно, качавшийся господин ни за что не догнал бы ее, если б судьба моя не надоумила его поискать искусственных средств. Вдруг, не сказав никому ни слова, мой господин срывается с места и летит со всех ног, бежит, догоняя мою незнакомку. Она шла как ветер, но колыхавшийся господин настигал, настиг, девушка вскрикнула – и… я благословляю судьбу за превосходную сучковатую палку, которая случилась на этот раз в моей правой руке. Я мигом очутился на той стороне тротуара, мигом незваный господин понял, в чем дело, принял в соображение неотразимый резон, замолчал, отстал и, только когда уже мы были очень далеко, протестовал против меня в довольно энергических терминах. Но до нас едва долетели слова его.
– Дайте мне руку, – сказал я моей незнакомке, – и он не посмеет больше к нам приставать.
Она молча подала мне свою руку, еще дрожавшую от волнения и испуга. О, незваный господин! как я благословлял тебя в ту минуту! Я мельком взглянул на нее: она была премиленькая и брюнетка – я угадал; на ее черных ресницах еще блестели слезинки недавнего испуга или прежнего горя, – не знаю. Но на губах уже сверкала улыбка. Она тоже взглянула на меня украдкой, слегка покраснела и потупилась.
– Вот видите, зачем же вы тогда отогнали меня? Если б я был тут, ничего бы не случилось…
– Но я вас не знала: думала, что вы тоже…
– А разве вы теперь меня знаете?
– Немножко. Вот, например, отчего вы дрожите?
– О, вы угадали с первого раза! – отвечал я в восторге, что моя девушка умница: это при красоте никогда не мешает. – Да, вы с первого взгляда угадали, с кем имеете дело. Точно, я робок с женщинами, я в волненье, не спорю, не меньше, как были вы минуту назад, когда этот господин испугал вас… Я в каком-то испуге теперь. Точно сон, а я даже и во сне не гадал, что когда-нибудь буду говорить с какой-нибудь женщиной.
– Как? не-уже-ли?
– Да, если рука моя дрожит, то это оттого, что никогда еще ее не обхватывала такая хорошенькая маленькая ручка, как ваша. Я совсем отвык от женщин; то есть я к ним и не привыкал никогда; я ведь один… Я даже не знаю, как говорить с ними. Вот и теперь не знаю – не сказал ли вам какой-нибудь глупости? Скажите мне прямо; предупреждаю вас, я не обидчив…
– Нет, ничего, ничего; напротив. И если уже вы требуете, чтоб я была откровенна, так я вам скажу, что женщинам нравится такая робость; а если вы хотите знать больше, то и мне она тоже нравится, и я не отгоню вас от себя до самого дома.
– Вы сделаете со мной, – начал я, задыхаясь от восторга, – что я тотчас же перестану робеть и тогда – прощай все мои средства!..
– Средства? какие средства, к чему? вот это уж дурно.
– Виноват, не буду, у меня с языка сорвалось; но как же вы хотите, чтоб в такую минуту не было желания…
– Понравиться, что ли?
– Ну да; да будьте, ради Бога, будьте добры. Посудите, кто я! Ведь вот уж мне двадцать шесть лет, а я никого никогда не видал. Ну, как же я могу хорошо говорить, ловко и кстати? Вам же будет выгоднее, когда все будет открыто, наружу… Я не умею молчать, когда сердце во мне говорит. Ну, да все равно… Поверите ли, ни одной женщины, никогда, никогда! Никакого знакомства! и только мечтаю каждый день, что наконец-то когда-нибудь я встречу кого-нибудь. Ах, если б вы знали, сколько раз я был влюблен таким образом!..
– Но как же, в кого же?..
– Да ни в кого, в идеал, в ту, которая приснится во сне. Я создаю в мечтах целые романы. О, вы меня не знаете! Правда, нельзя же без того, я встречал двух-трех женщин, но какие они женщины? это все такие хозяйки, что… Но я вас насмешу, я расскажу вам, что несколько раз думал заговорить, так, запросто, с какой-нибудь аристократкой на улице, разумеется, когда она одна; заговорить, конечно, робко, почтительно, страстно; сказать, что погибаю один, чтоб она не отгоняла меня, что нет средства узнать хоть какую-нибудь женщину; внушить ей, что даже в обязанностях женщины не отвергнуть робкой мольбы такого несчастного человека, как я. Что, наконец, и все, чего я требую, состоит в том только, чтоб сказать мне какие-нибудь два слова братские, с участием, не отогнать меня с первого шага, поверить мне на слово, выслушать, что я буду говорить, посмеяться надо мной, если угодно, обнадежить меня, сказать мне два слова, только два слова, потом пусть хоть мы с ней никогда не встречаемся!.. Но вы смеетесь… Впрочем, я для того и говорю…
– Не досадуйте; я смеюсь тому, что вы сами себе враг, и если б вы попробовали, то вам и удалось, может быть, хоть бы и на улице дело было; чем проще, тем лучше… Ни одна добрая женщина, если только она не глупа или особенно не сердита на что-нибудь в эту минуту, не решилась бы отослать вас без этих двух слов, которых вы так робко вымаливаете… Впрочем, что я! конечно, приняла бы вас за сумасшедшего. Я ведь судила по себе. Сама-то я много знаю, как люди на свете живут!
– О, благодарю вас, – закричал я, – вы не знаете, что вы для меня теперь сделали!
– Хорошо, хорошо! Но скажите мне, почему вы узнали, что я такая женщина, с которой… ну, которую вы считаете достойной… внимания и дружбы… одним словом, не хозяйка, как вы называете. Почему вы решились подойти ко мне?
– Почему? почему? Но вы были одни, тот господин был слишком смел, теперь ночь: согласитесь сами, что это обязанность…
– Нет, нет, еще прежде, там, на той стороне. Ведь вы хотели же подойти ко мне?
– Там, на той стороне? Но я, право, не знаю, как отвечать; я боюсь… Знаете ли, я сегодня был счастлив; я шел, пел; я был за городом; со мной еще никогда не бывало таких счастливых минут. Вы… мне, может быть, показалось… Ну, простите меня, если я напомню: мне показалось, что вы плакали, и я… я не мог слышать это… у меня стеснилось сердце… О Боже мой! Ну, да неужели же я не мог потосковать об вас? Неужели же был грех почувствовать к вам братское сострадание?.. Извините, я сказал сострадание… Ну, да, одним словом, неужели я мог вас обидеть тем, что невольно вздумалось мне к вам подойти?..
– Оставьте, довольно, не говорите… – сказала девушка, потупившись и сжав мою руку. – Я сама виновата, что заговорила об этом; но я рада, что не ошиблась в вас… но вот уже я дома; мне нужно сюда в переулок; тут два шага… Прощайте, благодарю вас…
– Так неужели же, неужели мы больше никогда не увидимся?.. Неужели это так и останется?
– Видите ли, – сказала, смеясь, девушка, – вы хотели сначала только двух слов, а теперь… Но, впрочем, я вам ничего не скажу… Может быть, встретимся…
– Я приду сюда завтра, – сказал я. – О, простите меня, я уже требую…
– Да, вы нетерпеливы… вы почти требуете…
– Послушайте, послушайте! – прервал я ее. – Простите, если я вам скажу опять что-нибудь такое… Но вот что: я не могу не прийти сюда завтра. Я мечтатель; у меня так мало действительной жизни, что я такие минуты, как эту, как теперь, считаю так редко, что не могу не повторять этих минут в мечтаньях. Я промечтаю об вас целую ночь, целую неделю, весь год. Я непременно приду сюда завтра, именно сюда, на это же место, именно в этот час, и буду счастлив, припоминая вчерашнее. Уж это место мне мило. У меня уже есть такие два-три места в Петербурге. Я даже один раз заплакал от воспоминанья, как вы… Почем знать, может быть, и вы, тому назад десять минут, плакали от воспоминанья… Но простите меня, я опять забылся; вы, может быть, когда-нибудь были здесь особенно счастливы…
– Хорошо, – сказала девушка, – я, пожалуй, приду сюда завтра, тоже в десять часов. Вижу, что я уже не могу вам запретить… Вот в чем дело, мне нужно быть здесь; не подумайте, чтоб я вам назначала свидание; я предупреждаю вас, мне нужно быть здесь для себя. Но вот… ну, уж я вам прямо скажу: это будет ничего, если и вы придете; во-первых, могут быть опять неприятности, как сегодня, но это в сторону… одним словом, мне просто хотелось бы вас видеть… чтоб сказать вам два слова. Только, видите ли, вы не осудите меня теперь? не подумайте, что я так легко назначаю свидания… Я бы и не назначила, если б… Но пусть это будет моя тайна! Только вперед уговор…
– Уговор! говорите, скажите, скажите все заранее; я на все согласен, на все готов, – вскричал я в восторге, – я отвечаю за себя – буду послушен, почтителен… вы меня знаете…
– Именно оттого, что знаю вас, и приглашаю вас завтра, – сказала, смеясь, девушка. – Я вас совершенно знаю. Но смотрите, приходите с условием; во-первых (только будьте добры, исполните, что я попрошу, – видите ли, я говорю откровенно), не влюбляйтесь в меня… Это нельзя, уверяю вас. На дружбу я готова, вот вам рука моя… А влюбиться нельзя, прошу вас!
– Клянусь вам, – закричал я, схватив ее ручку…
– Полноте, не клянитесь, я ведь знаю, вы способны вспыхнуть, как порох. Не осуждайте меня, если я так говорю. Если б вы знали… У меня тоже никого нет, с кем бы мне можно было слово сказать, у кого бы совета спросить. Конечно, не на улице же искать советников, да вы исключение. Я вас так знаю, как будто уже мы двадцать лет были друзьями… Не правда ли, вы не измените?..
– Увидите… только я не знаю, как уж я доживу хотя сутки.
– Спите покрепче; доброй ночи – и помните, что я вам вверилась. Но вы так хорошо воскликнули давеча: неужели ж давать отчет в каждом чувстве, даже в братском сочувствии! Знаете ли, это было так хорошо сказано, что у меня тотчас же мелькнула мысль довериться вам…
– Ради Бога, но в чем? что?
– До завтра. Пусть это будет покамест тайной. Тем лучше для вас; хоть издали будет на роман похоже. Может быть, я вам завтра же скажу, а может быть, нет… Я еще с вами наперед поговорю, мы познакомимся лучше…
– О, да я вам завтра же все расскажу про себя! Но что это? точно чудо со мной совершается… Где я, Боже мой? Ну, скажите, неужели вы недовольны тем, что не рассердились, как бы сделала другая, не отогнали меня в самом начале? Две минуты, и вы сделали меня навсегда счастливым. Да! счастливым; почем знать, может быть, вы меня с собой помирили, разрешили мои сомнения… Может быть, на меня находят такие минуты… Ну, да я вам завтра все расскажу, вы все узнаете, все…
– Хорошо, принимаю; вы и начнете…
– Согласен.
– До свиданья!
– До свиданья!
И мы расстались. Я ходил всю ночь; я не мог решиться воротиться домой. Я был так счастлив… до завтра!
Ночь вторая
– Ну, вот и дожили! – сказала она мне, смеясь и пожимая мне обе руки.
– Я здесь уже два часа; вы не знаете, что было со мной целый день!
– Знаю, знаю… но к делу. Знаете, зачем я пришла? Ведь не вздор болтать, как вчера. Вот что: нам нужно вперед умней поступать. Я обо всем этом вчера долго думала.
– В чем же, в чем быть умнее? С моей стороны, я готов; но, право, в жизнь не случалось со мною ничего умнее, как теперь.
– В самом деле? Во-первых, прошу вас, не жмите так моих рук; во-вторых, объявляю вам, что я об вас сегодня долго раздумывала.
– Ну, и чем же кончилось?
– Чем кончилось? Кончилось тем, что нужно все снова начать, потому что в заключение всего я решила сегодня, что вы еще мне совсем неизвестны, что я вчера поступила, как ребенок, как девочка, и, разумеется, вышло так, что всему виновато мое доброе сердце, то есть я похвалила себя, как и всегда кончается, когда мы начнем свое разбирать. И потому, чтоб поправить ошибку, я решила разузнать об вас самым подробнейшим образом. Но так как разузнавать о вас не у кого, то вы и должны мне сами все рассказать, всю подноготную. Ну, что вы за человек? Поскорее – начинайте же, рассказывайте свою историю.
– Историю! – закричал я, испугавшись, – историю! Но кто вам сказал, что у меня есть моя история? у меня нет истории…
– Так как же вы жили, коль нет истории? – перебила она смеясь.
– Совершенно без всяких историй! так жил, как у нас говорится, сам по себе, то есть один совершенно, – один, один вполне, – понимаете, что такое один?
– Да как один? То есть вы никого никогда не видали?
– О нет, видеть-то вижу, – а все-таки я один…
– Что же, вы разве не говорите ни с кем?
– В строгом смысле, ни с кем.
– Да кто же вы такой, объяснитесь! Постойте, я догадываюсь: у вас, верно, есть бабушка, как и у меня. Она слепая, и вот уже целую жизнь меня никуда не пускает, так что я почти разучилась совсем говорить. А когда я нашалила тому назад года два, так она видит, что меня не удержишь, взяла призвала меня, да и пришпилила булавкой мое платье к своему – и так мы с тех пор и сидим по целым дням; она чулок вяжет, хоть и слепая; а я подле нее сиди, шей или книжку вслух ей читай – такой странный обычай, что вот уже два года пришпиленная…
– Ах, Боже мой, какое несчастье! Да нет же, у меня нет никакой бабушки.
– А коль нет, так как это вы можете дома сидеть?..
– Послушайте, вы хотите знать, кто я таков?
– Ну, да, да!
– В строгом смысле слова?
– В самом строгом смысле слова!
– Извольте, я – тип.
– Тип, тип! какой тип? – закричала девушка, захохотав так, как будто ей целый год не удавалось смеяться. – Да с вами превесело! Смотрите: вот здесь есть скамейка; сядем! Здесь никто не ходит, нас никто не услышит, и – начинайте же вашу историю! потому что, уж вы меня не уверите, у вас есть история, а вы только скрываетесь. Во-первых, что это такое тип?




