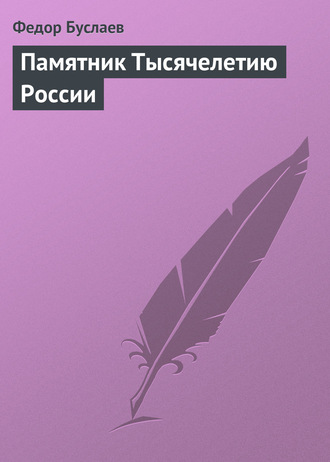
Федор Буслаев
Памятник Тысячелетию России
Наконец, по изображению, приложенному к Месяцеслову на 1862 г., вся Русь, читающая и нечитающая, может теперь познакомиться в общих чертах с памятником, который воздвигается в память ее тысячелетнего существования, с того знаменитого дня, когда наши предки пошли искать себе суда и расправы за море к варягам, простодушно сознаваясь им, что земля наша велика и обильна, а порядка в ней нет.
Перед художником была самая обширная задача – изобразить тысячелетнее водворение порядка в этой великой и обильной земле. Для решения этой задачи не довольно было одной фантазии и художественного такта, надобно было воспользоваться результатами русской исторической науки, чтоб дать памятнику соответствующее цели содержание. Воссоздавая все прошедшее нашего отечества, художник брал на себя тяжелую ответственность и перед будущими поколениями, завещая им в монументальных формах гранита и бронзы национальное сознание нашего века о своей собственной исторической жизни. Это не только усердная дань любви к отечеству, воспитанной благородною национальною гордостью, но и строгий урок потомкам, красноречивая межа, которою старое тысячелетие русской жизни будет разграничиваться для них от новых веков и тысячелетий. Трудно угодить и на современников в каком-нибудь мелком ландшафте или ювелирной безделке; но стать пред лицом всего прошедшего и всей будущности такого великого исторического народа, как народ русский, в сооружении памятника его тысячелетнему бытию, – это такая задача, от которой только разве у истинного гения не закружится голова и не займется дух, при мысли о той высоте исторического, национального сознания, с которой художественное творчество должно господствовать и над прошедшими и над будущими судьбами нашего отечества.
Художник, глубоко проникнутый идеею своего произведения, конечно, не найдет преувеличенья в этих, впрочем, столь естественных требованьях от памятника, самый смысл которого определяется веками и границею между двумя тысячелетиями.
Малый размер изображения, к тому же снятого только с одной стороны памятника, не дает возможности входить в подробности художественного исполнения. Теперь следует ограничиться только отдельными сюжетами, вошедшими в состав содержания памятника и его общим характером, то есть его архитектурными линиями и отношением их к скульптурным частям.
Сначала о содержании.
Верхняя группа, состоящая из двух фигур, изображает православную веру, – как сказано в описании. Сколько можно судить по мелкому рисунку, – это коленопреклоненная женская фигура перед ангелом, держащим крест. Почему же все это вместе должно изображать православную веру? Почему не вообще христианскую? Мне кажется, точно также мог бы изобразить веру и католик и реформат какого-нибудь толка. Без сомнения, в подробностях, которых теперь не видать, выражена отличительная черта православия; но самая группа не дает никакого на то намека. Крест и ангел – вещи понятные; но что такое эта коленопреклоненная женщина? Молодая она или старая? Зачем на ней это широкое одеяние, будто со шлейфом? В каком отношении это одеяние состоит с преданьями православной старины, если уж в группе обе фигуры должны выражать идею православной веры? Почему у этой женской фигуры рука обнажена почти по локоть? Как эта подробность гармонирует с идеею православия, если уж от художественного произведения привыкли требовать согласия между идеею и формою, и если самый костюм в разные времена и в разных народностях соответствовал быту и даже нравственным и религиозным убеждениям? Одним словом, какой именно определительный тип выражен в этой фигуре? Искусство восточное и западное предлагало художнику целый ряд типов в представлении христианской церкви, иудейской синагоги, божественной премудрости и т. п. Имеет ли эта женская фигура что-нибудь общее с этими и с другими им подобными, установившимися типами, или художник создал новый идеал, внес новый образ в христианскую символику? Тогда могут спросить: согласно ли с идеею православия, здесь выраженною, внесение этого нового элемента, может быть, и прекрасного, но идущего ли к делу? – Уже не сама ли это Русь? Не ее ли протекшая история, преклонившая колена перед крестом? Тогда опять вопрос: почему такой именно тип и в таком костюме выражает нашу историю и национальность? Художественная критика не имеет права посягать на свободу творчества, предоставляя ему совершенный простор в создании более точных, боле характеристических и изящных форм для выражения идей, но когда художник берется за воссоздание исторического преданья в памятнике тысячелетию целой России, когда он думает выразить идею православной веры, которая вся живет преданьем, то всего естественнее спросить, как он умел примирить свою творческую свободу с тем, что дала ему история и современная народность, для того именно, чтоб найти наиболее соответствующие формы для задуманной идеи, то есть, чтоб эта группа действительно выражала идею православной веры, чтоб эта идея не оставалась пустою фразою только в описании памятника, а была бы художественно воссоздана в самом произведении. Кто найдет такое требованье от искусства несовременным, тот еще новый и более трудный вопрос сделает художнику: зачем он взялся за выражение такой идеи, которая уже не находит себе приличных форм в современном искусстве? – Художественная критика строго отделяет себя от богословских прений о разделении церквей и т. п. Но когда ей говорят, что вот именно такой-то церковный оттенок должен быть выражен в такой-то группе, то уже для одной только художественной оценки необходимо знать: ясно ли говорят самые формы о том, что художник хотел ими сказать?







