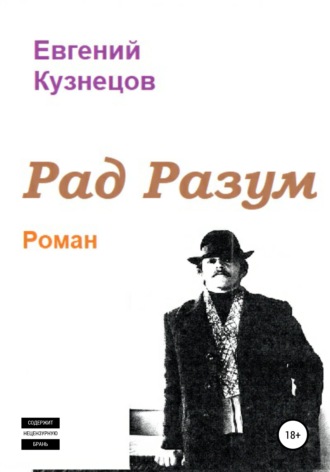
Евгений Владимирович Кузнецов
Рад Разум
Что она говорит?.. Что они слышат?..
Но ведь говорю же там – не я.
И значит – сонные взрослые детей усыпляют!..
…В малом мире – неполные и семьи.
Мать и сын, такие-то, договорились: кто позвонит в дверь – не открывать. Ибо сыну – или, по годам, в армию, или, по тем же годам… вечерком опять в бар. Но опять, что у них зачастую, поругались. Мать – на звонок-то! – со зла и открой. Сына и «забрили». Он ей – из всего лексикона вузовского: «Сволочь!» И ещё. Ломился-то к ним… его же дружок, работник военкомата! – Знал, какой призывник дома прячется. Он же их и утешил: «Не сдала бы ты, всё равно – план-то, сдал бы я!»
Добавить бы ему – если б истинное-то давалось образование: всё равно тебе, где дышать, – что дома, что в армии.
…Прошлым летом по улице – мужик в одних трусах. И – с огромным сизо-синим собором во всю спину! А – для того и голый…
Колония, за «колючкой», никуда не денешься, мала, и срок, как бы ни был велик, всё равно, с «вышкой» сравнить, мал… так что надо себя что называется поставить, а то тебя… там… поставят… Но и тут, «на воле», – то же…
Несмотря на то, что в руке бутылка красного и в тапочках домашних, кроме трусов, одних – взгляд внимателен. – Видят ли?!.. Всю жизнь был на глазах на «зоне», в перерывах – на глазах вольных. Но поскольку на зоне он блатной, и все это знают, то тут, на воле краткосрочной, ему и приходится рекомендовать себя экстравагантно.
…Я – что теперь между Небом и Землёй – в поисках должности приемлемой… с содроганием некоторым недавно обратил внимание… на самый, впрочем, доступный труд… который каждое бы утро у меня под рукой, точнее – под ногой.
Дворник моего двора – повёл рукой с сигаретой по обзору своего участка: в месяц ему, какой ни есть, стабильно несколько тысяч.
Но – что за образ жизни у человека с метлой!..
Рассказывает похмельно-запальчиво: и тёща, и жена – пьют. И только. Он, дескать, им: не буду вас хоронить!.. Так, мол, вскоре и вышло: тёщу – в чёрном полиэтиленовом мешке где-то зарыли, потом в полиэтиленовом чёрном – жену…
Спустя немного – слышу от дворника от незнакомого: прежний, дескать, туда же и точно так же…
С ним неинтересно – он живёт в первый раз.
Приятель стал ко мне заходить.
(О сонных – как-то даже странно… так запросто говорить!..)
Мир журналистский, как и всякий мир профессиональный, такой же коммуникативный, внутри самого себя, как, например, уголовный (кого «взяли») или чиновничий (кого «повысили»).
Н-да. Вениамин.
Он придёт…
Я не спеша делаю уборку.
Постоит, покурит у окна…
Я не спеша листаю книгу.
Посидит, поострит…
И уйдёт.
Я-то «сокращён» и недавно.
А он – сам ото всюду увольнялся и постоянно.
Веня да Веня – так его всегда и всюду все.
Подойдёт ещё к моим книгам: этого он давно не читал… этого недавно перечитать собирался… но он, автор, ведь – вот такой… а этот – вот такой…
И сам всё ждёт – как я с грустью чувствую – от меня какой-то критики: в адрес ли редакции, в адрес ли политики, в адрес ли хотя бы времени.
Я не спеша – и оправданно: вместо ответа – предлагаю ему чаю.
И он… не знает, хочет ли чаю…
И крутит чашку в блюдце.
А я – уже с возмущением чувствую, что он знает, что я о нём это всё знаю… что он и молчит, чтобы сделать именно моё молчание нетактичным…
В одно мгновение – словно тяжёлая цепь – перебегает от него ко мне гремящий каскад его, всем известных, обстоятельств.
Живёт с матерью… То есть – с одинокой матерью он, одинокий… Вроде бы был женат, воде бы развёлся… Мать уж на пенсии. Где теперь работает?.. И работает ли?.. Во всех-то местных газетах его знают… Пишет, конечно, мало, ленится… Чаще фотографирует… И всё винит свою устаревшую аппаратуру…Недавно приобрёл «супер»… На какие «шиши»?..
Но я – всегда перемолчу.
Иногда он срывается и начинает сплетничать.
В первый раз, как меня сократили…
(Ну, надоело об этом!..)
В первый раз он было прямо вбежал ко мне – полный смеха, полный иронии, полный дружества!..
Но мне тогда – внутренне-то, главное, освобождённому – его визит был как раз не кстати.
А он, видно, решил, что я расстроен.
Он – тактичный.
В следующий раз он пришёл уже серьёзный.
Посетовал на несправедливость на систему этих «сокращений».
Потом на что-то рассмеялся!
А я… даже и не понял, о чём он… так как в эту минуту вдруг подумал… что он живёт на пенсию матери…
И при этом – мы смотрели друг на друга!..
…Однажды мы с ним шли по улице – и оказалось, что возле его дома.
Или он этак нарочно?..
Его мать тут прогуливала собачку.
Познакомились.
Разговаривали – хорошо помню – как-то неспешно… как бы во сне…
Она – деликатная.
После это я о нём – стал себе так: он – какой-то навязчиво-тактичный… болезненно-тактичный…
Лишь однажды он спросил меня – и весомо, напористо, дерзко:
–– Куда думаешь-то?
–– Устроюсь куда-нибудь.
В другой раз стал хвалиться мимолётной половой связью…
И был какой-то сосредоточенный…
Ему, разумеется, ничего говорить о себе нельзя.
Раз он зашёл ко мне с фотоаппаратом своим огромным на плече; на другом плече – объектив, что ли, в чехле.
И приступил – не спросив меня! – к фотосъёмке.
Я, впрочем, стал, по его команде, перемещать себя в пространстве квартиры…
Я предложил ему деньги.
Он промолчал.
Сколько?..
Он промолчал…
…Не помню, заходил ли он ко мне ещё хоть раз после этого.
Потом, через какое-то время слышу: удавился!..
Я сразу себе: виноват – я!
«Не помню… заходил ли…» – После чего «этого»?..
Зачем же тогда я ему… предложил!
Ведь он, видя мой покой, мог предположить во мне… какой-то, что ли, идеал…
А я – предложив вместо участия деньги – доказал ему, что… как я сам теперь выражаюсь… мир мал!
И – нет в мире благородства.
Вернее – чистого благородства.
Ещё вернее – болезненно-чистого благородства!..
Ведь он, неудачник по жизни, во всём в жизни гневно и лез на рожон.
…С матерью он, конечно, в очередной раз поругался.
Ведь он – конечно, конечно! – во все свои неудачи мать посвящал.
Она – она родила его одна. Одного. Она – она питала, одевала, растила, учила его одного. Одного. Он – единственный; и это стало нормой для него, для неё. И, как они за всех решили, – вообще. А у него – то это, то это… И – как себе сделать больно больнее?.. И – для кого сделать больнее больного?!..
В ванной. На трубе.
Именно – дома!..
…С ним было неинтересно.
…Подлинный пафос общения – пафос недоумения. – При отслеживании друг друга на этом свете.
Она, мама, со мной никогда – никогда всерьёз ни о чём не говорила.
Только поглядывала пристально.
Лишь бегло небуднично выговаривала уж самое насущное.
В детстве разве и в отрочестве ещё что-то и выражала на моё упрямство и вздор, но всё это в словах, какие и в школе, педагогических.
–– Одевайся!
–– Иди умойся!
–– Садись ешь!
Не знала, не знала, что сказать…
–– Учи уроки!
–– Сиди прямо!
Не знала, что сказать… Иначе бы я этого не чувствовал!
–– Иди гуляй!
–– Иди домой!
–– Вымой руки!
–– Ешь!
–– Ложись спать!
А лишь я в старших классах – не только поглядывала, но уж и вздыхала.
Будто я в чём-то виноват. Ощущение, впрочем, – живое и явное!..
И – чтоб я не забываясь волновался.
Да она не знала – что самой-то себе сказать!
Теперь понятно…
Нет! И всегда, всегда было мне понятно, понятно: не знала, не знала, что себе сказать.
И поэтому – именно поэтому в домашнем воздухе висело всегдашнее виноватящее: мы тебя кормим, одеваем, мы даём тебе пример труда и честности. И поэтому – само собою всё остальное с тобой должно быть. Тем более – ещё и учителя и учебники. Чего тебе ещё?!..
Но опять – в самое детство. Там – откровеннее.
Отслеживание друг друга – уже с тех пор.
Все всегда – за мною: что-то, дескать, у него на уме?..
И лишь тогда открыто и точно мне в глаза:
–– Нарочно капризничает!
Верно! Вот это – верно.
И так бы – всю жизнь, и – каждый каждому.
Да, нарочно.
Да и все-то всегда всё делают нарочно. И что делают? – По сути одно: спровоцировать другого!.. спровоцировать проговориться!.. проговориться о смысле жизни!..
А отрочество – сосредоточенно откровенно.
Я, придя из школы, – бабушке:
–– Человек треть жизни проводит во сне!
Бабушка головой качает… ногти грызёт… и о чём-то нетерпеливо молчит…
А о том, чтобы мои слова вечером передать – маме, маме!
Она – она ни в ком в жизни не нуждалась. – Если о мужчинах. – Ни в муже, ни в сыне.
Уважала – бабушку свою и мать.
Эмансипированная, по-книжному, – урождённая и убеждённая!..
Но вот… грядёт, грядёт событие…
И она – вдруг именно мне:
–– Ты, что ли, меня хоронить-то будешь?
Тому, кто считает её – вечной, вечной!..
Оказывается, у неё… всего-то и заботы…
И в последние свои годы – то-то чуть не плясала, с палкой-то, перед дочкой и перед… своей, конечно, этой… сестрой!..
И даже – гордая-то! – о всех смертных:
–– Обо мне люди плохого не скажут!
…Как грустно!
Середина ноября – а снег то идёт, то тает…
Конечно, снег будет, будет.
Но уже в этом году – не будет первого, первого снега!..
…В том городе… в том, где теперь она сейчас… в холодной бетонной комнате… среди других, на столах, под простынями, холодная… в этом городе у неё была подруга… тоже – была…
Самая, как она говорила, лучшая её подруга на всю жизнь, с молодости.
Почему-то – она.
Встречались редко.
Приезжала всегда та к маме; ну, самое большее – если переночует.
О чём же говорили?
Может, потому эта была лучшая, что я всегда, с детства, ощущал на себе… их одновременные колкие молчаливые взгляды.
Виноватящие-то!..
Их тихий укромный разговор, их эти взоры молчащие сосредоточенные – выражали по сути одно: вот я, вот ты, вот мы с тобой живые… вот он, мой сын, твой сын… вот мы всё на этом свете… Так ли переходим эту жизнь, которая – жизнь?.. Так ли – он?..
…Так что с датой своего дня рождения – нарочно меня не поправляла.
Чтоб уж – все были виноваты!
А я, дескать, – вот сколь несчастна.
Она не знала, не знала… что такое жизнь.
–– Говорят, когда будешь умирать, перед тобой в один миг предстанет вся твоя жизнь.
Если можно угадать, определить будущее, то будущее существует уже и сейчас – и значит, оно руководит настоящим!
Сегодня вдруг вспомнился тот миг… тогда мне было около сорока… когда я однажды ни с того, ни с сего почувствовал, будто я… умер!
Я тогда, помню, ходил сам не свой… не веря этому своему чувству… и попросту ждал, ждал, когда это состояние неуюта иссякнет…
Слышал, раз или два, признания: так, мол, бывает именно в этом возрасте, именно в эти годы.
И теперь лишь тому ощущению – нашлось объяснение истинное, свежее и очевидное.
Я в тот грустный миг памятный ощутил – что: у меня, надомною – нет некой крыши, кровли, некоего, что ли, оберегающего зонта!
Этим колпаком, тонким и уютным, до этого было моё восприятие себя неотъемлемым – среди ли родни, среди ли друзей… в обществе ли всём, в природе ли всей целиком?..
И вот – прохлада… ветер… над моей головой, над моими плечами!..
Лишь теперь – мир мал! – я горестно смел… и смело печален.
И родство – сон? – Нет, родство – кровь! – не сон.
А вот чувство родства – да, сон.
Мои родители, моя сестра, потом… эта самая тётка, да и прочая родня – люди, ведь люди. – А что они за люди?!..
Ты же давал в школе характеристики тем «персонажам», а потом на юрфаке – даже «квалификации» живым людям…
А раз не давал оценку столь принципиальную самым близким – неужели был не во сне?!
…Я, помню, только из армии. Лет двадцати. В вуз-то поступил в тот год?
Раз принёс грибов – кучу: что делать? Мама, сестра: то-то и то-то. А как мариновать – лучше всего знает тётя. Ну! Как всегда.
Тётка тогда мне – стоя среди комнаты, руки в бока… ей было, значит, ещё лет сорок… голосом чётким, учительским – само собой, да ещё и – привычным:
–– Три дольки чесноку!.. пять горошин чёрного перца!.. корицы!.. гвоздики!..
Я, помню, слушаю – а сам, оглашённый, вдруг подумал: так вот почему… у неё спился и помер муж!.. и как же с нею рядом живёт… мой брат двоюродный?!..
Ведь она-то, дебилка, сейчас полагает… что я, внимая ей… её уважаю…
И – помню – стал записывать… на бумажке… рецепт-то… для вида!..
От страха, от страха…
Чтоб не захихикать! – Чтоб не вышло скандала. – Чтобы не обиделась мама.
…Вот!
О волнующем… по радио – о волнующем.
Мужчин сейчас – тридцать восемь процентов… женщин – шестьдесят, в процентах, два…
Процента – процента.
Возраст средний мужчин – шестьдесят два года… У женщин семьдесят да четыре…
Два – четыре.
А, дескать, – «всемирное вымирание мужчин»!
В виде алкоголя, самоубийств…
Сердце моё – билось.
И все эти, меж собой, цифры и проценты, в эфир-то не просто так и этак, а – по сути «избиение мужчин женщинами»…
Сердце у меня билось… как бы где-то в голове!
Я догадался, что на губах моих… улыбка!.. Какая – когда говорят о тебе. Притом – когда хвалят тебя.
А сейчас – ну раз чувствую – именно хвалили.
Ведь об этом, обо всём этом самом – только всегда и думаю.
Как о самом важном.
И может, да, с самого отрочества.
С того страшного!.. с того страшного!..
Ныне уж – так прямо.
Мужчины – вырождаются!..
Это… о ком же?
То есть – их число по отношению к женщин числу.
И надо, дескать, заботиться – о «данного биологического пола» сбережении и буквально о «данного пола» сохранении.
Женщин – больше чуть не вдвое…
Мужчин женщины – бьют!
В семьях если – ими командуют!
…И что?
То есть, что – я?..
Сходу бы так, журналист.
Надо создать партию мужчин!
А то: женское движение в мире есть, а – мужское?
Однако – подлинное вымирание мужчин: ибо хоть кто-то бы из них один… хоть где-то и хоть как-то об этом!
Движение нынешнее собственно мужское – разве что пьяниц по улицам в поисках похмелки… и – по тем же улицам чиновников к департаментам и думам…
…В студентах было: примечательно – только что Союз рассыпался и «цены отпустили»; приятель мой, сокурсник, с которым мы в одной «общаге», вдруг залёг на койку свою – и том за томом ещё раз всё собрание писателя своего Падучего, как он любовно его называл.
В страхе, признаться, я на него поглядывал… Ведь тут, в своём роде, та «депрессуха»…
Сам же комментировал мысленно.
У автора того все романы, по сути, – романы-хождения. Все герои его по всем романам его ходят и ходят, ходят и ходят. Друг к другу-то, друг от друга-то. А – чтобы побольше поговорить. И к чему же все разговоры их сводятся? – Веруешь ли ты в Бога?.. В Бога – веруешь ли?.. В Бога ли веруешь?..
И это – ещё за несколько десятков лет до первой революции!
Так вот откуда целый двадцатый век, сколько их, революций!
Доходились! Добродились!
Договорились… Доболтались…
(Или… топтались в нетерпении… метались в истерике… ожидая неминуемого… фантастического будущего?!..)
Вот, то есть, когда начинался в стране, обществе кризис – подлинный Кризис.
И он, Кризис, всего-навсего второй век продолжается… порывисто длится…
Концлагерь… Атом… Космос… Спид…
Ну и, это уж в довесок, – алкоголь… петля… героин… окно…
Где были в эти два века философы?
И, в таком случае, – чего хотела от них Философия?..
…Мужчина изобрёл водопровод – и лишил женщину поэтической грации с коромыслом!
И далее он – все самогубительные усилия.
Изобрёл, недотёпа, паровое отопление – и не нужен сделался даже в качестве дровосека.
Изобрёл телевизор – и не ждут его даже развлечься.
Те, у кого печать в паспорте, чтоб хоть на что-то сгодиться… стали отдавать женщинам свою заработную плату!.. – Окончательное, в данной популяции, признание своего унижения!
Вырождение мужчин – мир мал! – предстоит и во всём мире.
(Но ведь этот факт можно сформулировать иначе: именно – в этом, значит – они переселятся в мир в тот, в тот…)
И ежели, однако, почти все политики, миллиардеры, лётчики и танкисты – мужчины, то – то это их прилежание и мужество… есть синдром вырождения?!
К тому же – без приоритета ценности Невидимого – мужчины и женщины равно самоубийственно пребывают в коме будней.
О семьи современной кризисе – теперь и не формулируют: семьи – нет, нет; есть юридические тонкости, только и всего…
Похабное самое, скабрёзное самое – почему именно, и у человека, и у человечества, по поводу всего полового?.. Давшего и дающего единственно и исключительно семя и гнездо собственно жизни!..
В сказках всех стран мира зафиксировано одинаковое происхождение смеха и… срама, срама и… смеха – непременных, оказывается, культурных соседей-спутников.
Так вот. Смехом засмеялся на планете Земля впервые человек – истинно явление Природы! – а именно – мужчина!.. и, в чём и суть, – задумчивый!.. при виде… тела человеческого… оголённого внезапно… по-современному изъясняясь: «ниже пояса»… притом – женщины!.. притом – по её доброй, то есть догадливой, воле!..
По телевизору несколько лет тому: двенадцатилетний мальчишка – он заплакал, когда узнал, что у неё, у этой, с которой он, женщины, будет ребёнок… от него!..
Чисто практичен тут замысел Природы: «сучка не захочет – кобель не вскочит».
Однако – и время определить буднично: от какого пола истекает(!) искони так называемое нецензурное, и от какого – всё так называемое мыслительное.
А то ведь ржание, уже – совместное, и повсеместное, и повседневное есть, выходит… экстаз лицемерия.
Всей и разницы – мир-то мал: вместо языческих фаллосов – фаллические же на всех площадях истуканы (предположительно – с яйцами…) в неснимаемых штанах.
…Далеко чтоб не ходить – «сократил»-то меня… мужик, мужик; редактор, он мне давнишний вроде бы приятель.
Я ему, признаюсь, посмотрел – поглядел в глаза: дескать, из солидарности хоть, ну, из этой самой…
Он отреагировал внятно:
–– Меня в коллективе не поймут.
Нет-нет-нет! – Он, конечно, прав, прав.
И мне хотелось, как всегда, только единственного: разведать, насколько живое – живое.
…Мужчины совершенно исчезнут… примерно через сто пятьдесят тысяч лет?
Но пока – в течение этих тысяч-то! – они, исчезающие и, соответственно, оберегаемые, станут или – всё более и более привилегированной кастой!.. или – редкостной и востребованной породой!..
Или будут иметь, по множеству женщин, гаремы – а значит, не имея к каждой женщине, не-единственной, исключительного уважения, захотят передавать наследство, опять же, – сыну, сыну!.. – возрождая свой, мужской, авторитет.
Или – женщины, некой стабильной общиной, кланом, кругом, будут держать рабов: слуг и осеменителей.
Или – и гаремы, и кланы.
…Вот пример мужчины – воспитанного, то есть, такой средой и таким духом.
Я, тогда студент, оказался среди какого-то праздника, празднующими любимого. Во дворе весеннем тёплом была уже чуть навеселе компания, где и один мой тот знакомый.
Я же – заинтересовался легкомысленно его, тут же была, сестрой.
Среди веселия он мне в сторонке – как бы между прочим и в то же время – ответственно-трезво:
–– Ты не можешь, как надо.
–– А как надо?
–– Не можешь, как надо.
–– А как, как надо?..
–– Не можешь.
–– Да как надо-то?..
Молчит… Круглыми, теперь уж уточню – телячьими, глядит куда-то… просто глядит… просто глаза его глядят…
И тут я – будто вновь увидел, как он только что плясал!
А его та сестра и его невеста, стоя под руку, – смотрели.
А он, не сводя с них зажмуренных в умилении глаз, пляшет – перед ними.
Пляшет и пляшет.
Как пляшут в садике – чтобы похвалили.
Улыбаясь широко-зубасто…
То крутя ладонями у плеч, то болтая руками-плетьми…
И так – неутомимо, откровенно…
Они – молча смотрят.
Он – молча пляшет.
Вот, оказывается, как надо!..
…Я с этим, с мужским, полом с некоторого времени – да как сократили – общаюсь лишь жестами: не курю!.. ехать – туда!.. и – не проси, не дам!
А с женщинами?..
На женщин всегда смотрел, ожидая, есть ли среди них та, которая бы – из моего будущего.
А недавно…
У лотка потребовал – одну луковицу.
Старуха взвесила: на десятку.
Я подал ей купюру.
Луковицу взял.
Жду…
Старуха забылась… как бы…
–– Я подал вам пятьдесят.
–– Помню, помню, сладкий!..
–– Знаю, знаю, что сладкий.
…И вот, наконец-то, пример женщины… которая везде и всюду!.. которую только и слыхать!
Учился я в «универе», потом стал работать, и всё приезжал домой – и каждый раз она тут как тут, да ещё и стала – при мне! при мне! – громко учить маму заваривать чай:
–– Теперь надо чай женить! Надо его женить!
И переливала заварку из чайника в чашку и обратно.
Тётка…
Ой, да я не могу о ней…
Даже вообразить её страшусь…
От гнева!
И… от брезгливости…
И сейчас она… возле мамы?!..
…Мама была – гордость, мама была – твёрдость.
Мама была – уж у себя-то дома – своевольна!
Но удалось ли ей – в её требовательной и взыскательной жизни – хотя бы это, хотя бы это?!..
Сестру, небось, сестрой сама же никогда не называла – за глаза-то; всё – тётей, всё – тётей.
А тётка – тётка её переболтала, пересилила… заглядела!.. зажала!..
Мучение моё – самое тайное…
Признался себе уж прямо.
С мига звонка того – сестры ночью и… до мига звонка моего – в реанимацию… я свежо и ярко видел-слышал… последнее, последние…
…Глаза!
Мокрые красные…
…В последний раз приезжал.
Что-то говорил.
Она молчала.
На кухне.
А суп заранее сварила. Ждала. Мне.…
В зале потом.
Я говорил.
Она слушала…
Кого?..
Что она слушала?!..
…Я привёз ей, да, винограду.
Сам отметил снова, что с какого-то времени… за нею наблюдаю особенно…
Она бродит, говорит – как?..
Ожидать – давно устав…
Против желания – как бы готовясь…
И это всё – уединённо… и это всё –буднично…
…Уже и тогда-то шевельнулось во мне – ещё как грёза смелая: видимый мир – бред… люди – тают, призрачные, в воздухе… перетекая в пространство в иное… а уж душою и духом – натурально.
…Она.
В валенках. В платке. В кофте.
Наклонённая…
Наклонённая!..
За что?!.. Кем?!..
Хотел спросить её обычное: ну как, мол, ты?.. И, сжав зубы, постыдился… устрашился…
Она всегда отвечала:
–– По-разному.
В зале. Включил телевизор. Сам за столом на стуле всегда. – И думал, она сядет рядом, как всегда, на диване.
А нет её и нет…
В спальню заглянул.
Она стоит у лежанки и локтями на лежак уперлась. На горячий?..
–– Мама, чего ты… от меня прячешься?..
Молчит…
Как хотелось – всю-то жизнь – искренности! – Хоть от неё-то…
Вышла всё-таки оттуда, села на диван.
Боже, а это у неё… внутри…
И ужаснулся… дать знать…
…И вот – утром.
Уже одевался.
Она в прихожей –эти минуты – сидела на кушетке. Как всегда.
Но тут – как-то прямо. И лицом – к двери.
Я зашёл к ней со спины и, как всегда, перекрестил её.
–– Ну ладно…
И с сумкой – к этой двери.
…Глаза – мокрые!.. красные!.. сознательные!..
Ведь – мне в спину!
Я и оглянулся.
Сидит – прямая, совершенно прямая… выспренняя… осознающая…
Пьющая минуту.
…Так вот. Так вот.
Что же я не взял предлог задержаться?..
Да что – что же я не кинулся ей в колени?!..
Что же я – не шагнул на потолок?!..
Но ведь она бы поняла, что и я всё – всю её осанку – понял.
И что я – признаю какую-то неизбежность…
Что я признаю – сам, пусть лишь грозящий, факт…
А я не признаю!
А я – не признаю.
И сейчас.
Не признаю.
…Мучение моё – ласковое, мучение моё – сладкое.
3
Боже, что я делаю, я же – живой!..
Так я себе каждый раз.
Выхожу-то когда на улицу.
С тех пор, как сократили, – смотрю, хочу не хочу, либо себе под ноги, либо на облака… либо, ну, на архитектуру.
Если б я вёл себя так, каков я есть на самом деле – с самого бы с отрочества, – про меня шла целая молва, встречные бы оглядывались.
Но я просто шагаю…
А вот все – на серой асфальтовой ленте-эскалаторе: и по воле этой серости.
Дыша загазованном воздухом… Очумелые от голубого «ящика»… Замкнутые в интернетном лабиринте… В пространстве, пропитанном мобильным тиком… Под сводом, загрязнённом «космическим мусором»…
Спящие, спящие.
Да ещё и засоряют мои навечные зрение и слух!
Ненавидел всегда – похабные слова, анекдоты… рисунки, фотографии, фильмы.
И особенно тех, кто эти непристойности озвучивает или множит.
Брезгую вот даже пребывать под взглядами прохожих.
…Недавно и было так – характерно и, как нарочно, густо.
Из магазина звонил подружке, какое взять вино.
Разговаривал, присев у витрины к нижней полке.
Мобильник потом положил в карман в грудной куртки во внутренний.
И тут… ощутил щекой… взгляд на меня…
Взял бутылку. Поднялся.
Но… всё ощущаю…
Подошёл к кассе. Оплатил.
Тут и подошли.
Охрана и продавщица – чей взгляд был на меня у витрины.
–– Вы ничего не забыли оплатить…
–– Нет.
-- …кроме вина?
-- Не забыл.
-- Зайдёмте в эту дверь.
Пошёл с ними.
–– Снимите, пожалуйста, куртку.
Снял.
Повесила куртку на своём пальце… заглянула в карман… в грудной… внутренний…
Я стоял…
Ведь видит же Бог!
Но этак даже и помышлять – красивость…
Но видит же – Невидимый тот Мир!
Стоял…
По диплому – юрист и на весь город – журналист!
–– Извините.
Подала куртку.
–– С праздником вас.
–– Спасибо… А-а…
–– С днём, то есть, всех влюблённых.
А то – сказать бы им…
Скучно бы!
Из магазина выйдя, впрочем, проговорил:
–– А вы ведь не имеете права обыскивать. Тем более, требовать раздеться. Тем боле, брать чужую одежду в свои руки.
Она бы:
–– Может быть.
Тогда бы:
–– Вызовите директора.
–– Зачем?!..
–– Или с вас шоколадка.
Она бы:
–– Ну хорошо… Вот вам…
Тогда бы:
–– Это вам.
–– Мне?..
–– Да.
–– Н-ну… спасибо…
–– Нет-нет. Вы – ешьте.
–– Как?..
–– Сейчас съешьте!
Но этак – скучно бы.
…Гнев.
Собираясь только на улицу – уже чую подступление его…
Гнев!..
Самое моё уничтожительное чувство.
И – единственное таковое.
Само-губительное.
Не на всю ли жизнь?..
Но, да, единственное.
Как я раньше этого не понимал!
То есть понимал, но не понимал до формулировки.
Да признания.
До – призвания?!..
Иначе – как же вытерпеть рядом ложь, лицемерие, срам?.. Тем более, если они – летят в тебя. Ещё пуще – с уверенностью летят, что тебя достигнут, тронут и поразят!..
С отрочества – да, с отрочества замечал за собой: одно моё подозрение… в чьей-то уверенности… будто его обо мне хитрость ему удалась… и – прямо у меня колени слабели, слабели и подгибались колени!..
Примеры, как бы «фотки»… сыплются, сыплются в меня… из пространства, памяти…
В армии офицер, мой командир… в вузе кандидат, мой преподаватель… в газете «ответсек», мой начальник… рассказал анекдот про… про то… и сам же раскраснелся, захохотал, сверля меня глазками, – а я… всего лишь побледнел… И в этот мгновенный миг – на все потом годы службы-учёбы-работы наши взаимоотношения, так сказать, определились.
…Что такое это – гнев? Гнев это грех.
Что такое грех. Грех это – не одно какое-то из перечисленных по пальцам чувств, мыслей, не настроение, не поступок тем более, а – состояние. Грех – состояние общее моё; режим, тонус… на какое-то, пусть, время… всецелое состояние моё… цвет меня!.. звук меня!..
И гнев – изменение, вмиг, цвета меня, звука меня.
Гнев – трепет. Трепет от ощущения, от ощущения в мире кого-то ещё, кого-то ещё, кроме меня… кого-то ещё вместе со мной… в мире о мире полагающего… а значит – и обо мне!..
Вот – уж весь дрожу… Весь уже дрожу!..
Вот я, вот Земной шар, вот я пребываю в осмыслении этого обстоятельства.
А-а…а кто-то что-то обо мне полагает!..
Родственник, сосед, приятель, коллега… какой-то там чиновник, какой-то там, видите ли, политик… какой-то там, видите ли, вождь!
Он обо мне, именно обо мне, может и не знать, но я-то – в мире. В том же мире. А он, значит, – будто меня нет, или, хуже того, что и наплевать на то, есть я или нет меня…
Или, что ещё хуже, – если конкретно знает обо мне, о моём в мире присутствии. И – рассуждает. И – полагает о мире, о мире, в котором я… не согласовав со мной, даже не спросив меня! Даже вовсе не озадачившись тем, что я об этом самом мире думаю!
Вот – уже, от дрожи, встал!.. Уже, в дрожи, хожу, хожу!..
На моём веку, вот же, полетели на другую планету, притом на ту, которую я каждый день наблюдаю, и… не спросили меня!.. А захочу ли я смотреть на неё, на Луну, зная, что там… кто-то бродит…
При мне, в моём присутствии, на моих глазах… распустили страну – и даже… не спросили меня лично… и так далее, и так далее…
Некто судит обо мне… и даже о моём в этом мире надлежащем поведении… и даже – о моём на этом свете… телодвижении!
Н-ну!.. Так бы и хватил сейчас стулом об пол!..
…И как теперь мне легче. – Как бы я вообще мог бы избавиться от своего гнева и от дрожания своего и слабости в коленях – если бы не понял этого самого: тот полагающий обо мне – из малого мира!.. из двухмерного пространства!.. и – во сне, во сне!.. Веденье и неведенье его обо мне – его узколобые грёзы, чахлые его кошмары…
Гнев во мне – ещё и от пребывания в мире, в таком-растаком мире… и самого меня!.. Дрожание моё – на это пребывание обречённого!..
Уж и так в мире множество – всех и разных!
…А теперь – наложилось и это: мир – мал, мал.
И каждый – судит-рядит…
Выходит, я явлен в этот мир, на этот свет… быть осуждённым!
И единственное – опять же, опять же – спасение меня от моего гнева – снисхождение к спящим.
Чтоб это такое снисхождение совсем не превратилось в прямое ко всем отвращение… пророки и бежали в пустыни!
А для всех тех, спящих, – в святые.
Не могу общаться с дураками.
Лучше б тот был сволочью.
Сволочь и сволочь. – Понятно и спокойно.
И ему, и, чаще всего, мне.
И прежде всего – противно: ещё он и трус!..
…Шёл тогда – года за два до нынешнего, официального, «кризиса» – в администрацию, в тот департамент, – не думая, впрочем, ни о чём, кроме некоего – праздничного, иначе не сказать, поздравительного.
Департаменту культуры я нёс проект! – Организовать в городе литературный салон!
–– А литобъединений мало? – накануне, при собеседовании, спросил аккуратно у меня менеджер-психолог – мужчина, без сомнений, с образованием и в очках.
Я, готовый, ответил, что следовало бы все эти творчества объединить и уровень их поднять.
Психолог был тактичен, но… чем-то озабочен.
К слову, начальников-чиновников я – сын учительский – с детства не умею бояться или хоть побаиваться.
А потом ещё – закалённый, что ни говори, в репортёрах.
(Признаюсь… слабели колени… только при мыслях, опять же, – о родне о своей о разной…)
На другой день в назначенный час зашли в кабинет (особенный чем-то…) вместе.
Директор департамента, дама полная, тоже была активна:
–– Это, конечно, нам хорошо! Нам ничего и делать не надо. И в то же время нам галочка.
Я тут вспомнил почему-то… некстати… что я иногда… дрожу…
«Нам»! «Нам»!
Стало быть, они тут, в кабинетах, только – ням-ням?!..
Директорша – опять своё:
–– А знаете что. Поднимите нам музей-усадьбу!
Я зашевелился: почему, интересно, говорят «галочка», а, например, не «вороночка»?..
Я, глядя в сторону её лица, сказал…
…Сказал – что?
Вернее бы спросить: сказал – как?..
И вот как.
Сказал – уже будто о решённом:
–– Я, разумеется, способен думать не только о-о… о процветании культуры, но и о-о… об извёстке и кирпиче…
–– Ну! Ну уж!
–– Да нет, нет. Я скромный.
–– Видно, видно.
Психолог – трудоустроенный, стало быть, здесь присутствовать – лицо головы своё чуть отвернул, но глаза оставил на лице моём.







