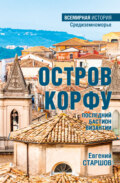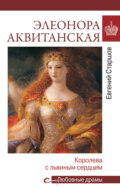Евгений Старшов
Индия и греческий мир
Последнее, о чем надо упомянуть, чтобы не заслужить обвинения в смешении «кислого с пресным» и несоблюдении хронологии, что пример храмов в Кхаджурахо иллюстрирует более поздние верования индусов – шиваизм, а еще точнее – шактизм (однако мы не видим серьезных причин – вспомните гимны Ригведы, – чтобы этот более поздний феномен не подходил нам для иллюстрации сказанного). Поясним коротко, о чем ведем речь. Дело в том, что вера в «классическую» брахмаистскую троицу, где главный бог – творец Брахма, Вишну – бог-хранитель, Шива – бог-разрушитель, в Индии эволюционировала так, что подручные Брахмы заслонили его, и господствующим течением стал вишнуизм, в котором также произошли странные изменения: стал почитаться не столько сам Вишну, сколько одно из его земных воплощений – Кришна (колесничий Арджуны из «Бхагаватгиты»). Шиваизм стал религией «низов», тоже эволюционировал (Шива стал и творцом, и хранителем, и разрушителем), приобрел многие откровенные черты шаманизма и с течением времени выделил из себя шактизм, в котором особо почиталась Шакти, супруга Шивы и в то же время олицетворение его физической и психической энергии – впрочем, возможно, здесь мы видим слияние шиваизма с древними доарийскими культами богини-матери; соответственно, большим уважением пользовалось все, связанное с союзом этих двух божеств, включая всю описанную ранее порнографию. Эротика (порой весьма жесткая) характерна для всей истории индийского искусства: вспомним танцовщицу из Мохенджо-Даро (III тыс. до н. э.), капитальную якшиню из Дидарганджа (III в. до н. э.) – мечту поэта, рельефы в Санчи (III–II вв. до н. э.), любовные пары на капителях колонн и рельефах фасада пещерной чайтьи в Карле, примечательные тем, что груди женщин больше их голов (III–I вв. до н. э.), якшиню из Матхуры (II в. до н. э.), образцы прикладного искусства из Беграма (I–II вв. н. э.), якшинь из Бутхесара (II в. н. э.), рельефы Нагарджунаконды (II в. н. э.), росписи Аджанты (VI в.), цейлонских апсар из Сигирии (V в. н. э.) и даже довольно целомудренное искусство Гандхары (напр., рельефы из Буткары, божественные пары Кубера-Харити и Фарро-Ардохшо, дионисийские барельефы и т. д.). Все не перечислишь, да и ни к чему. Даже вот в Азиатском музее Корфу оказался компромат на слоноголового бога Ганешу, доселе удачно прикидывавшегося скромником, философом-книжником: он со своей подругой придумал нецелевое применение хобота.
С другой стороны – нелегко представить, но в той же Индии в начале второй половины I тысячелетия н. э. все это проникло даже в такое поистине бесстрастное учение, как буддизм, образовав течение Ваджраяны («Алмазной колесницы»), иначе – тантрического буддизма – правда, будем справедливы, есть в классической «Истории обращения Нанды» («Удана», III, 2) эпизод, когда Будда, чтобы обратить Нанду, показал ему красоту 500 небесных апсар и пообещал, что они все станут его, но это типичный для Будды «педагогический» трюк, когда он «уловлял» людей на крючок их страстей. Началось все с визуализации Будды и божеств, затем, через протест против усиления монашества и выхолащивания им сути учения Будды, последовало заявление о том, что путь удовлетворения всех страстей тождествен пути их пресечения, и началось! «Очистка сознания» проводится через взбудораживание пучин бессознательного, а чем удачнее их взбудоражить, если не половым инстинктом? Более того, высшее блаженство, достигаемое его удовлетворением, приравняли к нирване. Махаянская доктрина пробуждения сознания из соединения метода и сострадания, мудрости и пустоты привела к отображению обретения состояния Будды в виде совокупляющихся пар. Естественно, согласно «Алмазной колеснице», йогины (мужчины) осуществляли все это на практике с мудрой (женщинами), выдавая за ритуал посвящения, да и позже не давшими монашеского обета последователям это не запрещалось такими тибетскими авторитетами, как Атиша (XI в.) и Цзонкхапа (XIV–XV вв.). Отличие от индуистского шактизма было чисто теоретическим: женская энергия шакти активна, буддийская праджня – женское начало, премудрость, интуирование реальности и природы сансары как пустоты – пассивна.
На сем достаточно, тем паче что лично автора эти обоснования, приведенные до историко-художественного отступления, как-то вовсе не убедили, ибо, по сути, одинаково глупо и давить в себе человеческую природу, скатываясь до психических и физических расстройств, и оправдывать свою порочность высокопарными псевдофилософскими рассуждениями, да и Геродот – древнейший из западных авторов, писавших об Индии, чье сочинение до нас дошло, – сухо констатировал в своей «Истории» (III, 101): «У всех названных индийских племен половое общение совершается открыто, как у скота». Правда, и наш друг Платон «вообще объявил, что женщины должны быть общими», как ужасается Секст Эмпирик в III книге своих «Пирроновых положений» (205), но мы-то знаем, что он сделал это не для потворства разврату, а для упрочения своей тоталитарной протофашистской государственной «пирамиды», где, как было упомянуто ранее, дети и родители не знают друг друга – чтоб каждый взрослый видел в «чужих» детях своих детей и заботился о них, и наоборот, чтоб в каждой взрослой паре молодежь видела родителей и относилась к ним с заботой и почтением. Древняя Индия знала культовую проституцию «девадаси» – «рабынь бога», отдававшихся за деньги, а также певших и танцевавших в честь божества. Арриан (ок. 86 – ок. 160 гг.) сообщает в своей работе «Индия» (гл. 17): «Женщины у индийцев вообще весьма скромные, не могут поддаться соблазну ни за какие блага, но если предлагают слона, то женщина принимает его и отдается дарителю. Сойтись с мужчиной ради слона у индийцев не считается позором, но признается почетом для женщины удостоиться слона за свою красоту». Наш знаменитый путешественник и горе-купец Афанасий Никитин (ум. ок. 1475 г.) писал в «Хожении за три моря» (так в оригинале, хотя более распространена форма «Хождение»): «А женки ходят с непокрытой головой и голыми грудями… В Индийской земле гости останавливаются на подворьях, и кушанья для них варят господарыни; они же гостям и постель стелют и спят с ними. Хочешь иметь с той или иной из них тесную связь, дашь два шетеля, не хочешь иметь тесной связи – дашь один шетель; ведь это женка, приятельница, а тесная связь даром – любят белых людей… В Бидаре… женки все бесстыдные… А женки Бута (принято считать, что Будды, но Никитин, пишущий об изваяниях, скорее всего, ошибается, не шибко глубоко разбираясь в басурманских верах; наверняка здесь имеется в виду Шива; какие ж у Будды «женки»? – Е.С.) вырезаны голыми и со стыдом… В Индии как малостоящее и дешевое считаются женки: хочешь знакомства с женкою – два шетеля; хочешь за ничто бросить деньги, дай шесть шетелей. Таков у них обычай… В Пегу… жены их со своими мужьями спят днем, а ночью они ходят к чужеземцам и спят с ними; они [жены] дают им [гостям] жалованье и приносят с собой сладости и сахарное вино, кормят и поят ими гостей, чтобы их любили. Жены же любят гостей – белых людей, так как их люди очень черны. И у которой жены от гостя зачнется дитя, то ее муж дает жалованье, и если родится белое, то тогда гостю пошлины 18 денег (русская «деньга» («денга») возникла из ордынской монеты еще в XIV в., с XVI в. имела конкретную стоимость – полкопейки, и находилась в обороте вплоть до царствования Александра II, при котором называлась денежкой. – Е.С.), а если родится черное, тогда ему ничего нет; а что пил да ел, то ему было законом дозволенное». Ну, теперь становится понятнее, чье дитя было в люльке у Чампы в известном советско-индийском фильме 1958 года, тем паче что сам Афанасий искренне признается: «Месяц март прошел, и я месяц не ел мяса, заговел в неделю с бусурманами и не ел ничего скоромного, никакой бусурманской еды, а ел 2 раза в день, все хлеб да воду, и с женкой связи не имел».
Интересную теорию приводит известный французский санскритолог Ш. Маламуд, комментируя упомянутую ранее историю Камаманьджари и Маричи: в этом произведении отображены многочисленные рассказы древности о небесных нимфах-апсарах, соблазнявших праведников-риши по повелению самих богов: дело в том, что риши, благодаря аскезе, накапливают сверхъестественный жар – тапас – и получают большое могущество, так что даже вмешиваются в дела богов. Так риши получаются если уж не врагами, то соперниками богов, чья деятельность становится лишенной смысла, коль скоро риши могут все предвидеть, разрушить намерения богов. Появление апсары вводит их в грех и сбивает с пути истинного, вместе с семенем (вовсе не обязательно попадающим в лоно апсары) уходит и их мощь.
В общем, индуизм не выдержал плотского искуса и не поднялся до Платоновых высот развеществленного эроса. Но не одним же философам есть место в этом мире; как прекрасно описал древний поэт жен ланкийского демона Раваны («Рамаяна», кн. 5):
Их множество было, с небесными девами схожих.
В роскошных одеждах они возлежали на ложах.
Полночи для них протекло в неуемном веселье,
Покуда красавиц врасплох не застигло похмелье.
Запястья, браслеты ножные на сборище сонном
Затихли и слух не тревожили сладостным звоном.
Так озеро, полное лотосов, дремлет в молчанье,
Пчела не жужжит, лебединое смолкло ячанье.
На лица, как лотосы, благоуханные, некий
Покой опустился, смежая прекрасные веки.
Раскрыть лепестки и светило встречать в небосводе,
А ночью сомкнуться – у лотосов нежных в природе!
…
И впрямь ослепительны эти избранницы были.
Как с неба упавшие звезды-изгнанницы были!
Уснувшие девы, прекрасные ликом и станом,
Раскинулись, будто опоены сонным дурманом.
Разбросаны были венки, дорогое убранство,
И кудри свалялись, и тилаки стерлись от пьянства.
Одни растеряли ножные браслеты с похмелья,
С других соскользнули жемчужные их ожерелья.
Поводья отпущенные кобылиц распряженных, —
Висят поясные завязки у дев обнаженных.
Они – как лианы, измятые стадом слоновьим.
Венки и подвески разбросаны по изголовьям.
Округлы и схожи своей белизной с лебедями,
У многих красавиц жемчужины спят меж грудями.
Как селезни, блещут смарагдовые ожерелья —
Из темно-зеленых заморских каменьев изделья.
На девах нагрудные цепи красивым узором
Сверкают под стать чакравакам – гусям златоперым.
Красавицы напоминают речное теченье,
Где радужных птиц переливно блестит оперенье.
А тьмы колокольчиков на поясном их уборе —
Как золото лотосов мелких на водном просторе.
И легче в реке избежать крокодиловой пасти,
Чем власти прельстительниц этих и женственной страсти.
Цветистых шелков переливчатое колыханье
И трепет серег вызывало уснувших дыханье.
Раскинув прекрасные руки в браслетах, иные
С себя дорогую одежду срывали, хмельные.
Одна у другой возлежали на бедрах, на лонах,
На ягодицах, на руках и грудях обнаженных.
Руками сплетаясь, к вину одержимы пристрастьем,
Во сне тонкостенные льнули друг к дружке с участьем.
И, собранные воедино своим властелином,
Казались гирляндой, облепленной роем пчелиным, —
Душистою ветвью, лиан ароматных сплетеньем,
Что в месяце «мадхава» пчел охмелили цветеньем.
И Раваны жены, объятые сонным покоем,
Казались таким опьяненным, склубившимся роем.
Тела молодые, уборы, цветы, украшенья —
Где – чье? – различить невозможно в подобном смешенье!
…
В объятьях властителя ракшасов спали плясуньи,
Певицы, прекрасные, словно луна в полнолунье.
В серьгах изумрудных, в душистых венках, плетеницах,
В подвесках алмазных узрел Хануман лунолицых.
И царский дворец показался ему небосводом,
Что в ясную полночь блистает светил хороводом.
Плясунья уснувшая, полное неги движенье
Во сне сохраняя, раскинулась в изнеможенье.
Древесная вина лежала бок о бок с красоткой,
Похожей на солнечный лотос, плывущий за лодкой.
Уснула с манкукой одна дивнорукая, словно
Ребенка баюкая или лаская любовно.
Свой бубен другая к прекрасным грудям прижимала,
Как будто любовника в сладостном сне обнимала.
Казалось танцовщица с блещущей золотом кожей
Не с флейтой, а с милым своим возлежала на ложе.
С похмелья уснувшая дева движеньем усталым
Прильнула своим обольстительным станом к цимбалам.
Другая спала, освеженная чашей хмельною,
Красуясь, подобно цветущей гирлянде весною.
Прикрывшую грудь, словно два златокованых кубка,
Красавицу сон одолел – опьяненью уступка!
Иной луноликой – прекрасные бедра подруги
Во сне изголовьем служили, округлы, упруги.
Уснув, музыкантши, – как будто пред ними любимый, —
Сжимали в объятьях адамбары, флейты, диндимы.
И, на удивленье пришельцу, глядящему в оба,
Одно бесподобное ложе стояло особо.
Красы небывалой и нежного телосложенья
Царица на нем возлежала среди окруженья,
Бесценным убором своим из камней самоцветных,
Сверканьем огнистых алмазов и перлов несметных
И собственным блеском сиянье чертога удвоив.
Мандодари – звали владычицу здешних покоев.
Была золотисто-смугла и притом белолица,
И маленький круглый живот открывала царица.
Сверх меры желанна была эта Ланки жилица!
Закончим этот раздел тоже стихами – но уже европейскими. Луис де Камоэнс (ок. 1524–1580 гг.), великий бард Португалии и открытия Васко да Гамой (1460–1524 гг.) морского пути в Индию, в своем эпосе «Лузиады» весьма причудливо связал обе наши темы – Индию и Афродиту небесную Платона – по крайней мере, таково мнение греческого ученого Периклиса Хаджикириакоса: «Сходный мотив о Небесной Венере можно найти в поэме “Лузиады”. Знаменитое эпическое произведение португальского поэта Луиса де Камоэнса было впервые опубликовано в 1572 году. И снова здесь мы видим Афродиту как воплощение небесной любви. На райском острове богини герои поэмы вознаграждены «Божественной Любовью». Однако в поэме «Лузиады» остров Афродиты, который «где-то рядом, там, где беседки Рая», располагается в Азии, недалеко от гор, откуда берут свое начало реки Ганг и Инд». Что случилось на острове по велению Афродиты меж нимфами и моряками, Камоэнс описывает в IX книге поэмы в стиле, вполне сравнимом с «Кхаджурахо» (разве что без извращений), так что божественна ль та любовь, почем знать; ну, а самому Васко да Гаме нимфа довольно по-платоновски говорит:
Делами вашими король любимый
Прославится, и будет смерть легка,
Для доблести в бою неустрашимой
И превзошедшей прежние века.
Не может цели быть недостижимой:
Стремитесь к ней еще издалека,
Явите несравненные примеры —
И будете на Острове Венеры.
Еще полбеды, если б это была простая поэтическая ложь; гораздо страшнее, что за этим «островом Венеры» кроются вполне реальные острова Анжедива, которые португальцы во главе с Васко да Гамой «посетили», покидая Индию; там они вероломно напали на индийские корабли, захватили их груз, индусов большей частью перебили на кораблях, а добравшихся вплавь до островов переловили в лесу; 36 человек обратили в рабов, а прочих пленных согнали к утесу, ударяли каждого мечом и сталкивали в море (5 октября 1498 г.).
Последняя параллель, которую осталось провести меж философией Платона и Индии, вновь представлена в работе С.Я. Шейнман-Топштейн «Платон и ведийская философия», в приложение к которой она поместила перевод диалога «Политик» и фрагменты из, наверное, самой знаменитой части «Махабхараты» – «Бхагавадгиты». Эта часть поэмы – самая поздняя, современная Платону или даже «младше» его. Исходя из общего состояния политической раздробленности тогдашних Греции и Индии, ставшего своеобразной почвой для сравниваемых произведений, ученая видит явное сходство теории греческого философа о качествах идеального правителя с поучением, с которым Кришна обращается к Арджуне; впрочем, анализ мы дадим свой, и сходства окажется все же гораздо меньше; можно сказать, здесь мы с С.Я. Шейнман-Топштейн не согласны. Итак, путем долгого диалектического рассуждения о пастырях, искусстве ткачества и т. д., уподобляя правителя хорошему (!) кормчему и врачу – тоже хорошему, а не шарлатану и лихоимцу, не заинтересованному в выздоровлении больного, Платон показывает, что мужественный, воздержанный, умеренный и справедливый правитель, будучи выше «мертвого» закона, заботясь о государстве и людях, ведет их к высшему благу, совершенству и истине: «Подобно тому как кормчий постоянно блюдет пользу судна и моряков, подчиняясь не писаным установлениям, но искусству, которое для него закон, и так сохраняет жизнь товарищам по плаванию, точно таким же образом заботами умелых правителей соблюдается правильный государственный строй, потому что сила искусства ставится выше законов. И пока руководствующиеся разумом правители во всех делах соблюдают одно великое правило, они не допускают погрешностей: правило же это состоит в том, чтобы, умно и искусно уделяя всем в государстве самую справедливую долю, уметь оберечь всех граждан и по возможности сделать их из худших лучшими» (296–297). Но если правитель и выше закона (для пользы людей), то «никто из граждан никогда не должен сметь поступать вопреки законам, посмевшего же так поступить надо карать смертью и другими крайними мерами» (297) – если, опять же, это не принесет всеобщей пользы, ради чего придется старый закон пересмотреть. Рассмотрев последовательно военное, судебное и ораторское искусства, сродные искусству правления, Платон пишет: «Относительно всех перечисленных знаний надо заметить, что ни одно из них не оказалось искусством государственного управления. То искусство, которое действительно является царским, не должно само действовать, но должно управлять теми искусствами, которые предназначены для действия; ему ведомо начало и развитие важнейших дел в государстве, благоприятное и неблагоприятное для них время, и все прочие искусства должны исполнять его повеления… Если же обозначить одним именем способность того искусства, которое правит всеми прочими и печется как о законах, так и вообще обо всех делах государства, правильно сплетая все воедино, то мы по справедливости назовем его политическим» (305). Далее он советует правителю, воспользовавшись аналогией с ткацким искусством, «переплетать» роды мужественные («воинственные») с умеренными («рассудительными»), чтоб ни первые, получив преобладание, не вовлекли своей агрессивностью государство в бедствия войн, ни вторые, любя покой и досуг, не обрекли б государство на военное поражение, а людей – на рабство (см. 307–311).
К действию и мужеству Платонова правителя призывает и Кришна Арджуну; надо подавлять в себе стремление к удовольствиям, страсти, гнев и т. п. Правда, действовать надо отрешенно (и здесь – главное отличие от Платона), не будучи заинтересованным в конечном результате. Действие ради действия… Конечно, по сравнению с бездейственной медитативностью предшествующего философского периода Индии это уже прогресс, особенно если учесть, что учение «Бхагавадгиты» открывалось женщинам и шудрам, что прежде, в эпоху упанишад, было немыслимо (отметим, кстати, что мы здесь исследуем лишь один аспект, а их в «Бхагавадгите» много – это и учение о йоге и йогине, Абсолюте и майе, знании, трех гунах (саттве, раджасе и тамасе) – безличных качествах, возникающих из пракрити, рае (сварга) и аде (нарака), и др.); однако, повторимся, бесцельность с точки зрения практики – налицо. Но это, скажем так, европейский взгляд, ибо у индусов цель-то иная: исполнить дхарму. Предназначено Арджуне, как кшатрию, сражаться – значит, он должен идти в бой, даже против своей родни. Это ужасает Арджуну – «Почему к ужасному делу ты меня побуждаешь?» (III, 1). Кришна стыдит воина, напоминая о том, что уклоняющийся от боя воин достоин только позора (кстати, в Индии дезертиров с поля боя, в случае победы их армии, закидывали камнями или заворачивали в сухую траву и сжигали заживо); высшая доблесть кшатрия – пасть на поле битвы, ибо, если ему случается умереть дома, то, что называется, в своей постели, и то – для исполнения дхармы воина его тело следует рассечь мечом на несколько кусков, словно он пал в бою. Итак, Кришна начинает ударяться в софизм, говоря о предпочтении дела бездействию и отрешенному исполнению дхармы, в чем и заключается спасение и свобода. Надо действовать, не заботясь о плодах действия: «К плодам действий, покинув влеченье, всегда довольный, Самоопорный, он хоть и занят делами, но ничего не совершает. Без надежд, мысли твои укротив, всякую собственность бросив, выполняя действия только телом, он в грех не впадает. Удовлетворенный нежданно полученным, двойственность преодолевший, незлобивый, в неуспехе, в удаче равный – не связан, даже дела совершая, Он не привязан, свободен» (IV, 19–23). Идеал действия – «должное действие, лишенное привязанностей, совершенное беспристрастно, без отвращенья, без желания плодов» (XVIII, 23); идеал исполнителя – «делатель, свободный от связей, настойчивый, решительный, без себялюбья, неизменный при неуспехе, успехе» (там же, 26). Вывод из всего этого парадоксальный – Арджуна не совершит греха, если будет сражаться отрешенно, насилие, направленное на торжество справедливости, вовсе не насилие, тем более что смерть – иллюзия, и никого действительно убить он не сможет, существование постоянно (пер. с англ. – Е.С.): «Никогда не было времени, когда бы я не существовал, и ты. И не будет такого будущего, в котором нам бы не довелось быть» (II, 12). Эти слова привел Джордж Харрисон на своей пластинке 1981 г. «Somewhere in England», посвященной памяти Джона Леннона. Убежденный Кришной, Арджуна вступает в бой.
Теперь и мы перейдем от философии к боям настоящим, хотя и не оставляем ее окончательно. Самый выдающийся ученик Платона, Аристотель, откажется от большей части идеализма своего учителя, заявив известное «Платон мне друг, но истина дороже» и объявив платоновско-пифагорейский метемпсихоз «бабьими баснями», а уже его ученик, Александр Македонский, железной рукой соединит Восток и Запад, навсегда изменив этот мир.